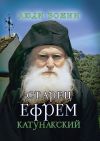Автор книги: Галина Уварова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Что-то мелькнуло за еловой лапой, опустившейся на брусничную кочку. Я насторожился… Ещё мгновение – и на сцену буквально выскочил он – рябчик, собственной персоной! И именно там, где я и предполагал! Он вышел из-под ветки и остановился, вертя головой и оглядываясь, пытаясь определить, откуда доносились эти подозрительные, чужие звуки. Выстрел! Петушок мягко лёг на мох, оставив в воздухе несколько мелких, выбитых дробинкой пёрышек. Они медленно поплыли по ветру и исчезли в темнеющем ельнике. Совсем как утренний туман над озером… Второй рябчик в рюкзаке – надо идти дальше.
Заброшенная лежнёвка ведёт меня вдоль опушки. Я медленно продвигаюсь вперёд, периодически свищу манком, пытаясь сходу заставить притаившихся недалеко от дороги рябчиков выдать себя. Но лес молчит, и я меняю тактику. Надо просто выбрать подходящее место, усесться поудобнее и начинать манить, ожидая, когда бравый петушок сам пешком придёт к тебе. Такой сегодня день – день рябчиков-пешеходов. Вот и третий рябчик показался в мелком березнике на краю заросшей вырубки. Он мелькает за тонкими стволиками, останавливается, осматривается и идёт дальше. На его пути старый пенёк, покрытый зелёным мхом. Уж его-то рябчик точно не минует – с него так удобно оглядеться вокруг. Он вспорхнул на этот пенёк и на какое-то время застыл неподвижно, сидя на самом виду. Чеканно застыл! Здесь уж невозможно промахнуться! И третий «пешеход» вскоре перекочевал в рюкзак.
Прошло совсем немного времени – я сижу на краю лежнёвки. Рюкзак открыт. Я ладонью оглаживаю сегодняшнюю добычу и перекладываю их поудобнее. Мои рябчики!.. Красавцы… Закуриваю, с наслаждением пропуская дым в лёгкие… Голова кружится немного… Азарт охотничий утих и идти дальше уже не хочется. А хочется просто лечь спиной на настил лежнёвки, смотреть вверх, провожая глазами клочья облаков, резво бегущих на Запад. Я знаю, – это к заморозку!
Роюсь в дальнем кармане и в первый раз достаю свои часы. День-то, оказывается, уже давно перевалил за полдень. Пора собираться в обратный путь, к машине: в три часа в лагере ждёт обед, и у нас не принято опаздывать к столу.
Нехотя поднимаюсь. Ещё раз обвожу глазами красивую вырубку, лесной остров, надеваю потяжелевший рюкзачок и спрыгиваю с высокой лежнёвки на мох. Сокращая обратный путь, иду к машине напрямик через вырубки. Глаза по привычке ощупывают следы на земле и на подсохших лужах, обыскивают разбросанные по вырубкам вековые осины, не тронутые лесорубами. Уши реагируют на любой звук вокруг. Но это всё на «автопилоте» – голова занята другим: я уже начинаю вспоминать сегодняшнюю охоту как событие, отошедшее в анналы, пытаюсь анализировать и чувствую, как понемногу в уме начинает собираться рассказ для друзей-охотников – рассказ о рябчиках-«пешеходах».
Да, нужно ещё друга на обратном пути забрать. По времени ему тоже уже пора выходить из леса. Интересно, какие рассказы он собрал в лесу….
Вадим Ионов Совершенство – Миниатюра. 02.10.2015
Иван Кузьмич сидел на любимой скамейке, смотрел на сохнущее соседское бельё, что болталось на верёвке, и думал о прищепках. Если кто полагает, что думать о прищепках – это легко и просто, то он глубоко заблуждается.
Легко и просто думать о вечной любви, о хлебе насущном и о мировой революции. Однако эта лёгкость и простота, по печальному опыту Кузьмича, всегда была чревата нехорошими последствиями.
Потому как в этой задумчивости можно такого понаворотить, что ни с того, ни с сего, взять да и вляпаться в томление духа или в паранойю богатства, а то и попасться в какую партийную секту. В минуты таких не радужных перспектив Ивана Кузьмича посещала оторопь. Посещала, принюхивалась и брала…
А взяв, держала в своих объятиях, приговаривая: «Ух ты, мой родненький Кузьмичик! Голуба ты моя, головастенькая!» Объятия эти были Кузьмичу неприятны и даже омерзительны, но и отвязаться от них он не мог по причине временного остолбенения.
В связи с этим им и были отвергнуты мысли общественно-замусоленные, затёртые говорильней и сомнительными лозунгами. Тем более что за этими лозунгами призрачной злобной тенью всегда стояла она – оторопь…
Закончив с анализом своего лирического отступления, Иван Кузьмич поёрзал на скамейке, сложил руки на груди и вернулся к думам о фундаментальной значимости прищепок, как категории скрепления двух родственных начал.
Занимательным здесь было то, что сами родственные начала – бельевая верёвка и штаны всевозможных конструкций, скреплялись быстро и надёжно какой-то деревянно-пружинной пустяковиной. Скреплялись без капризной клеевой липкости и без единого гвоздя. Чик – и готово! Чик – надевай и отчаливай! И что интересно – всегда вот это самое «чик» без каких-либо мучений и досадных чрезмерных поломок.
Но самым удивительным Ивану Кузьмичу показалось то, что конструкция этой самой пустяковины, за всё обозримое прошлое, почти не претерпела каких-либо существенных изменений. Она была изначально замечательно-гениальной. И как любая замечательная гениальность, проявленная в качестве совершенства, чихать хотела на все эти стрессы-прогрессы, на все эти «давай-давай» и «дуй до горы»! Чихать громко, всласть, без оглядки на этикет и условности приличия.
Утвердившись в своей мысли об отчуждённости и равнодушии всякого совершенства, Кузьмич шумно вздохнул и, сокрушённо покачав головой, был вынужден признать, что в нём, в этом самом совершенстве, отсутствует, и отсутствует полностью, запас какой-либо суеты, чаще всего называемой движением. И что оно либо благосклонно позволяет собой пользоваться, либо безучастно принимает своё же забвение, при этом не проявляя никакого интереса ни к Кузьмичам, ни к Поликарпычам, и нет в нём к ним никакого сочувствия и желания наставлять на путь истинный.
Когда соседка, оповестив о своём присутствии басовитым: – Здоро́во, Кузьмич! – стала снимать сухое бельё, Иван Кузьмич подошёл к забору и сказал: – Семёновна! Будь любезна! Одолжи мне пару прищепочек, – и, чуть помолчав, добавил, – с отдачей.
Семёновна обернулась и, подойдя к Кузьмичу, протянула ему прищепки, при этом она улыбнулась и пробасила: – Сосед, дорогой, с какой отдачей? Вещь-то копеечная! Бери так! Пользуйся!
Иван Кузьмич поблагодарил щедрую женщину и пошёл в сарай за пассатижами. Надо было разобрать на части это копеечное совершенство и, в конце концов, всё-таки понять, что же там у него внутри…
Алексей Брайдербик. Избыточность – Рассказ. 17.09.2015
Избыточность – ловушка безвыходности. При избыточности все перекрестки, повороты и изгибы приводят к фатальному тупику.
Пустота – избыточна. Например, есть пустая комната. Пустота, заполняющая ее, избыточна, так как, кроме нее, нет ничего. Пустота перестает быть избыточной только тогда, когда в помещении появляется что-либо. Нечто своим существованием уравновешивает ничто.
Вдалеке между выжженной землей и пустотой неба виднеется расплывчатое пятно зари. У нее два бледных хвоста, один – сверху, другой – снизу. Первый хвост опущен в небо, второй едва касается тверди.
Заря – надежда? Нет! Она – символ повторяемости смерти. Заря – очередная атака врага – и вновь гибель людей. Вчера, сегодня, завтра…
Руины города – царство войны. На мглистых полях смерти – улицах и площадях города – война разожгла пожар боли, отчаяния и крови. Скелеты строений просеивают пламя страданий сквозь сплетения железных костей.
Две стены – холода ночи и тепла от многочисленных костров – стояли, прижавшись друг к другу.
На куске бетонной плиты сидел солдат и размышлял:
«Любовь представляется мне уродливой и неуклюжей. Это чудовище потрошит людей, выдирает из них корни мыслей, логики и рассудительности и уносит с собой растерзанные тела. Монстр рождается из обычной человеческой привязанности, из семян симпатии и цветов дружбы. Он волочит нас, мы машем руками и ногами, отбиваемся, что-то кричим, кого-то зовем – безуспешно. В чудовище сплетены преисподняя и рай, ему чужды звуки, и оно не способно рождать слова.
Одиночество по-своему интересно, оно может уничтожить мир – или спасти человеческую душу. Одиночество заставляет смотреть во всякое лицо любви – красивое, уродливое, искаженное. Ненависть, к слову, тоже чудовище, только это – промежуточная ипостась любви. И на самом деле любовь заканчивается не ненавистью, а безразличием. Сначала мы любим, затем ненавидим, а после нам всё равно.
Я стремился к женщинам, чья душа – утонченная осенняя грусть, нежность сумерек после жаркого дня, прозрачная и нежная, как шелк, прохлада. Но всегда натыкался на женщин с огненными вихрями в сердце, обжигающим жаром души, темпераментом бури. С такими женщинами у меня не получалось создать семью.
Я хотел видеть своей второй половинкой женщину, сущность которой была бы подобна благоухающим плодородным дубравам и рощам, освежающим горным родникам и зеленым лугам. Однако почему-то несколько раз женился на женщинах, в чьей природе присутствовала твердость скал и рифов, сухость раскаленных песков безжизненной пустыни, стужа антарктических равнин.
Я от раза к разу начинал избыточностью и заканчивал ею – две избыточности противоположны друг другу, а умеренность где-то над и под ними. Я был на одном уровне с двумя избыточностями, причем точно посередине между ними.
Каждый живущий на земле человек находится под присмотром высших сил – я не исключение, но могу ли я своего покровителя назвать другом? Разумеется!
Он всегда пребывает на грани умеренности между острой чувствительностью и абсолютной бесчувственностью – между умением плавать как рыба и неспособностью держаться на плаву. Он глыба бытия на перепутье прошлых событий, настоящих свершений и предстоящих возможностей.
Лето прикрепляет к его спине крылья. Зима покрывает его шерстью. Весна превращает его руки и ноги в плавники, а легкие – в жабры. Осень возвращает его телу человеческую кожу.
Но он не человек, не животное, не призрак и не пришелец с другой планеты. Он не смерть и не жизнь. Он – промежуточная форма между человеком и животным, переходное состояние между жизнью и смертью. Он нечто среднее между призраком и пришельцем. Тот, о ком я говорю, – химера, рожденная от слияния каждой из промежуточных форм.
Мой друг – единственный, кому я рад всегда. Я никогда с ним не ссорюсь, как с двумя старшими братьями и родителями. Мы разные – как огонь и вода, земля и воздух. Буря и тихая солнечная погода. Нет таких интересов, занятий, мыслей, которые объединяли бы нас. Почему так? Неизвестно. Возможно, всё дело в уникальности внутреннего мира каждого из нас. Одинаковость сущностей двух внешне не похожих людей таится в непреднамеренном договаривании друг за другом фраз, мыслей. Понимание того, что человек с тобой рядом очень близок тебе по духу, наступает буквально с первых минут общения с ним.
Я не чувствую духовного родства с членами семьи. В идеале все наши интересы, стремления, общие темы для бесед и мироощущения должны сразу же скрепляться, склеиваться, срастаться, однако на деле всё перечисленное происходит лишь «параллельно».
Я не плохой, не злой, не жестокий – тогда почему я родился в семье таких людей?
Если меня представят к какой-нибудь награде, например, за мужество, – я. впрочем, пока не совершил ни одного героического поступка, но, надеюсь, у меня еще будет такой шанс, ведь пока ни одна из сторон не проиграла войну, – то пришел бы я на церемонию награждения со своей семьей или с другом? Думаю, что друг искренне порадовался бы за меня».
Солдат вместе с сослуживцами пережил и бомбежку, и обстрелы. Даже врага сокрушали вместе. Они все были связаны смертью, кровью и болью. Печально осознавать, что только это может роднить некоторых людей, раз и навсегда делать их единым целым – избыточность и крайность. Может ли в будущем наступить умеренность? Да!
Ирина Артюхина. Обычная история – Сказка. 07.09.2015
Случилась эта история несколько лет назад. Как-то в разгар листопада, погожим днём, во влажном осеннем воздухе кружилось семечко. Его нашёл ветер где-то среди шелеста листьев, подхватил и потащил за горизонт. Семя то взлетало ввысь, то падало вниз, то кубарем каталось по земле, путаясь в сухих травах и старых ветках, а то опять, подхваченное порывом ветра, взлетало высоко-высоко над землёй. Обрамлённое в полупрозрачный белый шарфик-крылышки, летело семечко всё дальше и дальше. Пока не выдохся ветер. Пока не наступила ночь…
– Здравствуйте! – радостно приветствовала всех вокруг крохотная Веточка, пробившая толстый слой земли своей маленькой головкой. Вздрогнув на мгновение от прикосновения теплого, ласкового солнечного света, она откатила листочком от себя подальше комок земли, выпрямилась и улыбнулась новому миру, обступившему её. – Вот я и проснулась!
Её окружили местные жители, с интересом глядя на новенькую, и стали шумно делиться впечатлениями друг с другом.
– Какая маленькая… – прошелестела Травка, разглядывая Веточку со всех сторон.
– Какая миленькая… – захлопала в ладошки Ромашка.
– Какая наглая… – фыркнула Крапива и растопырила свои ядовитые иголки в разные стороны.
– Какая звонкая… – пропел Колокольчик, раскачиваясь в такт с ветром.
– Какая красивая… – засмущались Незабудки и зашушукались между собой.
– Какая крупная… – озадачился Одуванчик, надув жёлтые щеки.
– Какая сильная! – восхитились Сорняки, видевшие, как ловко Веточка откатила большой ком земли.
Они обсуждали её рост и размер, восхищались силой маленького стебелька и сияющей поверхностью её листочков, умилялись над уверенностью малышки и её жизнерадостностью. Шумело, шелестело взволнованно зеленое население, пока свой голос не подал всеми уважаемый житель этой местности Шиповник:
– Тихо все. Что расшумелись или никогда не видели, как просыпаются росточки? Напугаете её своим гомоном. – И, уже обращаясь к малышке: – Не бойся, здесь тебя никто не обидит – расти спокойно. А как тебя зовут?
– Я не знаю, – сказала Веточка. – И не помню, как оказалась здесь. Помню только, что долго играла с ветром, летала по воздуху, потом устала, упала на землю и уснула.
– Она не знает, она не знает… – захихикали Незабудки.
– Хм… – хмыкнула Крапива и отвернулась.
– Ну, и что, что не знает? – весело подмигнула Ростку Ромашка.
– Это не важно, как тебя зовут, а важно – кем и какой ты вырастешь, но ведь нам нужно к тебе как-то обращаться? – рассуждал задумчивый Одуванчик.
– Пока ты не подрастёшь и не обретёшь свою настоящую форму, мы так и будем назвать тебя Веточкой, – сказал Шиповник и зашуршал своей листвой.
На том и порешили. И стала маленькая Веточка полноправным жителем большой Зеленой страны…
Не день и не два Веточка обретала свою форму. Она очень старалась найти своё настоящее имя. Каждое утро она умывалась прохладной росой. Каждый день Веточка, улыбаясь солнышку, тянулась к нему. Шепталась с ветерком и махала ему вслед. Тихо стояла под дождиком, растопырив листочки, которых становилось всё больше и больше на её тельце. И однажды мудрый Шиповник, с удивлением поглядев на Веточку, сказал:
– Малышка Веточка, теперь я знаю, как тебя зовут. Ты подросла за это время, вытянулась, похорошела, и я вижу, кем ты стала.
– Кем же? – воскликнули жители Зелёной страны.
– Говори скорее, Шиповник, – заволновались, зашелестели Травы.
– Кто же я? – взволнованно спросила Веточка, глядя на важного Шиповника.
Шиповник улыбнулся, ласково погладил Веточку по листочкам и сказал:
– Твоё имя, малышка, Берёзка.
– Ура! – радостно закричали все.
– Какое красивое имя у меня, – смутилась Березка и зашелестела зелёной листвой.
С тех пор растёт Березка среди Одуванчиков, Незабудок, Трав, Колокольчиков, Ромашек и других растений там, куда занесло её ветром однажды, и где она впервые проснулась…
Ирина Бауэр Труба Фрица – Другое. 31.08.2015
У Фрица в голове обитала труба. Когда приходили на землю осенние ветры, когда первозимок вьюжил, вытягивая жилы из небесного рая, сквозняк в трубе стоял неимоверный. Фрицу казалось, что тысяча голосов поселились в его голове и живут своей жизнью, самодостаточны вне зависимости от держателя квартиры: переговариваются друг с другом, телефон не замолкает ни на минуту, голоса ходят друг к другу в гости, напиваясь до отвала даровой водочкой, машины выруливают на зернистом асфальте, отдавая в висок болью, клянчат, скулят, по-собачьи лепечут, выгибая спины, голоса бунтуют, предают, защищают, словом, бредят, и все это обилие страстей почему-то прописалось на территории трубы Фрица. Шуршащее, орущее, мычащее братство одного единого, вобравшего в себя плоть пространства звука. И тогда Фрица захлестывали воспоминания. Цветной лоскут, горсть соли на дощатом столе, пьяный дьяк, отпевавший мать, крал за алтарем вино между приступами слёз отца, отречение Фрица, радость родственников, герань на столе.
Жизнь в коллективе Фрица не устраивала, он презирал всякого рода стадность, содрогаясь от необходимости жить в тесном сгустке голосов. Подвижность воздуха внутри трубы бесила его до одурения, ведь Фриц стремился к статичности, поэтапному устроительству жизни в трубе, аккуратности при выборе знакомых и недопущения к трубному миру родственников, упаси Бог, и, конечно, всякого рода приятелей. Строго памятуя, что дружба – бремя, всякий раз, когда появлялся на пути Фрица друг, требовалась жертва, от Фрица пытались отломить краюху пожирней. Дружба вещь обременительная, утомительная и потому – никакой дружбы.
Фриц обожал до слез ярко-красный зонт, зонт, под которым он жил в гармонии с внешним миром, который терся о его, Фрица, ноги. Но голосá, подлые голосá с новой силой наваливались, скрутив по рукам и ногам, обезоруживая разноголосицей, тормошили Фрица, не давая ему уснуть. О, Дуда! Если бы не ты, Дуда, кто знает, в какие дебри ужаса завели Фрица голоса. Дуда приходила к нему вначале редко, случайно, затем все чаще и чаще. А ведь каких трудов стоило Дуде забраться Фрицу на плечи, а уж оказаться на высоте, там, на холке тени, границе между тем и этим миром, на высоте, где маячит знакомый зонт. Тем более что в январе земля слабеет, на высоте остаться непросто, тень Фрица сжималась, становясь кукольной, но место упруго и властно держит за руки хозяина, а зонт не сдвинешь. Что пришлось по сердцу Дуде? Разве женщина расскажет всю правду до конца мужчине, но мне, соглядатаю и фискалу в одном лице, мне, осеннему ветру, знать приходилось многое. Наверняка Дуде нравилась стабильность жизненного пространства Фрица, та уверенность, с которой он никогда не расставался при всей его ноюще-плачущей физиономии. Женщина пообвыкла, шмыг запросто под зонт, все реже стала она покидать насиженное место, крапленое пространство, так много съевшее кусков от воображения наивной Дуды.
– Грудастая Дуда, сахарная тянучка! Счастливец тот, кому выпадет счастье прижаться губами к белой, пахнущей корицей коже, подбородку, сытому, отяжелевшему белому телу, горячим дыханием оберечь нежную Дуду, целовать пупок, величиной с маслину, – лепетал Фриц во сне.
А когда подолгу наблюдал за Дудой, испарина выступала на коленях, словно соль сквозь уставшую гимнастерку, а сердце с разбега уходило в пятки, одержимое единым припадком: Фриц хотел эту женщину. Сразу и всю! Фриц знал наверняка: стóит ему пожелать Дуду, невидимый Бес, давний недруг его зонта, встанет в тень пирамиды и примется наблюдать за Фрицем, возьмет в плен его, Фрица, сознание. Он хотел Дуду не так, как вчера, но сильней, чем сегодня. Время, в том числе и наши желания, имеет изнанку, стертая облицовка по волокну. Ну, не растут пальмы в Сибири, а хочется! В бедламе для Фрица находился душок подлости и предательства, причем настолько весомый, что Фриц не мог совладать со своими желаниями, не находя покоя. В теле у Фрица обитала вялость, в каждом суставе, в каждой клетке, в каждой волосинке. Но когда прижимал он Дуду, именно эту женщину, когда целовал ее влажные губы, к которым пристал волос медного цвета, выбившийся из-под заколки, во рту, вязком от слюны, метался незримый шарик, и потому Фрицу нужно непременно попасть в лузу, иначе нельзя, для того она, луза, и сооружена, чтобы припереть к стене игрока.
– Извращенец, – смеялась Дуда, впиваясь болезненными поцелуями в мясистый, потный нос Фрица.
Однако налетали ветры, свидание комкалось, сквозняк, враг человечества, усиливался в трубе, и тогда Дуда начинала тихонько плакать, припадая плечом к ворсистой обивке шезлонга, устав от слез, сворачивалась волчком и засыпала. До лучших времен, Фриц! Но чаще она читала, причем делала это своеобразно. Вначале, удовлетворившись эпилогом, затем нехотя, с опаской, начинала с первой страницы, скука торжествовала над любопытством, напускная серьезность, уступала место флирту с книгой, а затем уже лень, мягко, мягко изворачиваясь, вставала на караул у изголовья. Всем видом Дуда показывала облюбованную жертвенность, вот, дескать, трачу время на сладенький романчик, целýю Фрица, сижу в шезлонге, слушая изо дня в день ветер, застывший в кронах деревьев, идут ливни, не прячусь под зонт, пренебрегая временем и здоровьем.
Частенько Дуда, взяв широкую белую скатерть, спускалась в долину, поближе к лесу, зазывала, таким образом, летучих мышей в гости. До утра компания пила вино Фрица, мыши вели себя по-хамски: истребив медовые яблоки, громко хрюкали, захлебываясь весельем, кружили Дуду, посадив на крылья, плевали сверху на Фрица, бросая на землю крупные сколы града, затем бесконечно таскались в туалет, аукали, как заведенные, забравшись в трубу. Казалось, что мучить Фрица (мыши не давали и ему толком выспаться) является главной целью их визита. Наутро, когда усталость, соседка бессонной ночи, трепала холки кустам сирени, мыши, не прощаясь, исчезали, и Дуда, присмирев, курила принесенные липучками (так Фриц называл мышей) сигареты, нехотя болтая босой ногой перед лицом Фрица.
– Подлые потаскушки, – ругал мышей Фриц.
Табачный дым, попадавший в отверстие трубы, доставлял настоящие мучения, голова шла кругом, во рту вязкость горьковатой слюны, тоска сжимала грудь. Препаскуднейшее ощущение! Дуда, казалось, не замечала метаний Фрица, лежала себе, расслабленно уставившись в небо, впав в оцепенение; чувствовалось, она устала от праздника, сладко потягиваясь, глядела на Фрица и не видела, широко разметав белые ноги.
«Лесбиянки чертовы, – клял мышей Фриц, – в следующий раз изничтожу липучек, развратниц».
Но наступал новый день, Фриц успокаивался, разглядывая с высоты людей, которые толклись у домов, сидели в палисадниках, бегали, как заведенные машины, товарные вагоны, слепые инстинкты требовали пищи, геологи отправлялись в экспедиции, словом, все как всегда укладывалось в схемы и коды жизни. Так бы и жили себе Фриц и Дуда, если бы не письмо, злосчастная бумажка, перед всесилием которой Фриц чувствовал себя фиговым листком, способная уничтожить человеческий мир и надежды, разом быстро и бесшумно.
– Это катастрофа, Дуда, – у Фрица дрожали губы.
– Ветры утихли. Скоро родится новый месяц, – пыталась обнадежить женщина.
– Нужно срочно возвращаться на землю и закрасить дороги, перерисовать мир, изменив его, как можно быстрей, – настаивал Фриц. – Посмотри, Дуда, прежде я не замечал, как много на земле канав, оврагов, как обильно исполосовали дороги, пахнущую сырцом, землю.
Все следующее утро Дуда и Фриц красили, перекрашивали, поменяв местами деревья, шоссе и трассы, откатили прочь камень, границу мирозданья, вправо, галочьи гнезда таскали с места на место, позже, растерявшись, пересыпали гнездами травы, самые крупные водрузили на сосны и ели. Помогло? Бумажка подкралась, неведомая и сильная в незнании своем, жадно вгрызалось уведомление, создавая преграды на пути двоих. Там, на земле, незнакомый ангел, самозванный герой, кроил нимбы из терновника и пчел, гудели змеиные свадьбы, забытый шаман бил в бубен и оставалось либо закрыть глаза, либо потерять себя.
На сороковой день от получения бумаги прикатил дядя. Весело помахал рукой в знак приветствия; там, на земле, дядя казался ростом с муравья, Фриц в первую минуту, увидев дядю, устыдился прежних страхов, что же касается дяди, сила родственной крови была настолько сильна, что переборола первое замешательство. Гость бодро принялся карабкаться на недосягаемую, на первый взгляд, высоту. Стабильность шезлонга Фрица дядя учуял сразу, как чует гончая запах взбесившейся лисы. Нежно вгрызаясь в пространство, дядя всасывал запахи родственника, ворковал, вздрагивая огромным избытком живота. На высоте жить так сладко, по разумению дяди здесь мало ответственности и много изобилия! Не порядок, нельзя для одного Фрица так стараться небу! Радость была односторонней, бурной и оттого недолгой. Искоса рассматривая племянника, сидевшего в шезлонге, дядя настырно прицыкивал языком.
– Н-да, – прервал он молчание. – Меня предупреждали, что вид твой, прямо скажем, не того, но чтобы до такой степени, это умудриться нужно! – положил начало знакомства с племянником малознакомый родственник.
Фриц, насупившись, молчал, строя недружелюбную мину, всем видом говорил он, что чужероден ему незнакомый толстый человек, сидевший у ног, человек в малиновом пальто с черной папкой, более того – противен. Но такие пустяки мало заботили дядю, как и холодный прием племянника, уродство которого не смогло поколебать дядиных принципов, выработанных под действием времени и желаний. Дядя устроился поудобней, растолкав свои вещи как придется, утирал с полнокровного лица пот, причем делал это неловко, то и дело размахивая носовым платком, и вскоре стал накрапывать дождь, сплошь и рядом из капель дядиного пота, соленый и едучий.
– Жарковато здесь у вас, – освоился дядя и снял пальто. – А у тебя, племянник, чисто, красиво, прямо рай земной. И шезлонг премиленький, и женщина твоя, ну прямо, как ее, Клеопатра.
Дядя изобразил на лице, по возможности, жгучую улыбку бывалого сердцееда, высморкался под ноги, и тут же принялся посылать Дуде один за другим воздушные поцелуи.
– Фу, он слюнявит губы, – морщилась Дуда.
Фриц не слушал ее, давно заприметил он павиана, чья красная, извините, задница мелькала у подножия тени его шезлонга, более того, павиан истреблял яблоки, тут же гадил, при этом поглядывал на Фрица, издавая угрожающие звуки. Фриц с раздражением поглядывал на дядю, сообразив, что лишь этот толстяк, обжора и неряха, мог так бесцеремонно поступить, привести животное, посадив на цепь, мучить его жаждой.
– Ничего, ничего страшного, – сообщил дядя, – во всяком случае, пусть посидит внизу. На кой мне павиан, тем более такой прожорливый.
Однако Фриц настаивал, и дядя был вынужден кормить павиана, давать ему воду, хотя ближе чем на пять-шесть шагов к животному не приближался. Павиан, завидев дядю, смотрел на хозяина внимательным взглядом, смотрел грустно, при этом сжимал в лапе помидор, и дядя, всякий раз приблизившись к своему спутнику, бледнел, сжимался, усыхая на глазах (сытая прежняя гладкость покидала его), и поспешно подсовывал миску, бросаясь наутек. Между рейдами на землю и обратно дядя занимался разнообразнейшими делами, а именно: изобразив жгучую улыбку заядлого сердцееда, эдакого свойского парня-любовничка, посылал Дуде жгучие поцелуи. Дядина забава – недоеная блоха, скачет от Дуды и обратно, дядя пожирал ее взглядом, постанывал, он, даже изрядно утомившись от бесполезных кривляний, искал иные виды развлечений. Открывал тщательно охраняемый портфель, сетуя, что прежде за сохранность вещей отвечал павиан, а нынче не на кого положиться, тем более в гостях, доставал яйцо, сваренное вкрутую, и незамедлительно съедал его вместе со скорлупой. Покончив с завтраком, дядя снимал носок с правой ноги, долго и вдумчиво его рассматривал. Затем ковырял пальцем сухую пятку, чистил между пальцами грязь, обтирая о брюки остатки пота, подносил к носу измазанные пальцы, обнюхивая, кряхтел. Покончив к вечеру с туалетом, ни слова больше, ложился, где сидел, и вскоре его храп проникал во все уголки пространства, захваченного благодаря отважным вылазкам разведчика, часами наблюдавшего из дупла дерева за изменяющимся цветом шезлонга Фрица. Храп проникал эхом в трубу, сверлил мозг, Фриц не мог в такие дни сдерживаться, пинал дядю ногами, проклиная спящего последними словами.
– Чертов дядя! – шумел Фриц. – Откуда подлец знал ко мне дорогу?
– Дай ему денег, – предлагала Дуда.
– Свинья, – стонал Фриц, закрывая ладонями уши. – Это конец.
К ночи стало свежо, похолодало основательно, большие звезды, словно медные пуговицы, освещали зонт Фрица безразличием. С каждой минутой густели тени, вторя уснувшим бабочкам, Дуда мечтала о минуте отдыха, о забвении прошедшего дня, мечтала расправить затекшую спину, выгнув ее наподобие клейкого зеленого листа и еще о том, что Фриц был так одинок, он ведь вынужден оберегать трубу. Тогда взгляд ее становился влажным, блуждал среди светящихся на болотах гнилушек, сердце Фрица становилось податливым, теряя прежнюю возвышенность, более того, он становился ласковым, покладистым, Дуда, смешав ночь с днем, получала, наконец, согласие, таким образом, под ногами Дуды появлялась опора. Оттолкнувшись, против всех законов физики, Дуда, растворяясь в шумах и запахах, из ладоней Фрица попала на грудь, и дальше, мягко взлетев, уперлась тугими пятками в плечи. Затем Дуда впрыгнула в трубу и тихонько побрела извилистыми коридорами. Фриц от удовольствия смежил веки. Его пальцы дрожали, набегали волны удовольствия, горьковатая истома лишь усиливала приступы счастья. Дуда проявляла небывалое упрямство и настойчивость. Она все шла и шла вперед, труба изнутри сияла, и Дуда, не утерпев, прикоснулась губами к трубе, оглаживала в удивлении окружавшее изнутри золотое великолепие, золото, за которым охотилось так много соискателей, но мало кто мог видеть дары, предназначенные не для каждого. Лишь промысел дарил Фрицу счастье жить с Дудой, когда ощущение восторга, привкус безубыточного счастья, удовольствие от ласк предназначались его трубе.
– Я свободна, – шептала Дуда.
Ветер шевелил волос на висках, она не верила в очевидность собственного освобождения.
Дуда даже пела, рождая мелодии, одну прекрасней другой, не показная сортировка чувств, ведь на самом деле мироздание всего лишь игрушка из детского магазина, мир величиной в трубу. Раз за разом, восторг не управлялся с удовольствием, Дуда тихонько целовала трубу, чувствуя ее силу. Дуда растворилась в таинственных ароматах, она словно обретала на минуту забвение, и вот уже ломит затылок горечь промерзшего на степном ветру шиповника, лисы, почуяв первый снег, объедают ягоды, на глазах растут люди, утопая в мягкой бессвязности ласк трубы. Отчего так мучительно мало дней для счастья?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?