Читать книгу "Руфь"
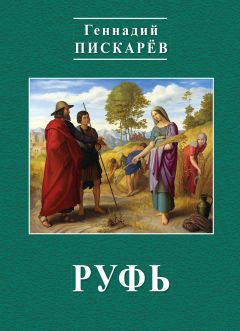
Автор книги: Геннадий Пискарев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Геннадий Александрович Пискарёв
Руфь
Моей суженой посвящается…
© Пискарёв Г. А., 2019
* * *
Порой, среди забот и жизненного шума,
Внезапно набежит мучительная дума
И гонит образ твой из горестной души.
Но только лишь один останусь я в тиши
И суетного дня минует гул тревожный,
Смиряется во мне волненье жизни ложной,
Душа, как озеро, прозрачна и сквозна,
И взор я погрузить в неё могу до дна;
Спокойной мыслию, ничем не возмутимой,
Твой отражаю лик желанный и любимый
И ясно вижу глубь, где, как блестящий клад,
Любви моей к тебе сокровища лежат.
Генрих Гейне в переводе А.К. Толстого
О, судьбы серебряные нити!
Ни одной из вас я не порву.
А, напротив, сердцем к вам приникну,
Жизнь вторую с вами проживу.
Г.А. Пискарёв
От автора
Наказ
«О любви немало песен сложено…», но, наверное, каждый живущий на бренной земле человек готов спеть нам ещё и ещё одну. Из классики мы знаем: ей, любви, – «все возрасты покорны», и что за неё отдают влюблённые всё, что можно отдать.
Но знает каждый из нас и то (не только из классики); нередко сакральное чувство становится предметом далеко не Соломоновых песней, а мерзких анекдотов и похабных стишков. Не раздумья ли на эту тему вырвали у великого духовидца Александра Куприна такие, быть может, экстравагантные, но искренние слова: «…Любовь имеет свои вершины, доступные лишь единицам из миллионов».
О тех, кто поднялся на эти вершины, и попытаюсь пропеть ещё одну песню. И в первую очередь о женской любви – любви всепоглощающей, беззаветной, примером которой стала для человеков ветхозаветная Руфь.
«Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдёшь, туда и я пойду, и где жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог – моим Богом…» Это речение Руфи – моавитянки, оставившей племя своё, принявшей душой и сердцем родину мужа-чужеземца, возлюбившего свекровь, как родную мать, – ключ к пониманию смыслов моей новой книги, на первый взгляд, глубоко личной, интимной.
Но ведь и «книга Руфи», помещённая в Святом писании одной из первых среди благих повествований о библейских женщинах, – тоже, как будто, такая же. Но её откровения, по воле Божьей, всему человеческому роду – пример и наказ: «Никто из вас да не мыслит в сердце своём зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите».
Сказано это, заметим, задолго до рождества Христова, когда в мире царила далеко не любовь, а закон Моисея: око за око, зуб за зуб. Бесподобен, велик подвиг моавитянки Руфи, первой женщины на земле, что искупила, пожалуй, своей любовью первородный грех – соблазна Адама, свершённый Евой посредством коварного Змея.
Интересно? Ещё как! Особливо, когда происходит подобное в собственной жизни…
I. Так надо
Кровать, железная, никелированная с пружинно-проволочным матрацем, с поверх накинутой из куриного пуха периной, стояла в углу крашеной голубой, от времени потемневшей, масляной краской деревенской избы. Стояла загороженная от прямого света, лившегося из окон, напольными часами, что были заключены в самодельный футляр, сработанный местным умельцем – плотником. Ложе кровати упиралось в заднюю стену комнаты, где рядом находилась и входная дверь. Через неё можно было выйти в сени, называемые здесь мостом, на крытое тёсом крыльцо, скотный двор, в сенной придел – по-тутошнему – повить. Обратным образом осуществлялась связь и с жилым помещением.
Но о кровати. На тот момент, ранним, ранним утром, разнежившись от сновидений, возлежала на ней прекрасная панночка. Щёки её рдели румянцем, она очаровательно улыбалась во сне. И вдруг её безмятежность сменилась испуганной дрожью. Кто-то, склонившись над постелью, близоруко всматривался в молодую женщину, пытался пальцами провести по милому личику.
Скрипнула дверь. В проёме появилась хозяйка дома.
– Анна, ты что тут забыла?
– Прости, Марья, – послышалось в ответ. – Неужель и правда, невестка к тебе приехала. Это она?
– Она, она, Анна.
Медленно, как в киношном фокусе, Анна, отклонилась от молодой, повернулась к выходу, из её «бизых» глаз капали слёзы.
Таковым оказалось первое утро моей жены, Татьяны Дмитриевны (в девичестве Скрицкой, а теперь Пискарёвой) на родине её мужа, исконного русича, то есть меня. Куда приехала она, генеральская дочка, с корнями, уходящими по отцу в глубь шляхтских бунтарских родов, а по матери – в элитарные круги терского казачества и чеченских богатых тейпов.
Анна, рискнувшая на рассвете удостовериться в правоте слухов, что к Марье-Пискарихе приехала москвичка-невестка, вынужден признаться, была первой любовью моего отца (мать рассказала). Да, Баханиха, – это прозвище Анны, а в деревне оно значило и употреблялось больше и чаще, чем фамилия или имя по «метрике», была «бизой» – близорукой – щурилась, что и придавало ей какой-то притягательный шарм. Ну как раскосость «первой русской красавицы» Натальи Гончаровой – супруги «первого русского поэта» А.С. Пушкина. Отец даже сватался к Анне. И получил отказ. Причина? Внешне – лишение ряда гражданских прав, в частности, избирательного права моего деда по отцу, объявленного кулаком. Но не вредным, потому не выселенным.
Отец мой, Александр, погиб в войну. А Баханиха так ни за кого и не вышла замуж. Как и моя мать – после отцовской похоронки. Жила Баханиха бобылкой в своём доме, одевалась, вела себя по-старушечьи. А я помню: в детстве, возвращаясь в пургу из соседней деревни домой, замерзший, я сунулся отогреться в первую хату. Ею оказалась Баханихина. Дело происходило ночью, но двери в домах у нас в деревне не запирались. Однако, чтобы не разбудить хозяйку, я пробрался в комнату тихо. Смотрю: Анна в роскошном платье перед иконами и зеркалами со свечой в руках стоит – величественная, красивая…
Боже! Дай силы понять деянья и сокровенные думы людей. Хотя бы некоторых по первости. Отца моего, например, кулацкого сына, загулявшего после обрушившихся на деревню коллективистских перемен и женившегося на дочери Варьки-пролетарки – Марье, т. е. моей будущей матери. По поводу чего его батька – «тятя» по-деревенски – и мой дед Николай, валялся в грязи перед часовней и славил Господа за то, что Сашке-то, сыну беспутному, такую бабу дал.
Когда-то об отце написал я стихи:
Опять запил Сашуха Пискарёв,
Дрожит жена, посуда, хата.
Гремят слова из сотни слов:
«Вся власть в руках пролетариата!»
А вот вчера лишь комиссар,
Изрядно выпив за обедом,
В Магнитогорск решил сослать
«Середняка», Боноку – деда.
С часовни купол, что кочан,
Был сброшен, между прочим, к разу,
И чёрный ворон по ночам
Людей увозит по доказу.
Отец! Тех лет суровый перегиб,
Дивлюсь, не взял тебя за жабры.
Тебе везло,
хоть ты погиб,
Но на войне
и смертью храбрых.
Тебя, хватившего «сырца»,
В кромешном орудийном гуле
Вдали от дома, от крыльца
К сырой земле пришило пулей.
Упал, заснул, как от вина,
И встать не хочешь, будто стыдно.
…Отец, вставай! Твоя жена
Уж не ругается обидно.
Она так ждёт тебя, отец.
Мне жаль её: она же плачет.
И я подрос. Я, твой малец,
Ведь ты хотел со мной рыбачить.
Родимый край. Родимый дом.
Досчатый стол, скамья, полати…
Отец, давай в него войдём.
А пить не будем, правда, батя?
Разве на то дана нам жизнь.
А перегибы? – Ну, их, право.
Отец! Отец! Но нет, ты спишь,
Довольствуясь посмертной славой.
А как осмыслить судьбу и деяния тётки Анны, кончившей дни свои у дальних родственников в городе Рыбинске Ярославской области, консультировавшейся со мной перед отбытием: «Можно ли прожить на тридцати пяти рублёвую «колхозную» пенсию на всём купленном в городе?» Тётка Анна! Величайшая гордячка, пролившая горькую слезу на пороге дома, быть может, соперницы своей – Марьи. Той, беззаветной, что возвеличилась чистотой, бескорыстием, самоотверженностью сердца своего. И… благородством невестки Татьяны – ветхозаветной Руфи, чудесным образом проявившейся во плоти моей суженой.
Тётка Анна считала гроши в предсмертные годы: 14 копеек – на мыльце; гривенник в день – на булочку; не пожалеть рублика, можно и колбаски чайной покушать… А мать моя доживала дни свои в столичной квартире, пенсию клала на книжку, о деревне тосковала ужасно, но… Читала вместе с невесткой «Письма о расколе» Мельникова-Печёрского. Только что напечатанные в восьмитомнике издательством ЦК КПСС «Правда», где работал её сын, т. е. я. Я, окончивший недавно Высшую школу при Центральном комитете Компартии Советского Союза, по рождению, как истинно русский человек, крещённый. В отличие от своей жены. Её крестили после замужества, в деревне, тайком от меня, партийца, дабы не повредить карьере. Смиренно, да нет – с любовью, и благоговением, приняла крещение любимая моя, в крови которой каких только компонентов не было, каких верований не гнездилось в душе.
Ох, понять бы, распутать верёвочку, свитую Господом Богом. Да не хватит, наверное, ни ума, ни времени для этого на грешной земле. Остаётся верить: так надо.
Да простят меня Силы Небесные, – «Так надо», – сказал когда-то мой товарищ Иван Фотиевич Стаднюк, автор «Максима Перепелицы», приехав в своё родовое село на Житомирщине из столицы в военной форме с полковничьими звездами на погонах. До этого его знали там как гражданского человека. Воевавшего, правда, но в звании солдатско-сержантском.
Стаднюку в мирное время дали старший офицерский чин за патриотические произведения. Так надо.
Так надо… Что-то в этом словосочетании вызывает улыбку. Но ведь в улыбке Бог.
II. Свет Богородицы
Поведанным выше эпизодом знакомства жены моей с деревней и жителями её, понятное дело, не ограничивалось.
Стояла весна, цвела черёмуха. Со стороны устья реки Тебзы, впадающей за нашей деревней в Костромку, из непролазных зарослей плыл терпкий аромат пенных соцветий.
Заканчивалась копка огородов. Селяне спешили закончить это весеннее дело «за погоду», когда, как известно, день год кормит. Однако в то утро, они, похоже, забыли об этом, предпочтя хлебу зрелище. Сгрудившись на пригорке, как с трибун «Колизея», они глазели на «арену» – наш приусадебный участок. Где вместе со свекровью и мной, разумеется, копошилась с лопатой и невестка. Москвичка! Для моих земляков поступок сей находился выше их разумения. Родные дети, а девчонки особенно, всячески отлынивали от этого нелёгкого труда.
На расстоянии зрителям не было заметно, что новоявленная огородница понятия не имела об искусстве вскапывания заступом грядок. Она просто втыкала его в сырую, тяжёлую землю и, используя рукоятку лопаты, как рычаг, отваливала толщенный пласт почвы вперёд. В то время как следовало бы этот пласт, но не толщенный, а тоненький, поднять вверх, перевернуть в воздухе и сбросить вниз, успев на лету раскрошить его.
Свекровь, прекрасно понимая, что работу помощницы придётся переделывать, нашла-таки деликатный выход из создавшейся ситуации. «Танечка, – ласково обратилась она к невестке, – что-то руки у меня поослабли. А надо бы навоз потаскать в огород. Может, с Геннадием вы это сделаете, пока я докапываю грядку».
Какой разговор! Мы приступили к новой работе: грузили на носилки из навозной кучи, что дымилась за двором нашего дома, весьма ароматное месиво, вприпрыжку таскали его к месту последнего назначения.
Эта картина, по-моему, доконала обывателей окончательно. Их, да простится мне не приличествующий торжественности момента современный молодёжный сленг, – заколбасило.
Жена моя стала в родной округе легендой. Её чуть ли не боготворили мои двоюродные братья (родных не имел), тётки (дядей тоже не имел: все шестеро погибли на фронте). Так вот, муж одной из отцовских сестёр (я поведаю её – также Руфью долю – попозже) Павел Жиганов – фронтовик, танкист, жжёный, резаный, ни бога ни чёрта не боящийся, млел при виде Татьяны, вежливой, тихой, но постоянно излучавшей будто бы иконописный свет Богородицы. Он отставлял в сторону недопитый гранёный стакан с водкой, переставал «лаяться» естественным для него матом – замирал. И это человек, вышедший из адского пекла войны, где после боёв с супостатами скрюченными голыми руками очищал нередко гусеницы своей «тридцать-четвёрки» от кишок, мозгов и дерьма подавленных им, только что ещё дышавших тварей.
А тётка Нюра, у которой однажды мы переночевали, не сомкнула вместе с мужем Колей за всё это время глаз. Почему? Ответ в простодушном, но трепетном вопросе их ко мне поутру: «Генк, а она до ветру-то ходит?»
…Кузен мой, Яблоков Толя, стащив у тёщи своей в соседней деревне Ощепково бутылку самогонки, устраивается в железнодорожном кювете с вожделенным намереньем – опохмелиться. Тут-то и замечаем его мы с женой, пришедшие к пригородному поезду, дабы отправиться в райцентр. Толя, уже поднёсший было к губам живительную мутную смесь, цепенеет. Лишь рука со стаканом непроизвольно тянется к Татьяне. И та берёт ёмкость – выпивает содержимое. Толя оживает, вновь булькает в опустошённую «полторашку» – протягивает мне. Пью и я.
Прибывает наш поезд. Мы спешим на посадку. Толька бежит следом и, плача, кропит следы Тани остатками столь драгоценного для него напитка.
Летом мы снова решили приехать к матери – на «Смоленскую». Это престольный праздник, отмечающийся у нас ежегодно 10 августа. И вот мы на полустанке «Бродни», от которого до деревни около трёх километров. Мы шли по росистой луговой тропинке, не замечая, что вслед идёт «парочка» постарше нас, сошедшая с того же поезда, в котором ехали и мы. Столкнулись с незнакомцами у ворот в деревню, когда пытались вытащить из огородного прясла жердину-засов.
Меня чуток обескуражило, что незнакомец-мужчина уж слишком «сверлит» глазами мою жену. Да и попутчица его не стеснялась собственного неприкрытого любопытства.
В тот же день мы узнали: к Авдотье и Ивану Маховым (они жили на краю деревни) впервые за 25 лет приехали в гости их старшая дочь Екатерина с законным мужем.
Катя распрощалась с родными местами после войны, попав по спецоргнабору в Москву (тогда не очень людную), стала одной из домработниц, кажется, у маршала Василевского. Вышла замуж за младшего лейтенанта из охраны полководца.
Тётка Авдотья поначалу ездила к дочери (после того, как за самогоноварение отсидела год в колонии, ездить перестала). По возвращении из столичных странствий по ту пору она без зазрения совести «заливала», что бывала не только в Мавзолее – Кремле, пивала чаи с самим Сталиным.
О, как! Но есть и факт: через 25 лет Екатерина навестила мать. Навестила отца, инвалида. Инвалида войны первой группы. И будто бы только после получения тётки Авдотьиного материнского письма о чудо-невестке Марюхи Пискарихи.
Говорят: ближе к церкви – злее черти. Может быть, может быть… Подползали они и к Татьяне. А чего? Кто она есть, если живёт, как бы это сказать, не знамо с кем, что ли.
Нечестивые, неразумные. Понимаете ли, вы истинный смысл вразумления библейского мудреца Экклезиаста: «Горчее смерти женщина… Добрый перед Богом спасётся от неё, а грешник уловлен будет ею».
III. Летящий поезд
Она была (именно была, т. к. жена моя скончалась шесть лет назад) моложе меня на 9 лет. Как нас свёл вместе Господь? Неисповедимо, но порою мне кажется, что голос её приходилось мне слышать в ранние студенческие годы, когда проезжал по Гончарной набережной Москвы в сторону Ярославского вокзала. На этом маршруте, у Таганки, с крутизны Народной улицы зимой на санках каталась разноголосая ребятня. «Да-да, я тоже делала это», – рассказывала мне Татьяна потом. Мне думается, что я даже видел её: по окончании МГУ, во времена работы в областной Калужской газете. По журналистским делам мне надо было встретиться с генерал-лейтенантом Рослым, бойцы которого штурмовали в начале мая 1945 года – рейхсканцелярию Гитлера. Один из них Никита Егоренков, сбивший паучью свастику над логовом, был тогда жив и жил в Калужской области, где и познакомился с ним я.
Рослого довелось увидеть в окружении отставных военачальников, в скверике на Гончарной набережной – фронтовики играли в домино. Рядом на лавочке сидела девчушка, до которой мне не было никакого дела. А ведь, возможно, то и была Татьяна, пришедшая со своим отцом – генералом авиации, – к боевому товарищу, проживавшему в соседнем доме. «Ну, почему, если это была ты, не обратил на тебя внимания тогда?», – допытывался я у любимой своей после свадьбы. «Не на что ещё было внимание обращать», – отвечала она.
Но обращал ли внимание я на других? Обращал. Ещё как. Вот и свидетельство этому – стихи, написанные в разные годы, частично опубликованные. Есть смысл привести их, кое-где что-то пояснив.
В детские годы мои, годы первоклассные, бытовала среди нас такая игра – загадка, сутью которой являлся ребус. Задаешь, например, соседу или соседке вопрос: «Можешь назвать город, состоящий из одного мальчика и ста девочек?» И если слышишь в ответ: «Севастополь», – кричишь: «Точно!» Сева – мальчик, сто Поль – девочки. Соединённые Сева и сто Поль превращаются в «Севастополь».
По аналогии «7 я» – становится семьёй, если цифру «семь» написать буквами и к ним пододвинуть «я».
Эти нехитрые головоломки родили, помнится, моё первое стихотворение про любовь к девочке Зое. Вот оно, именованное «Наваждением».
Итак:
Тридцать я – 30 я.
Наваждение, друзья,
30 я кружатся вихрем.
Буйство! Как унять такое?
Пододвинул букву к цифре —
Получилось имя: Зоя.
Имя Зои Чистяковой,
Ах, какой я всё ж толковый!
Зоя, Зоенька – одна!
И красива, и умна.
Мне не надо тридцать Зой!
Мне достаточно одной.
Зоенька Чистякова – платоническая первая детская любовь моя, она шла за мною всю жизнь вплеталась в чувства, что, можно увидеть во многих следующих творениях моих. Она утихомирилась лишь после сближения с Татьяной, сближения духовного и плотского, грань между которыми слившись с суженой, я уже не мог определить.
…Белый, белый песок моей родной речушки Костромки. Не знойное солнце, тугой ветер, несущий запах разнотравья, леса и василькового ржаного поля, что спускается с крутого пригорка к речке – чистейшей-чистейшей, воду которой, не боясь заболеть, в детстве мы пили с ладоней. В радостном полёте стрекозы и бабочки. И мы с Татьяной, распластавшиеся на траве, растворённые в природе – в Боге. Она, обнажённая, сошедшая как бы с лучших картин выдающихся живописцев, поглащает меня в неистовом трепете – божественно, чудно, естественно, нестыдно и прекрасно.
Этот пламень любви её воскрешал меня не раз к жизни, казалось бы уже обречённой, – после шунтования сердца, резекции поражённого раком желудка, когда она, прорвавшись через заслон врачей, на следующий день после операции, сделанной в ЦКБ («Кремлёвке»), покрывала запёкшиеся губы мои и искажённое лицо животворными поцелуями.
И скажу: чувственное, любовное «доженатое» творчество моё Татьяне было известно. А ей-то, как раз, я не посвятил ни одного стиха. Уж не есенинского ли менялы из «Персидских мотивов» обрёл я правило: «О любви в стихах не говорят, / О любви вздыхает лишь украдкой, / Да глаза, как яхонты горят».
Прочитав написанное о других, Татьяна, взметнув вроде бы удивлённо брови, молвила: «Да сколько же баб-то у тебя было?» Сказала без какой-либо ревности, без малейшей толики негодования.
Всё оказалось лишь предтечей настоящей, божественной любви – любви щемящей, неутолённой, в которой прожили вместе мы более сорока лет. Без намёка, без малейшего подозрения на измены, которых, конечно же, и не было.
А «доисторические» стихи я приведу всё же. Они и в одну из книжек моих вошли под много объясняющим названием – «Летящий поезд». Прочтите, не вредно, они поразмыслить кое о чём побуждают. А могут и основой стать для романа.
ЧЕРКЕШЕНКА
Имея брови черные
И белокурый чуб,
Я счел себя Печориным,
Хоть был и жизнелюб.
И сам себя не мучая,
Но марку чтоб держать,
Стал думать, что наскучила
Мне жизни благодать.
На взгляды плутоватые
Девчат – не отвечал.
А, верно, был бы хватом я –
Да только Бэлу ждал.
И в памяти воскресшая,
Вершин кавказских грань
Влекла, звала черкешенка –
Самой природы дань.
Но не пришлось с оказией
Идти за синий бор:
Ко мне моя фантазия
Сама спустилась с гор.
Она прошла по городу,
По шумной мостовой
Такой цивилизованной
И гордою такой.
На смуглом ее личике
Был скрыт след горных скал
И лишь в глазах по-дикому
Ущелий мрак блуждал.
И заблудился сразу я,
Попав в такую темь.
Со всем холодным разумом
Я стал и глуп и нем.
Не потому ль черкешенка
Моя – ушла с другим.
А я остался взбешенным
И ревностью томим.
Имея брови черные
И чуб белей белил,
Нет, не был я Печориным,
А Казбичем, знать, был.
* * *
Когда с любимою мы ссоримся,
На смуглом ее личике
Был скрыт след горных скал
И лишь в глазах по-дикому
Вот так корабль в далеком плавании,
В шторм попадая грозовой,
Приюта ищет в тихой гавани.
…Знать, плох, безволен рулевой.
НЕЛЕГКОЕ РАЗДУМЬЕ, РОЖДЕННОЕ ЛЕГКОЙ ЖИЗНЬЮ
Цивилизация жестоко
Вошла в нас, словно маята.
…Я видел женщину Востока,
И страстный танец живота.
Гитар космическое жженье,
Дрожанье бедер и грудей
Во мне подняли (на мгновенье)
Весь рой безнравственных страстей.
А лик танцовщицы – безвинен.
Взор не таит коварных бед.
В «Узбекистане» на Неглинной
Шафрановый искрится свет.
И мне воспеть бы персиянку,
Как Бэлу Лермонтов воспел.
Воспеть бы так, как даже Данте
Свою Беато не сумел.
Но я, попутчик злого века,
Знал цену горькому «пиит».
И знал, что нет Богинь – и эта
Ведь с кем-то ест и с кем-то спит.
…Цивилизация жестока.
Не для меня ли одного?
Коль я, далекий от порока,
Увидел женщину Востока.
И… не увидел ничего.
* * *
Боже мой!
Цыганский табор.
Ночь. Луна. Сосновый бор.
Звук гитары и тальянки,
Черноокая цыганка
И искрящийся костер.
Через день ушли цыгане.
Ветер золу от костра
Поднял вверх.
И все казалось.
Только нет!
В душе осталась
Сладкой нежности искра.
ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
Я влюбился в девушку —
жительницу Обнинска,
Инженера-физика
к тому же.
По ночам под окнами,
мучаясь бессонницей,
Стынет бедный месяц
в потемневшей луже.
Физики и лирики,
тропка затаенная,
Где лежит меж вами —
в формулах иль росах?
И смеется город
светом ламп неоновых
Над моей любовью,
над моим вопросом.
РОЗА БЕЛОСНЕЖНАЯ
Новогодний праздник в школе.
Шутки, песни, танцы.
Девочки – цветочки в поле,
Мы же – оборванцы.
Вот досада, вот кручина.
Ноги заморожены.
Почему я с Глебовщины?
Почему с Корежины?
И сижу в углу укромном
Так, как будто не жив я.
…У тебя на платье темном
Роза белоснежная.
ЗДЕСЬ ТЫ БЫЛА
Я кубарем в реку скатился
«Здесь плот приплыл», – сказали мне.
На нем и ты была…
Потом мне долго снился
Речной зеленый окаем.
Я сердцем ощущал движенье
Сухого ветра и воды
И видел в зеркале ее, как отраженье,
Твои небесные черты.
БОГИНЯ ИЗ 8-го «В»
Я мчался школьным коридором
Ура! Восьмой закончен класс!
И вдруг застыл, сраженный взором
Девчоночьих наивных глаз.
Бекренилась моя блатная кепка,
Плескались в окнах вольности пути,
А я впервые пожалел, что лето
Три долгих будет месяца идти.
Вискозное зелененькое платье
Шуршало, обвивало стройность ног.
Я распахнул души объятья
И… снова запер на замок.
Я заключил любовь в темницу.
Не знаю, счастье иль беда?
Теперь она внутри искрится.
Во мне горит моя звезда.
И все ж судьбы незримой сила,
Прорвав пространства злую тьму,
Потом еще раз выносила
Тебя ко мне.
Она просила
Прийти нас к кругу одному?
Ну, распахнись, душа и тело!
Но гордая любовь моя
Сменить никак не захотела
Плен чувств на бренность бытия.
…Пройдут года. Я поседею.
И в сонме жизненных горнил
Что воспою? Что пожалею? —
А то, что так тебя любил.
Стал для меня твой образ нежный,
БОГИНЯ из 8-го «В»,
Как оберег души мятежной
И хрупкой – как роса в траве.
СЕРЕЖКА, ДРУГ МОЙ, ЖЕНИТСЯ
Сентябрь, и солнышко уже
Светить, как летом, ленится.
И как-то грустно на душе.
Мой друг, Сережка, женится.
Сентябрьский воздух свеж, душист,
Но скоро все изменится.
Гуляка, комик, скандалист
Сережка, друг мой, женится.
Сентябрь… Октябрь… А там? А там
И в иней все оденется.
Боюсь, придет зима и к нам.
Сережка вот уж женится.
Бегут года, летят года.
И судно жизни кренится,
А что поделаешь? – Беда.
Сережка, друг мой, женится.
Бегут года – не доглядишь
И в жизни все изменится,
Наступит в чувствах гладь и тишь.
Сережка прав, что женится.
Приветствую его! И пусть
На свадьбе брага пенится.
Я сам, наверное, женюсь,
Коль друг, Сережка, женится.
ЛЕТЯЩИЙ ПОЕЗД
Я часто вижу этот поезд,
В ночи летящий, рев гудка,
Колесный стук и скорость, скорость,
Что в клочья рвется темнота,
Навстречу звезд летящих искры,
Огней вокзальных кутерьму.
И снова поезд – в снежном вихре,
Летящий в ночь, в глухую тьму.
Вагон качается, как зыбка.
Свет сонный желтого огня.
И ты с доверчивой улыбкой
Спишь на коленях у меня.
Твой свитер тоненький, пушистый,
Такой смешной, курносый нос.
И прядка рыжих, серебристых,
На лоб спадающих волос.
Гремящей лентой поезд мчится,
Бьет в окна ветер. Вьюга зла.
А на груди моей ютится
Комочек нежного тепла.
И я, над ним склонившись кротко,
Боюсь лишь только одного:
Что вдруг на резком повороте
Случайно выроню его.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































