Читать книгу "Тля. Действие в трех актах"
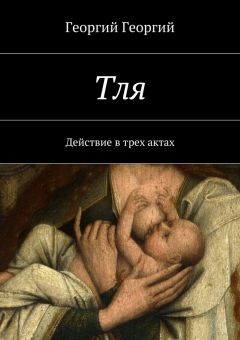
Автор книги: Георгий Георгий
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Ну, Вы только не подумайте ничего такого. Я нисколько не расстраиваюсь по этому поводу. Если не сказать совсем. И я даже скажу больше, я все еще способен испытывать чувство сострадания, если можно так выразиться, испытывать к людям и не только. К червякам, например которые ползут, ползут, ползут по мокрому асфальту; перекатываются из одной лужицы в другую, потом в следующую, и так до бесконечности, пока какие-нибудь штиблеты на огромной платформе с вбитыми гвоздями не опустятся, словно тенью из самой преисподней и не выдавят из них, этих слизких тварей все потроха. Из мух, муравьев, стрекоз и всякой прочей твари что ползает, жужжит либо забивается в микроскопические норки в коре деревьев. И я всегда опускаю глаза, когда вижу подобные вещи. Меня чуть не стошнило, когда я впервые увидел африканскую розу и Билли Мартышки. Вы только ничего не подумайте у нас девочки чистые и парни тоже. У нас с этим строго. Просто этот падонок насиловал совсем еще сопливых африканок и их матерей пока был типа «в отпуске». Да, здесь они под нашим надзором, под надсмотром всевозможных штатных сифилологов, венерологов под присмотром больших широких дяденек с тугим портмоне и в дорогих костюмах и прочих слюножуев. Но отдыхать ведь не запретишь, если хотите. Это четко регламентируется. Особенно на Рождество, я и сам не прочь куда-нибудь свалить. Раствориться закопаться в пляжном песке цвета яичной скорлупы где-нибудь на Багамах. Но правила никто не отменял. Не было и случая, ни одного говеного случая, чтобы я, каким бы то ни было образом отступал от кодекса или контракта, даже при походе в магазин за хлебом. Он, контракт, бумажка связывает меня, словно черная вдова навозную муху и я будто парализован, я будто стеклянный, а все остальное сделано из самой прочной стали. Ну а Билли Мартышка забил, видимо, на чертов контракт и вот получил гриб вместо хуя, по-другому, я и не знаю, как это назвать. Это не так страшно как могло бы показаться, но работать ведь с такой хуйней не будешь. Правильно ведь? На его место тут же находят нового хуя, да так быстро, что не успеваешь даже сопли высморкать, а он как ни в чем не бывало, возвращается на завод таскать металлические трубки и чугуны с раскаленным асфальтом. Хотя, это как повезет. Я бы сказал это самое лучшее, что ему светит, не будь он торчком, ведь все эти «порнозвезды» как их называют – лютые джанки. И если вы не знакомы с таким словом то, по крайней мере, догадываетесь, что оно подразумевает. А наркотики тема специфическая, это знаете как еще один новый мир в другом большом мире. Но мир этот жесток и не мир вовсе. Он – огромная жирная жадная подопытная крыса. И за каждый миллиметр, фут и дюйм взымается повышенная стоимость. Поэтому у Билли, например, раздулся член, поэтому девочки, что глотают малафью, если хотите, проглатывают на камеру, начинают все чаще и чаще непроизвольно рыгать, а те, что занимаются нарвасадатой – терпеть не могут молоко и моргают в совершенно нелепых ситуациях. А про тех, которые по первому зову оператора готовы облокотиться о спинку дивана и раздвинуть по шире ягодицы, про их запоры, плавно переходящие в адское недержание, вы и сами знаете, об этом и говорить не приходится. И все это, все унижения, истязания, дискомфорт, проблемы со здоровьем, если только их можно так назвать, все это дерьмо не забавы ради, а ради дозняка, еще одного и еще. А когда позвякивают тамбурины и меблированные комнаты переполняет запах брезента, пыльных патефонов из которых неумолкаемо льется Френк Синатра, то есть в Рождество, тут уж надо быть в полном боекомплекте. Рождество это самый пик долбоебизма, адских квестов и бэдов даже у самых прожженных торчков, век спаянных доверху набитых пластиковых пакетиков рассованным по всем имеющимся и не имеющимся у вас карманам, в общем, полный коллапс порноиндустрии, если хотите. Или мракобесие, которое традиционно проходит на моей вилле как вы уже, наверное, и сами догадались. Ничего особенного, чтобы вы не подумали, что что-то пропустили. Просто полнейшее расслабление, «релакс», жалкая попытка выкинуть из головы все эти серые низкие потолки в доверху набитых магазинах, метро, муторные очереди в банках и на биржах, серые костюмы, серые отсыревшие пустые коробки и длинные черные лужи на тротуарах. Не более того. Ни менее. Попытка забыть все неудавшиеся планы, съемочные павильоны с кроватями и диванами из папье-маше, с пластиковыми канапе и километрами, килограммами, тоннами бездарно потраченного времени за утренним кофе в чужих квартирах после ночных трипов, где все кажется реальным и не реальным одновременно. Но не в этот раз. Рождеством пахло в каждом уголке моей спальни. Портьеры на окнах автоматически раздвинули бельма, как только стукнуло десять. Обычно я просыпаюсь в 10, а вы? Я предвкушал, то первое, что я увижу: голубой шар над белым, белым как шкура агнца и даже еще белее газоном. Голубой шар был с отблеском желтого, желтого, но совершенно не холодного света. Словно песок, желтого. Я рывком поднялся из кровати с мыслью о том, что сегодня ни один херов ублюдок не наблюет в мой бассейн. Ни одно говно удолбанное не разобьет дорогущую итальянскую вазу в прихожей, никто, ни одно чмо не забрызгает семенем кожаный раскладной диван, фаянсовую с инкрустированными изумрудами крышку унитаза, кафельный пол на кухне. Там сегодня буду сидеть я и только я. Не будет зудящих физио, с побелевшими лбами. Гамом, шумом из глоток. А только я и мирно кипящий чайник. Он пустит сгусток чада, словно миниатюрный паровозик на кольцевой железной дороге, или соленая баржа. Какой-то мудозвон крикнет. Но через закрытое наглухо окно до меня долетит, дожужжит лишь слабая какофония. И ничего более. Ничего менее.
Я вышел в полдень, когда сверху на меня покатился пенопластовый дождь вперемешку с озоновым слоем в виде мелких кристалликов льда. Я слышал, как барахтаются в жиже машины на боковой улице. Я вышел на центральную аллею, потом в каменном парке я приземлился на покатистую лавку и прикусил горлышко эбонитового чубука. Я забился в подъезд; лампы слепили мне глаза. Поднялся на этаж. Мне открыли дверь. После нашпигованных гвоздями штиблет на кафельном полу красном, словно кровь оставались сгустки азота в виде полопавшихся кристалликов льда. На уровне колен стелился бас. В коридоре штабелями валялись оранжевые огнетушители и мокрые рубашки. На уровне глаз мелькали головы. Пахло женскими духами и соловьиным потом. Я осел на покатистую канапе и закусил чубук. Чувак, державший в руке пульт от телевизора, предложил мне чай. И не услышал от меня отказа. Чай, Джонни, говорит. А сам щелкает, щелкает. Позади него на плоской кровати под одеялом что-то двигалось. Мимо моего носа челноком проходили голые азиатки. Над маленькими стеклянным столиком в здешней атмосфере купался пар, дым, чад, струи белые как рай, как одеяло, которое двигалось. Как дверца холодильника, которая отворилась. Сегодня рождество, сегодня рождество, с рождеством, с рождеством, слышал я. А под ногами ползали сонные мухи; они путались, запинались и сталкивались друг с другом. Мне бы что-нибудь по экзотичнее, говорю, что-нибудь, что никто еще не пробовал. Хорошо Джонни, я прекрасно слышу не нужно так кричать, говорит мне пульт. Тереза, загляни в ящик да не в этот продолжает пульт, в другой загляни. Да, да говорят губы над пультом, и тащи все сюда. Электронные весы запиликали, словно колокол, забили. Я поднял голову от испуга. Потолок белый, белый, словно мел хоть и выложенный клинкерами, швов почти не заметно, думал я. Зато вниз, словно сталактиты свисали тянучки медвяной росы. Я вскинул бельма к окну. Под батареей кишмя кишели муравьи; они разминали плотно сложенные спаянные кубики сахара и собирали из него конусообразную хибару с миллионом, миллиардом крошечных окошечек и туннелей, будто комариные клоаки. Теперь-то понятно, откуда здесь столько тли, думал я. Мне даже показалось, что я заметил муравья-фермера, они о чем-то переговаривались с муравьем-гильотинщиком; оба внимательно слушали, а потом когда доходила очередь, прогоняли каждый свою «телегу», не перебивая ни хуя, не пуская слюней и прочего дерьма, как это обычно бывает, вы знаете…, нет; они словно два удодских дипломата или там банковских прокуратора в выглаженных до нужной упругости костюмах с правильной осанкой, встретившиеся за деловым ленчем. Мне даже стало жутко холодно от всей этой пидорской строгости и формальности. Готово Джонни, услышал я через километры, тонны чада над маленьким стеклянным столиком. Из тумана показалась шестипалая ладонь и шесть белых как дверца холодильника кругляша опустились на мою, пятипалую, затем в карман, под язык, потом между зубами и дальше во внутрь в желудок, привратник, бачек белый, белый, словно вата, переполненный чихнул, смыл. Накинулись опарыши на опарышей крысы. Что-то все же попало через кровеносные сосуды, сонную артерию, височные доли, что-то попало в мозг, но это случилось уже потом. После того как я достал из внутреннего кармана радужного пиджака, достал смятую купюру. Тогда шестипалая запротестовала, я это хорошо запомнил, хоть и все было будто в тумане серо – перламутровом. Это подарок Джонни, сказала ладонь. На Рождество, с Рождеством Джонни, говорит. Тереза убери это обратно в ящик, и рука, ладонь скрылась так же не заметно, как и появилась. Я слышал, как скрипит одеяло, но не видел его, я слышал, как шлепали босые ножки Терезы по кафельному красному, словно Марс полу. Топ-топ-дзынь – так забегали. После того как я спустился в клозет и запер дверь на все имеющиеся и не имеющиеся замки и задвижки. После того как переполненный бачек удалил смятую купюру, после того как ее обнаружили опарыши, затем позырили в оба красных, словно линии на ладонях, позырили красные бельма крысы. Все это произошло уже после того как мне адски захотелось выбраться на улицу, а вы знаете какая прекрасная погода в Рождественский день. В клозете на мягком полу подбоченясь к ершику стояла мигающая елочка. Точная копия той, что у меня только мини-экземпляр. Я вспомнил, как скинул с себя одеяло и первым делом выдернул телефонный провод из спутника. Странно бывает иногда что-то вспомнить. Странно бывает запомнить какую-то совсем незначительную хуйню, которую вы бы и не заметили. Даже если сфокусировать на нее тридцатидюймовым объективом. Все равно бы не вспомни… Куда вы смотрите? Вам интересно, зачем тут собраны чемоданы и авиабилеты? Они здесь давно. Сложно сказать насколько. Но они стоят здесь уже после того как я сблямзал по лестнице. После того как я услышал песню, песню, кукушки. Настолько прекрасную, мать ее, что богом клянусь ничего подобного я уже и не надеюсь услышать. Она пела сквозь вентиляционную сетку. Но не успел я вывинтить все задвижки на белой, словно шкура агнца двери клозета, как что-то ебнуло меня в бок, я повалил мигающую мини-елку, растоптал ершик. Два тела упали; одно на бочек, другое получило удар в висок; кусок фаянсового черного как уголь и блестящего как роса толчка отлетел в стену. Брызнула кровь; бочек зашумел, засвистел, вывалились жилки, куски, сгустки кровеносных сосудов и вен – прыск-прыск; жух-жух – переполненный, сверху до низу бочек вывернул себя на изнанку. Набросились опарыши, на них набросились крысы, но все это случилось уже потом.
Через болтающуюся, словно маятник поскрипывающую дверь клозета было видно, как в коридоре мерцают люминесцентные лампы; они переговариваются друг с другом. Прислонившись к зеркальному шкафу, стояли, мялись две куртизанки, стояли там, в коридоре будто пришибленные. Стояли, лупились, шаркали башмаками на огромной платформе. Плечи и грудь прикрыты татуировками типа там стрелами с охуевшими от счастья ангелами и прочей фигней из того же разряда. Особый тип белья – вот что их выдает. Ни мэйк-ап, ни дырявые чулки – это все для прикрытия. Белье и лупила. Длинные упрямые бельма с впадинами и динамичным поблескиванием, если позволите, словно лампы в потолке; белые, словно дверца у холодильника, словно рай. Это напомнило мне одну такую пришибленную. Я сразу выделил ее из толпы и, не сомневаясь, тыкнул на нее пальцем. Что-то переворачивалось внутри меня, когда я ее видел. Яйца чудовищным образом наливались, и я понимал, что неимоверно хочу оплодотворить эту самку. Вот и сейчас также, подумал я. Рывком кое-как я выбрался из угла клозета, топча елочные украшения, мишуру и ангельский дождь, распластанный по залитому кровью полу. Среди всей этой суматохи и неразберихи я слышал кучу голосов, но пропускал все их мимо ушей кроме криков. Экстатических воплей, если можно так выразиться, таких мелодичных что грех было им не подпеть. Я взял силой. Зеркала идеально передавали картинку. Это главная их функция в этом спору нет. Мой член работал как ракета. Несколько раз я ощущал легкое подергивание и мигающее и вновь исчезающее тепло, словно парное молоко обливало мою спину, ноги, руки, грудь, голову. Я слышал как падает дверь, как ломаются кости, слышал как течет кровь, на плите кипел чайник, повар в головном уборе белом, как и его фартук сновал по кухне, словно обрубленный пидор и матерился про себя так тихо, тихо, словно бой настенных часов у него над головой. Я слышал, как шуршит одеяло, как проседают кнопки на пульте в соседней комнате, но все это было уже потом. После того как я прошелся, прошелся в несколько кругов по двум этим пришибленным сучкам, после того как разбилось зеркало, после того, как что-то во мне перевернулось и яйца мои вздрогнули словно под напряжением. Я трахал их так эпично, если это слово здесь уместно, так эпично, что все остальное мало меня волновало, а если и волновало, то казалось таким не существенным что исчезало в тумане, в сумраке бесконечных лабиринтов, обоссанных переходов и коридоров.
Я вышел на улицу когда уже смеркалось. Тротуары превращались в поле битвы. Снег распадался прямо в воздухе и долетал до меня в виде застывших кристалликов льда. Было тихо. Но вывески магазинов по бокам улицы все еще горели, горели синим, красным, фиолетовым, как в кино, вы знаете. Изо рта пар – дымился такого же цвета. Он раскрашивал капли льда во все цвета радуги и указывал мне путь. Но это все случилось уже после. После того как я очутился в совершенно незнакомом мне месте. Сложно было сказать на аутсайде это или инсайде, под водой или в небе, в нашу эпоху либо доисторическую. Ощущение, чувство распада присутствовало, сопровождая каждое нерачительное движение, каждый незначительный шорох. Мой один хороший друг сидел, свесив руки с коленей, и напевал что-то очень знакомое. Все было увешано гитарами, словно сталактиты они слетали с потолка и разбивались вдребезги. Длинный обвешанный лампами коридор уходил в неизвестность, в неизвестность уходили следы на снегу, в неизвестность уходил я…
Когда я проснулся, из головы у меня шла кровь и из ушей и из носа. Куртизанки голые, будто поросята валялись в прихожей, прижимаясь к стеклянному шкафу. Бочек извергал брызги, как пожарный кран, красное тело становилось черным и наоборот. Кто-то завопил как обрубленный. В соседней комнате что-то разбилось, упало, сломалось и покатилось, катилось (это был, наверное, пульт от телевизора) потом непонятный шорох и бамс-бамс – запахло порохом и миллионы, миллиарды машин на аутсайде запиликали, словно ненормальные; в голове запиликало, забилось, казалось, что сейчас меня вывернет наизнанку, но все это случилось уже потом. Когда я вышел на лестничную клетку. Старуха с тростью зырила на меня как на статую Иисуса, а тем временем «свиньи» уже пустили дым. Я слышал, как они трутся железными щитами там внизу, слышал, как стучат их казенные ботинки по бетонным ступеням; серое ядовитое облако застилало мне глаза, из глотки посыпался недопереваренный завтрак… Есть, знаете ли, сквиртовые девочки, которые кончают, словно фонтаны, и ты будто омовение делаешь…, ну так вот старуха членом чую – она такая же была в молодости, отпадная баба была в молодости. И я бы с удовольствием оприходовал, отделал ее прямо здесь, думал я, под лампами прямо, и в дыму, в дыму, сквозь который и рук-то не видно не говоря уже о чем-то другом. Несомненно, оприходовал бы, будь мы в другой эпохе, лет так двадцать назад, но нужно сливаться, думал я, сливаться пока «свиньи» не пришакалили и не впечатали меня мордой в бетон, сливаться через люк, а дальше по мусоропроводу на мансарду.
На мансарде меня встречает куча «хипповатых» с охуевшими от лопанья пузырьков в ложке лупилами и Лу Рид. Лу Рид с «вельветами» конечно же. Я вот вам что скажу, один он просто кусок дерьма не более того, не менее. Кусок дерьма такой же, как мы с вами или как эти слюножуи на мансарде. Они собрались в кружочек и тупятся, как овощи, бля, тупятся у здоровенной с человеческий рост, жирной свечки; та капает, протекает, как драная сучка с течкой, протекает. «Хипповатые» с побелевшими физио, посреди всего этого чердачного хлама, по очереди, словно жрецы Тутанхамона, доползают до плавящейся над свечой огроменной, словно для кентавра, диаметром c тазик для ног, ложки. Доползают и забирают каждый, как роботы, забирают свои пять миллилитров, и всаживают всю эту кипящий ад себе под кожу, забиваясь по ссаным углам. А с «вельветами», с «вельветами» он просто бог ебаный, вот я что скажу. Не больше. Не меньше. Он словно то пятно на стене, на которое я сфокусировал, как кусок света, пробивающийся сквозь замызганный люк в потолке (белый как рай), через который я выполз, будто птенец из яйца, вылез. Миллионы, миллиарды, километры торчащих антенн и изрыгающих дымом труб. Это была крыша. Это был я, скачущий, как мамка енота, я, вонзающий свои штиблеты на гвоздях в плавно рассыпающийся, окислившийся шифер, я, дрожащий как жидкое дерьмо, подрагивающее на холодном ветру.
Вам стопудняк, наверное, интересно, что было дальше и все такое…
Но мне, мне пора заворачивать узлы. Масса стандартных приготовлений. Масса облупленных кастрюль, вилок, ложек, которые мне могут пригодиться. Домашние тапочки, бритвенный станок, кисточка, куски мыла, тараканьи ловушки, крысиный яд, пара запасных носок, заварочный чайник, рулон папируса, письменные принадлежности и всякое такое прочее, ну вы и сами знаете… Я был бы признателен, если бы вы хелпнули меня с коробками до такси. Дальше я сам, вы уж за меня не беспокойтесь, не грызите обо мне ногти типа так, если хотите. Куда вы смотрите? Вам интересно, что станет с этой будкой? Я выбросил ее на аукцион три дня назад. Через полчаса звонит, мол, агент какого-то хмыря, эстрадного мудака, звонит и втирает мне какую-то лажу про пятьдесят миллионов. Вы его все хорошо знаете, этого пидора с гитарой, которую он, бля, даже не удосужился в комбарь запихнуть на концерте, ну вы понимаете, о чем я. В общем, послал я его нахуй сразу же. Еще бы не хватало оставить свою конуру на поруки этим эстрадным прошмандовкам. Я скорее начну жопу наждачной бумагой подтирать, чем позволю какой-то эстрадной прошмандовке мацать босыми ногами по моей плитке, так я вам скажу. Даже для пятидесяти миллионов это чересчур. Тем более что утром пришла телеграмма от одного человека, которого вы стопудняк не знаете, и сказать по-честному, в этом вы только выигрываете, если позволите, ну так вот его агент бросил мне прямо в лицо восемьдесят пять миллионов. Деньги вон в тех коробках. Шутка. Бабки в надежном месте, а в коробках рыбные снасти, удила и живые черви. Хочу первым делом порыбачить, когда доберусь до места. А вообще этого водилу я уже где встречал. С крыши. Он пиздил с какими-то яппи в этих их новомодных лоснящихся костюмах, в ботинках сорок первого размера и с псевдощвейцарскими «склянками» на депилированных предплечьях, сучий ужас в общем как вы понимаете. Ну, так вот эти яппи, мать их – стопудняк после заезженного корпоратива или встречи выпускников – стояли, мялись как целки у отдернутой настежь двери и никак, не могли усесться в тачку. Одного из них выворачивало, мол, конкретно; облевал весь пожарный гидрант. Бедняга водила тогда конкретно на измену видимо подсел; он их, буквально головой вперед в салон позакидывал. Позакидывал, а сам весь бледный, будто говна сожрал и тут он опускается, на тротуар весь сжался, будто вот-вот разорвется, словно мяч перекачанный, садится и изрыгивает из себя всю хавку, которую наверно выжрал за все это время от пеленок до сего дня. Блевотина заполнила улицу. До крыши доходила и плыла, плыла куда-то прочь. В никуда плыла. В никуда по проводам, по городским клоакам, по паутинкам и сосудам текло электрическое напряжение. Говно текло в никуда. Перебирались, спасались бегством паучки. И гусиницы-кукушки с доверху набитыми карманами коконов тоже уходили в никуда. В никуда ползли и светлячки с семафорами за плечами. Мухи стремились всем своим существом, стремились в никуда. В никуда исчезали следы от нашпигованных гвоздями штиблет на мягком окислившимся шифере. Водяном шифере. Не то, что на моей конуре. Вы только взгляните. Колониальный стиль, мать его…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































