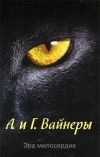Текст книги "Место встречи изменить нельзя. Гонки по вертикали"

Автор книги: Георгий Вайнер
Жанр: Полицейские детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
А мы все молчали и старались не смотреть друг на друга, как будто нас самих уличили в чем-то мучительно стыдном. И неожиданно заговорила Верка, наблюдавшая за нами из своего угла:
– Он сказал Фоксу, что вы его здесь дожидались…
– Что, что? – развернулся к ней всем корпусом Свирский.
– Ничего – что слышал. Фокс навел на него револьвер и говорит: «Рассказывай, красноперый, кого вы здесь пасете, а то сейчас отправлю на небо…» Ну, ваш и сказал, что сам плохо знает – какого-то Фокса здесь ждут. Тот засмеялся и пошел…
Через час умер Топорков. Из больницы Склифосовского Копырин повез меня и Глеба домой. Жеглову, видимо, не хотелось с нами разговаривать – он прошел в автобусе на последнюю скамейку и сидел там, согнувшись, окунув лицо в ладони, изредка тоненько постанывая, тихо и зло, как раненый зверь. Я сидел впереди, за спиной Копырина, а он досадливо кряхтел, огорченно цокал языком, вполголоса говорил сам с собой.
– И отчего это люди так позверели все? Жизнь человеческая ни хрена не стоит. И сколько этой гадости мы уже отловили, а все покоя нет. И снова убивать будут, и конца-края всему такому безобразию не видно… Сейчас-то чего им не хватает? Вроде жизнь после войны налаживаться стала…
– Не бубни зря, старик, – сказал глухо Жеглов. Балансируя руками, он прошел по раскачивающемуся нашему рыдвану, присел на корточки рядом с Копыриным, крепко взял его за плечо, заглянул в глаза, попросил настойчиво: – Выпить бы сейчас хорошо, Иван Алексеич…
– Оно бы, конечно, хорошо, – уклончиво сказал Копырин, мазнув себя кулаком по жесткому щетинистому усу. – Так ведь ты, Глеб Егорыч, сам знаешь…
– У тебя дома есть, – твердо сказал Глеб. – И хоть сегодня ты своей жены не бойся. Скажи, что для меня – я со следующего аттестата отдам.
– Так не в том дело, что отдашь, – покачал головой Копырин. – По мне выпивка хоть совсем пропади. Бабы боязно…
А сам уже сворачивал на Складочную улицу, к своему дому на Сущевке.
– Ох, даст она мне сейчас по башке, – боязливо бормотал Копырин.
Притормозил у дома и, не выключая мотора, вышел, будто в случае неудачи собирался удрать побыстрее.
– Ждите, – велел он обреченно и нырнул в парадное.
Жеглов молча курил, и я не стал ему задавать никаких вопросов. Вот так мы и молчали минут пять, и только папироски наши попыхивали в темноте. Потом вышел из дома Копырин, и в руках у него были две бутылки водки. Он устроился ловчее на своем сиденье, передал бутылки Жеглову, облегченно вздохнул:
– Домой велела не возвращаться…
– Это хорошо, – успокоил Жеглов. – У нас с Шараповым поселишься.
– Ну нет уж, – замотал головой Копырин. – С вами хорошо, а дома все ж таки лучше. Она у меня, старуха-то, не злая. Горячая только, поорет маленько и отойдет. И стряпает очень вкусно, и чистеха – в руках все горит. Нет, бабка она огневая…
– Тогда живи дома, – разрешил Жеглов.
Заходить к нам в гости Копырин тоже не согласился:
– Какие среди ночи гости? Вот с женой своей помирюсь, налепит она нам вареников, тогда лучше вы ко мне приходите. Завсегда найдется нам о чем потолковать. – И с лязганьем и скрежетом «фердинанд» покатил вниз по Рождественскому бульвару.
Мы постояли на улице еще немного, вдыхая чистый ночной воздух.
– Хороший мужик Копырин, – сказал я.
– Да, – сказал Жеглов и пошел в подъезд.
На кухне сидел Михал Михалыч и читал газету. Он вытянул нам навстречу из панциря свою круглую черепашью голову и сказал:
– Много трудитесь, молодые люди…
– Да и вы бодрствуете, – криво усмехнулся Жеглов.
– Я подумал, что вы придете наверняка голодными, и сварил вам картофеля…
– Это прекрасно, – кивнул Жеглов, а меня почему-то рассмешило, что Михал Михалыч всегда называет нашу дорогую простецкую картоху, картошечку, бульбу разлюбезную строгим словом «картофель».
– Спасибо, Михал Михалыч, – сказал я ему. – Может, выпьете с нами рюмашку?
– Благодарствуйте, – поклонился Михал Михалыч. – Я себе этого давно уже не позволяю.
– От одного стаканчика вам ничего не будет, – заверил Жеглов.
– Безусловно, мне ничего не будет, но вы останетесь без соседа. Если не возражаете, я просто посижу с вами.
Мы пошли к нам в комнату, и Михал Михалыч принес кастрюльку, завернутую в два полотенца – чтобы тепло не ушло; видимо, он давно уже сварил картошку.
Посыпали черный хлеб крупной темной солью, отрезали по пол-луковицы, разлили по стаканам. Жеглов поднял свой и сказал:
– За помин души лейтенанта Топоркова. Пусть земля ему будет пухом. Вечная память…
И в три жадных глотка проглотил. И я свой выпил. Михал Михалыч задумчиво посмотрел на нас и немного пригубил свой стакан.
Хлеб был черствый, и вкуса картошки я не ощущал, а Жеглов вообще не стал закусывать и сразу налил снова.
Мы посидели молча, потом Михал Михалыч спросил:
– У вас товарищ умер?
Жеглов поднял на него тяжелые глаза с покрасневшими веками и медленно сказал:
– Двое. Одного бандит застрелил, а другой подох для нас всех, подлюга…
Зашевелились клеточки-складки-чешуйки на лице Михал Михалыча.
– Н-не понял?
– А-а-а! – махнул зло рукой Жеглов и повернулся ко мне. – Мы ведь с тобой и не знаем даже, как звали Топоркова… – Он поднял свой стакан и сказал: – Если есть на земле дьявол, то он не козлоногий рогач, а трехголовый дракон, и башки эти его – трусость, жадность и предательство. Если одна прикусит человека, то уж остальные его доедят дотла. Давай поклянемся, Шарапов, рубить эти проклятущие головы, пока мечи не иступятся, а когда силы кончатся, нас с тобой можно будет к чертям на пенсию выкидать и сказке нашей конец!
Очень мне понравилось, как красиво сказал Жеглов, и чокнулся я с ним от души, и Михал Михалыч согласно кивал головой, и легкая теплая дымка уже плыла по комнате, и в этот момент очень мне был дорог Жеглов, вместе с которым я чувствовал себя готовым срубить не одну бандитскую голову.
Жеглов и второй стакан ничем не закусил, только попил холодной воды прямо из графина, багровые пятна выступили у него на скулах, бешено горели глаза, и он теребил за руку Михал Михалыча:
– Они и меня могут завтра так же, как Топоркова, но напугать Жеглова кишка у них тонка! И я их, выползней мерзких, давить буду, пока дышу!.. И проживу я их всех дольше, чтобы самому последнему вбить кол осиновый в их поганую яму!.. У Васи Векшина остались мать и три сестренки, а бандит – он, гадина, где-то ходит по земле, жирует, сволочь…
Все вокруг меня плавно, медленно кружилось. Я встал, взял со стола графин, пошел за водой на кухню и почувствовал, что меня тихонько, как на корабле, раскачивает, и веса своего я не ощущаю – так все легко, будто накачали меня воздухом.
– …Вашей твердости, ума и храбрости – мало, – говорил Михал Михалыч, когда я вернулся в комнату и, сделав небольшой зигзаг, попал на свой стул.
– А что же еще нужно? – щурился Жеглов.
– Нужно время и общественные перемены…
– Какие же это перемены вам нужны? – подозрительно спрашивал Жеглов.
– Мы пережили самую страшную в человеческой истории войну, и понадобятся годы, а может быть, десятилетия, чтобы залечить, изгладить ее материальные и моральные последствия…
– Например? – уже стоял перед Михал Михалычем Жеглов.
– Нужно выстроить заново целые города, восстановить сельское хозяйство – раз. Заводы на войну работали, а теперь надо людей одеть, обуть – два. Жилища нужны, очаги, так сказать, тогда можно будет с беспризорностью детской покончить. Всем дать работу интересную, по душе – три и четыре. Вот только таким, естественным путем искоренится преступность. Почвы не будет.
– А нам?..
– А вам тогда останутся не тысячи преступников, а единицы. Рецидивисты, так сказать…
– Когда же это все произойдет, по-вашему? Через двадцать лет? Через тридцать? – сердито рубил ладонью воздух Жеглов, а сам он в моих глазах слоился, будто был слеплен из табачного дыма.
– Может быть… – разводил черепашьими ластами Михал Михалыч.
– Дулю! – кричал Жеглов, показывая два жестких суставчатых кукиша. – Нам некогда ждать, бандюги нынче честным людям житья не дают!
– Я и не предлагаю ждать, – пожимал круглыми плечами Михал Михалыч. – Я хотел только сказать, что, по моему глубокому убеждению, в нашей стране окончательная победа над преступностью будет одержана не карательными органами, а естественным ходом нашей жизни, ее экономическим развитием. А главное – моралью нашего общества, милосердием и гуманизмом наших людей…
– Милосердие – это поповское слово, – упрямо мотал головой Жеглов.
Меня раскачивало на стуле из стороны в сторону, я просто засыпал сидя, и мне хотелось сказать, что решающее слово в борьбе с бандитами принадлежит нам, то есть карательным органам, но язык меня не слушался, и я только поворачивал все время голову справа налево, как китайский болванчик, выслушивая сначала одного, потом другого.
– Ошибаетесь, дорогой юноша, – говорил Михал Михалыч. – Милосердие не поповский инструмент, а та форма взаимоотношений, к которой мы все стремимся…
– Точно! – язвил Жеглов. – «Черная кошка», она вам помилосердствует… Да и мы, попадись она нам…
Я перебрался на диван, и сквозь наплывающую дрему накатывали на меня резкие выкрики Жеглова и журчащий тихий говор Михал Михалыча:
– …У одного африканского племени отличная от нашей система летосчисления. По их календарю сейчас на земле – Эра Милосердия. И кто знает, может быть, именно они правы, и сейчас в бедности, крови и насилии занимается у нас радостная заря великой человеческой эпохи – Эры Милосердия, в расцвете которой мы все сможем искренне ощутить себя друзьями, товарищами и братьями…
ПОДГОТОВКА К ВСТРЕЧЕ ВОИНОВ
В районах столицы идет деятельная подготовка к встрече возвращающихся из Красной Армии демобилизованных 2-й очереди.
Депутаты райсоветов с активом проводят учет квартир демобилизуемых. Там, где это необходимо, будет сделан ремонт.
Предприятия готовят для демобилизованных и их семей подарки. Обувная фабрика № 3 шьет 400 пар обуви, а валяльная фабрика – 300 пар валенок для школьников – детей фронтовиков. 200 шапок изготовила меховая фабрика…
«Вечерняя Москва»
Тараскин встретил меня в коридоре и строго предупредил:
– Сегодня в пять часов комсомольское собрание. Отчетно-перевыборное. Ты уже встал на учет?
– Нет. Из райкома еще не переслали мою учетную карточку.
Тараскин был важен и исключительно озабочен:
– Ты позвони в райком, поторопи. Надо активнее включаться в общественную жизнь. – Он придирчиво посмотрел на меня и внушительно добавил: – Это я тебе как член бюро говорю. И на собрание обязательно приходи…
– Хорошо, – сказал я. – А ты у Жеглова отпросился?
– Что значит «отпросился»?! – возмутился Коля. – Поставил в известность – и точка! Собрание – важное политическое мероприятие, и Жеглов сам обязан присутствовать…
– А Жеглов комсомолец? – удивился я.
– Конечно! Правда, ему уже двадцать шестой год… Скоро будем его рекомендовать кандидатом партии.
Я как-то и не задумывался, что Жеглову всего на три года больше, чем мне, – почему-то он во всем казался намного опытнее, умнее, старше…
Собрание проходило в актовом зале; и залом-то он считался только по названию – такой он был маленький. Набилось туда народу как селедок в бочку. Я хотел устроиться у входа на подоконнике, но увидел, что из середины зала мне машет рукой Варя, и стал пробираться к ней ближе; и полз я по чьим-то ногам, спинам, на меня ругались, чертыхали меня по-всякому, толкали и пинали. Наконец я добрался до Вари и устроился рядом с ней – две ее подружки подвинулись, косясь на меня и усмехаясь.
Председатель позвонил в колокольчик и сказал:
– Товарищи! Прошлое наше отчетно-выборное собрание состоялось еще во время Великой Отечественной войны – 20 сентября 1944 года. Многое пережила страна – и мы вместе с нею – за этот год. Об этом подробно доложит докладчик. А сейчас память погибших с прошлого собрания я предлагаю почтить вставанием…
Зал единым махом поднялся, стало тихо, только тяжело дышал кто-то у меня за спиной и гремел звонкий мальчишеский голос председателя:
– Аникин, Багаутдинов, Векшин, Гринберг, Седова, Топорков, Увалов, Яковлев… Вечная память комсомольцам, павшим с оружием в руках за счастье нашей Родины!
Слово для отчетного доклада получил наш секретарь Степа Захаров – белобрысый курчавый опер из ОБХСС. И шум понемногу улегся в зале. Я сидел рядом с Варей, ощущая ее теплое мягкое плечо и поглядывая на нее все время сбоку. Она толкнула меня тихонько локтем – слушай, мол, а не вертись!
Степа хорошо говорил – не по бумажке, а на память, только изредка заглядывая в блокнот, когда ему надо было привести какие-то цифры. Голос у него был громкий, раскатистый, и говорил он с выражением, а не бубнил, и когда ему казалось, что он голосом чего-то не дожал, не разъяснил и не убедил, то он еще рукой махал резко и решительно, будто саблей отсекал этот вопрос.
– …Больше пятнадцати тысяч килограммов крови дали доноры столичной милиции для воинов Красной Армии, – гремел Степа с трибуны. И сам хлопал в ладоши, и по лицу его было видно, что он так доволен, будто его самого спасли кровью доноров-милиционеров. – И особый низкий поклон нашим дорогим девушкам – комсомолкам-донорам, среди которых я хотел бы назвать Середину, Акимову, Леонтьеву, Рамзину, Попрядухину, Кикоть и многих других, которые сдавали свою кровь по двадцать – тридцать раз!
Зал гремел аплодисментами, я наклонился к Варе и спросил тихонько:
– А ты, Варя, тоже сдавала кровь?
– Семь раз, – смущенно улыбнулась Варя, будто стеснялась того, что вроде Кати Рамзиной не сдала кровь тридцать раз.
Я пожал слегка ее пальцы и шепнул:
– Варюша, а может быть, во мне и твоя кровь течет?..
– …Исключительно важное значение имело проведение огородной кампании для улучшения продуктового снабжения работников милиции, – взмахивал сразу двумя руками Степа Захаров. – И безусловно, надо признать, что лучше всех с этим ответственным мероприятием справились сотрудники семьдесят восьмого отделения милиции, которые на своем огороде в Измайлове накопали по шестнадцать-семнадцать мешков картошки с каждого участка. А работники ОБХСС Калининского района провалили это дело, поскольку у них собрано не более двух-трех мешков…
Степа покритиковал еще немного транспортников, не обеспечивающих своевременный ремонт автомашин, потом сделал остановку, помолчал и сказал негромко:
– К сожалению, не обошлось без ЧП… – и зал, как по команде, затих, а Степа продолжал: – Один из наших… оказался трусом. – Тишина в зале напряглась до предела. – Выполняя боевое задание, лейтенант Соловьев струсил, предал товарищей…
Зал взорвался возмущенными криками:
– Позор! Подлец!
Девчушка в сержантских погонах, сидевшая перед нами, наклонилась к подруге, громко шепнула ей:
– В засаде они сидели, и он убийцу выпустил, испу-га-ался…
А зал гремел:
– Вон из комсомола!
Захаров постучал карандашом по графину, объявил:
– Тихо, товарищи. Персональное дело комсомольца Соловьева будет рассматриваться особо. А сейчас – к повестке…
Он еще говорил о наших задачах, о повышении профессиональной подготовки, укреплении дисциплины, и когда он кончил, то председатель совершенно неожиданно для меня сказал:
– В прениях первое слово предоставляется председателю шефской комиссии бюро комсомола сержанту Синичкиной…
Варя встала, одернула юбку и сказала:
– Товарищи, у меня голос громкий, я буду с места говорить, а то на трибуну не пробраться. – И говорила она действительно очень звонко, отчетливо, и мне пришло в голову, что это только я один такой куль – двух слов на людях связно сказать не могу.
– Пусть на сцену идет! – услышал я выкрик Жеглова и стал его искать глазами, пока не разглядел, что он сидит в президиуме – вторым слева от председателя.
– Пусть с места говорит! – кричали из зала. – А то все время уйдет на хождение туда и обратно!
И я, конечно, закричал:
– С места! Тут лучше!
Жеглов увидел меня, усмехнулся и развел руками:
– Воля масс – закон для президиума!..
– Товарищи! Шефская комиссия проделала за истекший отчетный период немалую работу, хотя нерешенных вопросов еще остается тьма. Основное внимание мы уделяли детям и семьям наших погибших товарищей – тех, кто пал на фронте или здесь при исполнений служебных обязанностей. В клубе Управления мы провели большой праздничный утренник, на который к детям приехали замечательные наши артисты Качалов, Москвин и Хмелев. Всем детям мы приготовили праздничные гостинцы – хлеб с повидлом, орехи и очень вкусные соевые конфеты. К предстоящему празднику двадцать восьмой годовщины Великой Октябрьской революции мы тоже постарались сделать подарки для детей наших погибших товарищей. Мы распределили сто пятьдесят кусков мыла, сорок три ордера на промтовары – в основном на обувь и пальто, – и в каждую такую семью уже завезли по сто пятьдесят килограммов картофеля, пятьдесят кило капусты и по два кубометра дров…
Лицо у Вари раскраснелось, блестели огромные серо-зеленые глаза, она говорила быстро и весело, и, когда я смотрел на нее, лицо мое невольно расплывалось в блаженную, счастливую улыбку.
– …Замечательно проявил себя комсомолец старшина Иванов, имеющий гражданскую профессию сапожника. Он очень хорошо и быстро починил к наступающей зиме обувь всем нуждающимся детям сотрудников Управления и многим нашим товарищам, у которых не кончился еще срок носки форменной обуви, а она уже пришла в негодность…
Это был, наверное, тот самый Иванов из комендантского взвода, к которому меня обещал отвести Тараскин; так мы до сих пор к нему и не собрались.
– …Коновалов, который отвечает за организацию подарков раненым в московских госпиталях, халатно относится к своим обязанностям. Если бы не инициатива девушек из отдела РУД – ГАИ, вопрос этот стал бы под угрозу срыва, а это неслыханный позор! Надо отстранить Коновалова от такого важного дела…
Варя села на место, и я сказал ей:
– Ты замечательно выступала…
Потом вышел на сцену из-за стола президиума Жеглов, и на трибуну он не пошел, а говорил, расхаживая по крошечной свободной полоске перед столом:
– Когда год назад партия и правительство оказали огромную честь, наградив нас орденом Красного Знамени, комсомол поставил перед нами задачу: «Каждому работнику милиции – семилетнее образование!» Оправдываем ли мы доверие? Выполняем ли мы лозунг о семилетнем образовании? Со всей прямотой надо признать: пока еще с этим вопросом у нас плохо! Начальник бригады Мамыкин никак не закончит семилетку, оперуполномоченного Флегонтова исключили из школы, оперуполномоченный Пасюк третий год числится в шестом классе…
– Ты еще про деда моего вспомни! – крикнули из зала. – Пасюку уже за тридцать!
– Ну и что, если Пасюк уже немолодой человек? Что же, ему из-за этого так и пребывать во тьме невежества? Задача более подготовленных сотрудников – подтянуть на свой уровень менее грамотных товарищей. Милиционер – представитель советской власти, а власть можно дискредитировать не только непотребным поведением, но и своей серостью…
– Ты у нас больно ясный! – кричал все тот же голос из-за угла зала. – Пасюк в твоей бригаде работает, ты бы его и подтягивал к себе!
– И подтяну! А ты хочешь говорить – выходи на трибуну и говори, а оратора не смей перебивать…
– О-ра-тор! – засмеялись несколько человек.
Но Жеглова с толку не собьешь.
– Вот ты, Сапегин, смеешься, а сам на политзанятиях заявил, что помнишь Антарктиду потому, что в этом государстве нет столицы! В твоей зоне планетарий находится, люди поглядеть его за пять тысяч километров приезжают. Ты же семь раз на дню мимо таскаешься, а ведь в нем наверняка ни разу и не был, а?
Все дружно захохотали. Сапегин, растерянно качая головой, говорил:
– Ну не был, схожу еще. Я вокруг планетария не под ручку прогуливаюсь…
– …Нам надо всем развивать культуру в себе, и самые верные пути для этого – учеба, чтение книг, участие в художественной самодеятельности. В сентябре был общегарнизонный смотр, а начальники десятого и сорок второго отделений милиции не отпустили своих сотрудников на него. Как это понимать?
Особенно оживленно загомонили девушки. Жеглов успокаивающе поднял руку и закончил:
– Владимир Ильич Ленин сказал, что машина советской администрации должна работать аккуратно, честно, быстро. И если к нашей честности приложить необходимое образование, то мы все обязательно будем успешно работать – аккуратно и быстро!..
И под единодушные аплодисменты закончил свою речь.
Потом поднялся Мамыкин:
– Товарищи, многие или, может, некоторые посчитают неважным, что я скажу, но я думаю, это очень важное дело. – Он остановился на минуту, попил воды из стакана. – Находится у нас немало молодых товарищей, и комсомольцев в их числе, готовых истратить десятки рублей на мороженое, папиросы и конфеты. Эти транжиры забывают, что оклад в четыреста семьдесят восемь рублей не бесконечен, и потом они бегают занимать у сослуживцев на обед. Не к лицу это работнику милиции! – закончил он под общий смех и аплодисменты.
После Мамыкина говорили еще часа полтора, в маленьком зале уже дышать стало нечем – стекла запотели, и по ним сочились тоненькие струйки.
Потом полковник Карасев вручил сержанту Маше Колесниковой ценный подарок начальника Управления милиции – отрез бостона – за то, что она одна задержала двух вооруженных грабителей.
И началось голосование. Орали до хрипоты, добиваясь одних и отводя кандидатуры других, жалобными голосами отбивались самоотводчики, список все рос, и только я не участвовал в этой сумятице – они все друг друга хорошо знали, а я их видел всех вместе впервые.
Перед подсчетом голосов объявили перерыв. Я сказал Варе:
– Варь, я тебя провожу?
Она кивнула, но в этот момент подошел Жеглов, улыбаясь, заявил:
– Варвара, придется мне вас разлучить…
– Это почему еще? – набычился я.
Жеглов подмигнул:
– По делишку нам с тобой сейчас надо сбегать…
Я повернулся к Варе:
– Я позвоню?
– Да. Будь здоров. – И ушла в зал.
А мы пошли с Жегловым к себе в кабинет, и он все посматривал на часы, будто боялся опоздать куда-то. Набрал номер телефона и говорил как-то странно:
– Это ты?.. Ага, привет… Хорошо… Как договорились… Все, буду…
Он взглянул на меня, засмеялся:
– Ну что, орел, сопишь? Недоволен мною сильно? А-а?
Я пожал плечами.
– Слушай, Шарапов, а как же ты с Варей разговариваешь? Из тебя же слова` за деньги тянуть приходится.
– Ничего, как-нибудь без твоего краснобайства обойдусь…
– Да ты не сердись! Оторвал я тебя, конечно, от Варвары, но сам знаешь: «первым делом, первым делом самолеты…»
10 октября 1945 года в Октябрьском зале Дома Союзов состоится 34-й тираж Государственного займа 2-й пятилетки, выпуска четвертого года.
Объявление
Мы вышли с Петровки около девяти вечера, и ночь, разжиженная желтыми тусклыми огнями на бульварах, непроницаемо расползлась по окрестным переулкам. Накрапывал мелкий дождь, ветер с грохотом рвал на крышах отставшие листы толя и жести, и мы зябко кутались в свои тощие плащи. С Каретного вышли на Колобовский, спустились к цирку, перепрыгнули через забор огромного недостроенного дома, мрачно темневшего провалами оконных проемов. В этом здании должен был разместиться не то какой-то новый театр, не то новый цирк, но из-за войны стройку забросили, не успев положить кровлю, и время обошлось с ним не хуже, чем хорошая бомбежка. Мне это здание сильно напоминало развороченный собор Святого Николая в Берлине, в котором немцы установили противотанковую батарею, и мы их выкуривали оттуда просто мучительно – долбили храм прямой наводкой.
Эту заброшенную стройку тоже будто брали приступом – повсюду были навалены груды битого кирпича, дыбились катушки старых кабельных барабанов, надолбами торчали треснувшие бетонные балки. Мы присели с Жегловым на перевернутый ящик, и я спросил его:
– А кого мы тут ждем?
– Знающих людей… – коротко сказал Жеглов, и мне в темноте показалось, будто он усмехается.
– Они нас тут в темноте не углядят, твои знающие люди.
– Я их сам угляжу, – хмыкнул Жеглов.
– Но ведь… – собрался я пуститься в обсуждение, но Жеглов положил мне руку на плечо и шепнул:
– Давай помолчим. Так лучше будет…
И мы с ним молчали. Довольно долго. Пока я вдруг не услышал шорох – сыпались обломки под ногами, шаркали подметки по мусору. Я толкнул Жеглова в бок – идут! Глаза мои уже привыкли к темноте, и я увидел, как Жеглов вытянул шею, тщательно прислушиваясь, и осталось у меня слабое утешение – со слухом у меня лучше, чем у него. В черном сумраке я увидел силуэт человека. Жеглов еле слышно присвистнул два раза: «фью-фью!» И тот ему ответил так же. Жеглов мне сказал:
– Подожди меня тут…
Он неслышно скользнул в темноте к знающему человеку, и мне тоже было на него любопытно взглянуть, но у Жеглова были, по-видимому, в этом смысле другие планы.
Тихо здесь было, за забором. Из-за домов проникал сюда отсвет фонарей, с улицы доносился дребезг колес на разбитой мостовой. И в слабом отсвете я видел четкие фигуры Жеглова и его знающего человека, будто вырезанные из черной бумаги, как это очень ловко делал в фойе «Урана» инвалид всем желающим за рубль: вырезали и забыли наклеить на картон, и от этого они все время в разговоре шевелили руками, наклонялись друг к другу, и мне казалось, что они играют в китайский бокс – потычут пальцами, побарахтаются, разойдутся и снова бросаются в бессильную атаку.
Потом этот человек быстро и незаметно исчез, а Жеглов свистнул и помахал мне рукой. Я подошел и, хотя мне очень хотелось узнать, что сказал знающий человек, спрашивать все-таки не стал – Жеглов ведь не хотел, чтобы я слышал их разговор, будто я посторонний или болтун и мог кому-то растрепаться.
Мы вышли на Цветной бульвар, и я подумал о том, как мы все время неотвратимо крутимся вокруг места, где убили Васю Векшина; что бы ни происходило, мы так или иначе выходили сюда, и я не мог понять, случайность это или есть какой-то тайный смысл в том, что мы снова и снова попадаем на Цветной.
Перешли мы через трамвайную линию и отправились вглубь Сухаревского переулка. Жеглов покосился на меня и спросил:
– Ты чего надулся как мышь на крупу?
– Я? Ничего я не надулся! Это тебе показалось.
– Ха, показалось! А то я не вижу.
– А если видишь, то чего спрашиваешь?
– Ох, Шарапов, беда мне с тобой – сколько же еще тебя надо будет учить? Со временем ты уразумеешь, что оперативная работа требует доверия собеседников, спокойствия в разговоре, что всякий третий гораздо более лишний, чем в любви!
– Зачем же ты меня с собой взял? Чтобы с места на место не скучно было ходить?
Жеглов весело засмеялся:
– Как зачем? А если мой собеседничек захочет меня ножиком потрогать? Они ведь люди ужасно грубые и нервные…
И я так и не понял, всерьез говорит Глеб или шутит, потому что он оставил меня неожиданно в какой-то подворотне, пробормотав:
– Одну минутку… – И постучал в окно бельэтажа – «тук-тук». И еще три раза подряд – «тук-тук-тук».
В окне погас свет, мелькнуло чье-то лицо за стеклом, приплюснулось блином и исчезло. Жеглов пошел во двор, сказав мне:
– Ты тут на лавочке посиди пока…
Всклокоченная старуха прошагала от дверей к сараям, в тени которых пристроился Жеглов, и что-то они там долго бурчали промеж себя, и старуха рокотала, как мотор на больших оборотах, и Жеглов ее укрощал все время:
– Понятно, понятно… Бабаня, не определяйте голосом… Тише… Да не гудите вы так!..
Потом мы поднялись по Сухаревскому, пересекли Сретенку и через Даев переулок начали петлять по проходным дворам, по каким-то задворкам вышли на Ананьевский. Я не выдержал и спросил:
– Ну что?
– А ничего? – беззаботно сказал Жеглов. – Не знают они ни хрена…
И здесь с кем-то разговаривал Жеглов в подъезде, и лица этого мужика я тоже не видел. В троллейбусе проехали по Мещанке и сошли на Капельском, и тут возобновился наш головокружительный обход по бесчисленным проходным дворам, тупикам, по баракам, старым покосившимся домишкам, и только по своей военной привычке ориентироваться в направлении я смекал, что мы постепенно смещаемся к Каланчовке, трем вокзалам.
Было, наверное, уже около полуночи, когда весело насвистывающий Жеглов спустился с чердака шестиэтажного дома около железнодорожной насыпи у Ленинградского вокзала. Он подталкивал перед собой невероятно чумазого парнишку и говорил ему:
– Ты, Рублик, не шалопутничай больше – иди и скажи, что от меня, там примут, а я завтра позвоню обязательно, все будет в порядочке. Усек?
– Усек, – хрипло сказал парнишка. – Не наврете, гражданин Жеглов?
– Хамский ты шкет, Рублик. Ты разве от кого слышал, чтобы Жеглов врал? Беги, пока не передумал. Брысь!
И парень побежал в сторону вокзалов, а Жеглов хлопнул меня ладонью по спине и сказал:
– Все, можем идти спать. Петя Ручечник завтра будет в Большом театре…
Я действительно очень удивился и спросил Жеглова, не скрывая восхищения:
– Ну ты и даешь! А откуда узнал?
– От верблюда! – находчиво сказал Жеглов и потащил меня к трамвайной остановке.
К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН ГОРОДА МОСКВЫ
С 16 октября 1945 года будут выдаваться талоны на приобретение керосина. Керосин выдается всему населению города по 2 литра на человека. Выдача талонов будет производиться по месту получения основных продовольственных карточек через уполномоченных карточных бюро учреждений.
Продажа керосина в нефтелавках начинается 17 октября с. г. Срок действия талонов – до 1 ноября 1945 года.
Зав. Мосгорторготделом ФилипповИзвещение Московского городскогоотдела торговли
Я подписал кадровичке пропуск на выход и взглянул на часы: половина первого. День проходил в трудах праведных, но совершенно без толку. По списку, который мы составили со следователем Панковым, я вызывал и допрашивал сослуживцев Груздева и Ларисы, и все это было довольно нудно, хотя бы потому, что я не знал толком, о чем их спрашивать. «Что вы можете сказать о нем как о человеке?», «Какой он работник?», «Известно ли вам что-либо об их взаимоотношениях?» – глупости какие-то. Груздев ведь при всех условиях не был этим самым… Синей Бородой… Как там ни расспрашивай, убил-то он впервые и вряд ли советовался об этом с сослуживцами или делился с ними своими переживаниями. А уж о Ларисе и говорить нечего…
Вчера пришла справка на наш запрос о судимостях Груздева – «нет, не судим, к уголовной ответственности не привлекался, приводов не имел». Сослуживцы и вовсе в один голос твердят, что мужчина он порядочный, выдержанный, работник замечательный – награды у него и все такое прочее. Что от жены ушел, не таил, сказал только, что она нашла себе другого человека… Так с кем, знаете ли, не бывает, дело житейское. А угроз каких в ее адрес или чего-нибудь подобного – боже упаси! И Ларисины сослуживцы показывают, что никаких жалоб на Груздева от нее сроду не слышали, наоборот, даже когда он от нее съехал, говорила она как-то, что таких порядочных мужчин нынче поискать…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?