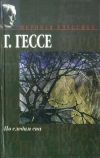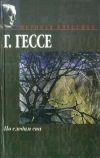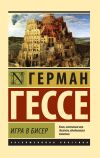Текст книги "Росхальде"

Автор книги: Герман Гессе
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
– Какие чудесные снимки! – восклицал Верагут в полном восторге. – Ты все сделал сам?
– Отчасти, – сухо отвечал Буркхардт, – некоторые сделаны моими тамошними знакомыми. Просто мне хотелось дать тебе хоть самое малое представление о краях, где мы живем.
Он сказал это как бы невзначай, равнодушно складывая фотографии в стопки, и Верагут даже заподозрить не мог, как заботливо и старательно он приготовил свое собрание. Долгие недели он не расставался с молодым английским фотографом из Сингапура, а затем с японцем из Бангкока, и в ходе множества вылазок и путешествий повсюду – от моря до глухих дебрей – они отыскали и запечатлели все мало-мальски красивое с виду и примечательное, затем фотографии были аккуратно проявлены и напечатаны. Они были Буркхардтовой приманкой, и он с глубоким волнением наблюдал, как его друг клюнул на нее и попался. Он показывал снимки домов, улиц, деревень, храмов, фотографии сказочных пещер Бату[4]4
Пещеры Бату – крупнейший за пределами Индии индуистский храмовый комплекс (Малайзия).
[Закрыть] близ Куала-Лумпура и экзотически красивых изломов известняковых и мраморных гор в районе Ипоха[5]5
Ипох – город в нынешней Малайзии.
[Закрыть], а когда Верагут порой спрашивал, не найдется ли там и фото аборигенов, он извлекал снимки малайцев, китайцев, тамилов, арабов, яванцев, полуобнаженных портовых атлетов-кули, тощих старых рыбаков, охотников, крестьян, ткачей, торговцев, красавиц в золотых украшениях, стаек темнокожих голых ребятишек, рыбаков с сетями, сакхао[6]6
Сакхао – народность во Вьетнаме.
[Закрыть] в серьгах, с носовыми свистульками и яванских танцовщиц, увешанных серебром. У него были снимки всевозможных пальм, крупнолистных сочных бананов, уголков джунглей с тысячами лиан, священных храмовых рощ и черепашьих прудов, водяных буйволов на сырых рисовых полях, дрессированных слонов на работах и диких слонов, игравших в воде, вскинув к небу трубящий хобот.
Художник брал в руки снимок за снимком. Многие он, бросив на них мимолетный взгляд, откладывал в сторону, иные сравнивал друг с другом, отдельные фигуры и головы рассматривал очень внимательно. О многих фотографиях спрашивал, в какое время дня они сделаны, вымерял тени и все глубже уходил в задумчивое созерцание.
– Все это можно бы написать, – рассеянно пробормотал он однажды сам себе.
Но в конце концов со вздохом вскричал:
– Довольно! Ты еще столько всего непременно мне расскажешь. Как чудесно, что ты здесь! Я снова вижу все совсем иначе. Идем, прогуляемся часок, хочу показать тебе кое-что совершенно прелестное.
Оживленный и стряхнувший усталость, Верагут потянул Буркхардта за собой, по проселочной дороге, в поля, навстречу возвращающимся домой возам с сеном. Он с наслаждением вдыхал теплый густой запах скошенной травы, и неожиданно прилетело воспоминание.
– Помнишь, – смеясь спросил он, – лето после моего первого семестра в Академии, когда мы вместе жили в деревне? Я тогда писал сено, одно только сено, помнишь? Две недели изо всех сил старался написать несколько копешек на горном лугу, а никак не получалось, цвет мне не давался, приглушенный матово-серый, в общем сенной! И когда я все-таки его поймал – сперва в довольно грубом приближении, но уже понял, что смешивать его надо из красного и зеленого, – я так возликовал, что не видел ничего, кроме сена. Ах, замечательная штука, такие вот первые пробы, поиски и находки!
– Да уж, век живи, век учись, – вставил Отто.
– Верно. Но те вещи, что мучают меня теперь, не имеют с техникой ничего общего. Знаешь, уже который год я все чаще замечаю, что, глядя на какой-нибудь ландшафт, вдруг невольно думаю о своей ранней юности. Все тогда выглядело по-иному, и мне бы хотелось когда-нибудь это написать. Иногда минуту-другую я видел словно бы как в ту пору, все вдруг снова обретало удивительный блеск… но ведь этого мало. У нас хватает хороших художников, людей тонких, деликатных, которые изображают мир таким, каким он видится умному, скромному старику. Но нет ни одного, что пишет мир таким, каким видит его свежий взгляд самоуверенного, породистого мальчугана, ну а те, кто делает подобные попытки, в большинстве просто плохие ремесленники.
В задумчивости художник сорвал на краю поля розовато-голубую скабиозу и с минуту неотрывно смотрел на нее.
– Тебе надоело? – вдруг спросил он, как бы очнувшись, и подозрительно взглянул на друга.
Отто молча улыбнулся ему.
– Знаешь, – продолжал Верагут, – одна из картин, какие мне еще хотелось бы написать, это букет полевых цветов. Надо тебе сказать, моя маменька умела собирать изумительные букеты, я никогда больше не видел ничего подобного, в этом деле она была поистине гений. По натуре сущий ребенок, она почти все время напевала, ходила легкой походкой, в большой коричневатой соломенной шляпе, во сне я всегда вижу ее такой. И мне хотелось бы написать именно такой букет полевых цветов, какие она любила: скабиозы, и тысячелистник, и мелкие розовые вьюнки, а среди них несколько красивых травинок и зеленый колосок овса. Я приносил домой сотни букетов, но пока что не составил правильного, в котором собран весь аромат, как в составленном маменькой. Ей, например, не нравился белый тысячелистник, она всегда выбирала изящный, редкий, с оттенком лилового, по полдня перебирала тысячи трав, пока наконец решалась взять одну… Ах, я не умею сказать, ты не понимаешь.
– Отчего же, понимаю, – кивнул Буркхардт.
– Н-да, об этом букете полевых цветов я иной раз думаю чуть не полдня. Я точно знаю, какой должна быть моя картина. Не пресловутым фрагментом натуры, который подмечен зорким наблюдателем и опрощен умелым, ловким художником, но и не сентиментально-благостным, как у так называемого художника-краеведа. Картина должна быть совершенно наивной, как бы увиденной глазами одаренного ребенка, нестилизованной и полной простоты. Картина с туманом и рыбами, что стоит в мастерской, как раз диаметрально ей противоположна – надобно уметь и то и другое. Ах, мне хочется написать еще так много, так много!
Он свернул на узкую луговую тропинку, которая отлого поднималась на вершину невысокого круглого холма.
– Ну, сейчас увидишь! – энергично воскликнул он и, точно охотник, устремил взгляд куда-то вперед. – Как только достигнем вершины! Вот это я напишу нынче осенью.
Они вышли на вершину холма. На другой стороне вид заслоняла лиственная рощица, наискось пронизанная вечерним светом, и взгляд, избалованный луговым простором, лишь с трудом пробивался сквозь деревья. Под высокими буками, где стояла замшелая каменная скамья, заканчивалась какая-то дорога, и, следуя ей, глаз обнаруживал над скамьей просвет, а там, за темным туннелем древесных крон, открывались глубокие дали, чистые и сияющие, долина, полная кустарника и ивняка, излучина сверкающей синевато-зеленой реки, и совсем уж далеко уходили в бесконечность гряды холмов.
Верагут показал вниз.
– Вот это я напишу, как только осень начнет расцвечивать буки. А в тени на скамье усажу Пьера, чтобы мимо его головы можно было заглянуть вниз, в долину.
Буркхардт молчал, слушая друга и всем сердцем ему сочувствуя. «Как ему хочется обмануть меня! – думал он, втихомолку улыбаясь. – Как он рассуждает о планах и о работе! Раньше-то никогда этого не делал. Такое впечатление, будто старается подробно рассказать обо всем, что еще радует его и покуда примиряет с жизнью». Друг знал художника и не пошел ему навстречу. Знал, пройдет совсем немного времени, и Йоханн сбросит с плеч бремя, накопленное за долгие годы, и сломает печать невыносимого молчания. А потому, выжидая, с мнимым спокойствием шагал рядом, хотя и удивлялся с грустью, что даже столь незаурядный человек в несчастье становится ребячлив и с завязанными глазами и скованными руками бредет сквозь колючие шипы.
Когда они вернулись в Росхальде и спросили про Пьера, им сказали, что он с госпожой Верагут уехал в город встречать господина Альбера.
Глава четвертая
Альбер Верагут энергично расхаживал по музыкальной комнате своей маменьки. На первый взгляд, он очень напоминал отца, потому что глаза у него были отцовы, но в целом куда больше походил на мать, которая, прислонясь к роялю, провожала его ласково-внимательным взглядом. Когда он снова оказался подле нее, она крепко схватила его за плечи и повернула лицом к себе. Прядь белокурых волос падала на широкий бледный лоб, глаза горели мальчишеским волнением, красивые пухлые губы гневно кривились.
– Нет, мамá! – решительно вскричал он, высвобождаясь из ее рук. – Ты же понимаешь, не могу я пойти к нему. Зачем ломать бессмысленную комедию! Он знает, я его ненавижу, и сам тоже меня ненавидит, что бы ты ни говорила.
– Ненавидеть! – воскликнула она с едва заметной строгостью. – Не бросайся словами, которые все искажают! Он твой отец, и было время, когда он очень тебя любил. Я запрещаю тебе говорить подобным образом.
Альбер остановился и, сверкая глазами, посмотрел на нее.
– Ты, конечно, можешь запретить мне такие слова, но что это изменит? Может, я должен быть ему благодарен? Он исковеркал тебе жизнь, а мне – родной дом, превратил наш красивый, радостный, чудесный Росхальде в место, полное неуюта и отвращения. Я здесь вырос, мама, и, бывает, каждую ночь вижу во сне давние комнаты и коридоры, сад, конюшню и голубятню. Нет у меня другой родины, чтобы любить ее и видеть во сне, чтобы по ней тосковать. А жить мне теперь приходится в чужих местах, даже на каникулы я не могу пригласить сюда друга, ведь он увидит, какую жизнь мы тут ведем! И каждый, кто со мной знакомится и слышит мое имя, тотчас заводит хвалебную песнь моему знаменитому отцу. Ах, мама, лучше бы у нас не было ни отца, ни Росхальде, лучше бы мы были бедняками, и ты бы занималась шитьем или давала уроки, а я бы помогал зарабатывать деньги.
Маменька подошла к нему, силой усадила в кресло, присела к нему на колени, отвела с лица упавшую прядь.
– Ну вот, – сказала она своим спокойным грудным голосом, звуки которого означали для него родной приют, – ну вот, ты все мне высказал. Иной раз высказаться весьма полезно. Надо знать все то, что приходится терпеть. Однако ж причиняющее боль будоражить не стоит, дитя мое. Ты уже с меня ростом, скоро станешь мужчиной, и я этому рада. Ты – мое дитя и им останешься, но пойми, я подолгу бываю одна, и забот у меня много, поэтому мне нужен настоящий друг-мужчина, и им будешь ты. Ты будешь играть со мной в четыре руки, и гулять со мной в саду, и присматривать за Пьером, мы чудесно проведем каникулы. Только не надо поднимать шум и усугублять мои сложности, иначе я подумаю, что ты еще мальчишка-подросток и у меня очень нескоро появится умный друг, которого мне так хочется иметь.
– Да, мама, да. Но разве можно постоянно молчать обо всем том, что делает тебя несчастным?
– Так лучше всего, Альбер. Это нелегко, детям не по плечу. Но так лучше всего… Давай теперь что-нибудь сыграем?
– С удовольствием. Бетховена, Вторую симфонию – хочешь?
Едва они начали играть, как дверь тихонько отворилась, в комнату проскользнул Пьер, сел на скамеечку и стал слушать. При этом он задумчиво смотрел на своего брата, на его шею в спортивном вороте шелковой рубашки, на его волосы, двигающиеся в ритме музыки, на его руки. Сейчас, не видя глаз брата, он обратил внимание на большое сходство Альбера с мамой.
– Тебе нравится? – спросил Альбер во время паузы.
Пьер кивнул, но немного погодя тихонько вышел из комнаты. В вопросе Альбера мальчик почуял отзвук тона, которым, как он уже усвоил, большинство взрослых разговаривают с детьми и фальшивую приветливость которого и неловкую снисходительность совершенно не выносил. Ему хотелось увидеть старшего брата, он даже с нетерпением ждал его и на вокзале встретил с огромной радостью. Но мириться с этаким тоном не собирался.
Между тем в мастерской Верагут и Буркхардт ждали Альбера, Буркхардт – с нескрываемым любопытством, художник – в нервозном смущении. Как только он узнал о приезде Альбера, мимолетная живость и разговорчивость тотчас его оставили.
– Ты не ожидал его приезда? – спросил Отто.
– Да нет, в общем. Я знал, что он приедет на днях.
Верагут выудил из коробки со всяким хламом давние фотографии. Отыскал детский портрет и поставил его подле фотографии Пьера, для сравнения.
– Таким был Альбер в том же возрасте, что Пьер сейчас. Помнишь его?
– Конечно, хорошо помню. Фото очень похожее. В нем так много от твоей жены.
– Больше, чем в Пьере?
– Да, намного больше. Пьер не похож ни на тебя, ни на свою мать. Кстати, вот и он. Или это Альбер? Нет, не может быть.
За дверью послышались легкие мелкие шаги по плитке и по скребку, затем дверная ручка, чуть помедлив, повернулась, и вошел Пьер, вопросительно-приветливым взглядом выясняя, нет ли здесь возражений против его общества.
– Где же Альбер? – спросил отец.
– У маменьки. Они на рояле играют.
– Вот как, на рояле.
– Ты сердишься, папá?
– Нет, Пьер, замечательно, что ты пришел. Расскажи нам что-нибудь!
Мальчик заметил фотографии, взял их в руки.
– О, это я! А это кто? Альбер?
– Да, Альбер. Так он выглядел, когда ему было столько же лет, сколько тебе сейчас.
– Меня тогда еще не было на свете. А теперь он совсем большой, и Роберт говорит ему господин Альбер.
– Ты тоже хочешь стать большим?
– Да, хочу, конечно. Большим можно иметь лошадей и ездить верхом, я бы тоже не прочь. И никто тогда не посмеет называть меня малышом и щипать за щеки. Но вообще-то мне не очень хочется становиться большим. Старики часто такие неприятные. Альбер тоже стал совсем другим. И потом, старые люди все больше стареют и в конце концов умирают. Лучше бы мне остаться как сейчас, а иногда я думаю, как было бы здорово уметь летать, высоко-высоко, вместе с птицами, подниматься ввысь, над деревьями, в облака. Вот когда я бы над всеми посмеялся.
– И надо мной тоже, Пьер?
– Немножко, папа. Старые люди все иной раз ужасно чудны́е. Мама не в счет. Мама временами лежит в саду в длинном таком кресле и ничего не делает, только глядит в траву, а руки у нее свисают вниз, и она совсем спокойная и немножко грустная. Хорошо, когда не нужно все время что-то делать.
– Ты что же, никем быть не хочешь? Ни строителем, ни садовником, ни художником?
– Нет, не хочу. Садовник у нас уже есть, и дом тоже есть. Хорошо бы заняться совсем другими вещами. Например, понять, что говорят друг дружке малиновки. И увидеть, как это деревья пьют воду корнями и могут вырасти такими большими. Мне кажется, по-настоящему никто этого не знает. Учитель много знает, но только всё какие-то скучные вещи.
Мальчик сел на колени к Отто Буркхардту и теребил пряжку на его ремне.
– Многое просто нельзя знать, – мягко сказал Буркхардт. – Многое можно только видеть и довольствоваться его красотою. Если когда-нибудь отправишься ко мне в Индию, ты будешь много дней плыть на большом корабле, а перед кораблем будут то и дело выскакивать из воды маленькие рыбки, у них есть прозрачные крылышки, и они умеют летать. А порой прилетают и птицы, из дальней дали, с чужих островов, они очень устают, садятся на корабль и удивляются, что по морю плывет столько чужих людей. Им, поди, тоже хочется понимать нас и спросить, откуда мы и как нас зовут, да не получается, и тогда мы просто смотрим друг другу в глаза и киваем головой, а птица, отдохнув, встряхивается и снова улетает прочь, за море.
– Неужели вовсе неизвестно, как зовут этих птиц?
– О, конечно, известно. Но эти имена им дали люди, а уж как они сами себя зовут, нам знать не дано.
– Дядюшка Буркхардт так хорошо умеет рассказывать, папа. Мне бы тоже хотелось иметь друга. Альбер уже слишком большой. Люди в большинстве толком не понимают, что им говорят и чего от них хотят, а вот дядюшка Буркхардт сразу меня понимает.
Прибежала горничная, увела малыша. Вскоре настало время ужинать, и мужчины пошли в большой дом. Верагут был молчалив и расстроен. В столовой ему навстречу шагнул сын, подал руку:
– Добрый день, папа.
– Добрый день, Альбер. Хорошо доехал?
– Да, спасибо. Добрый вечер, господин Буркхардт.
Молодой человек держался очень холодно и корректно. Сопроводил маменьку к столу. За ужином разговор шел почти исключительно между Буркхардтом и хозяйкой дома. Речь зашла о музыке.
– Позвольте спросить, – обратился Буркхардт к Альберу, – какая музыка вам особенно по душе? Сам я, правда, уже давно отстал и с современной музыкой знаком разве что по названию.
Юноша вежливо поднял взгляд и ответил:
– Самое современное мне тоже знакомо только понаслышке. Я не принадлежу к определенному направлению и люблю всякую музыку, коли она хороша. Больше всего Баха, Глюка и Бетховена.
– О, классики. Из них я в мое время, собственно, более-менее знал лишь Бетховена. О Глюке мы вообще понятия не имели. Поголовно все увлекались Вагнером, надобно вам знать. Помнишь, Йоханн, как мы впервые слушали «Тристана»? Это был восторг!
Верагут невесело улыбнулся.
– Старая школа! – воскликнул он чуть резковато. – Вагнер устарел. Или нет, Альбер?
– О, напротив, его исполняют во всех театрах. Но я судить не берусь.
– Вам не нравится Вагнер?
– Я слишком мало его знаю, господин Буркхардт. В театре бываю очень редко. Меня интересует только чистая музыка, не опера.
– Ну а «Мейстерзингеры»! Их-то вы наверняка знаете. Они тоже никуда не годятся?
Альбер прикусил губу и на миг задумался, потом ответил:
– Я в самом деле не могу об этом судить. Это… как бы сказать?.. романтическая музыка, а она мне неинтересна.
Верагут скривился.
– Будешь местное вино? – спросил он, заговорив о другом.
– Да, спасибо.
– А ты, Альбер? Бокал красного?
– Спасибо, папа, лучше не стоит.
– Ты стал трезвенником?
– Вовсе нет. Но вино не идет мне на пользу, так что я лучше не буду.
– Ладно. Ну а мы выпьем, Отто. Твое здоровье!
Он залпом выпил полбокала.
Альбер продолжал играть роль благовоспитанного юноши, который хотя и имеет вполне определенные взгляды, но скромно держит их при себе, предоставляя слово старшим, не затем чтобы учиться, а чтобы к нему не приставали. Роль эта плохо ему подходила, и вскоре он почувствовал себя крайне неловко. Он отнюдь не хотел давать отцу, которого привык по возможности игнорировать, ни малейшего повода для критических замечаний.
Буркхардт молча наблюдал за происходящим, и таким образом не нашлось никого, кто бы добровольно возобновил иссякший от холода застольный разговор. Все спешили закончить трапезу, с вежливой обстоятельностью передавали друг другу то и это, сконфуженно вертели в руках десертные ложки и в невеселой трезвости дожидались, когда можно будет встать и разойтись. Именно в этот час Отто Буркхардт до глубины души прочувствовал отчуждение и холодное, безнадежное равнодушие, в котором окоченели и зачахли брак и жизнь его друга. Бегло глянув в его сторону, он увидел, как Верагут с досадой и скукой смотрит на еду, к которой едва притронулся, и, на секунду перехватив его взгляд, прочитал в его глазах мольбу и стыд, ведь он выдал свое состояние.
Грустное зрелище; казалось, равнодушное молчание, смущенный холод и безотрадная принужденность трапезы внезапно во весь голос заявили о Верагутовом позоре. И Отто ясно ощутил, что впредь каждый день его пребывания здесь станет лишь мерзким продолжением этого постыдного зрительства и мукой для друга, который лишь с отвращением поддерживал видимость и уже не имел ни сил, ни желания приукрашивать перед зрителем свое убожество. Необходимо положить этому конец.
Едва госпожа Верагут встала, ее муж тотчас отодвинул свое кресло.
– Я очень устал и прошу меня извинить. Не обращайте внимания!
Он вышел, забыв закрыть за собою дверь, и Отто слышал, как он медленно, тяжелыми шагами прошел по коридору и по скрипучей лестнице.
Буркхардт закрыл дверь и проводил хозяйку дома в салон, где рояль был по-прежнему открыт и вечерний ветерок перебирал нотные листы на пюпитре.
– Я хотел попросить вас что-нибудь сыграть, – неловко сказал он. – Но мне кажется, ваш муж не очень хорошо себя чувствует, ведь он весь день работал на солнце. С вашего позволения, я ненадолго составлю ему компанию.
Госпожа Верагут серьезно кивнула и даже не пыталась удержать его. Он откланялся и вышел, Альбер проводил его до лестницы.
Глава пятая
Смеркалось, когда Отто Буркхардт вышел из уже освещенной большой лампой передней и попрощался с Альбером. Под каштанами он остановился, жадно вдохнул приятно прохладный, пахнущий листвою вечерний воздух и стер со лба крупные капли пота. Если он может немного помочь своему другу, то именно сейчас.
В жилище художника света не было, и ни в мастерской, ни в подсобных помещениях он друга не нашел. Открыл дверь к озеру, тихонько обошел вокруг дома. И увидел его: Верагут сидел в плетеном кресле, в котором утром писал его, сидел, подперев голову руками и закрыв ладонями лицо, спокойно, будто спал.
– Йоханн! – негромко окликнул он, подошел, положил руку на склоненную голову.
Ответа не было. Буркхардт молча стоял в ожидании, поглаживая сраженного усталостью и мукой по коротким жестким волосам. В кронах деревьев гулял ветерок, в остальном было тихо и по-вечернему безмятежно. Шли минуты. Как вдруг от господского дома накатила сквозь сумерки широкая волна звуков, мощный, долгий аккорд, затем еще один. Первый такт фортепианной сонаты.
Художник поднял голову, мягко стряхнул руку друга, встал. Усталыми сухими глазами спокойно посмотрел на Буркхардта, попробовал улыбнуться, но не стал, только застывшие черты расслабились.
– Идем в дом, – сказал он и махнул рукой, словно отталкивая от себя наплывающую музыку.
Он пошел впереди. У двери мастерской остановился.
– Думаю, ты вряд ли задержишься здесь надолго?
«Как он все чувствует!» – подумал Буркхардт. И сдержанным голосом ответил:
– Один день роли не играет. Пожалуй, уеду послезавтра.
Верагут ощупью искал выключатели. С легким металлическим щелчком в мастерской вспыхнул слепяще-яркий свет.
– Тогда давай-ка разопьем бутылочку доброго винца.
Он позвонил в колокольчик, вызвал Роберта и отдал ему распоряжения. Посредине мастерской стоял новый портрет Буркхардта, почти готовый. Они постояли, глядя на него, меж тем как Роберт пододвинул стол и кресла, принес вино и лед, сигары и пепельницы.
– Отлично, Роберт, можете идти. Утром не будить! А теперь оставьте нас одних!
Они сели, чокнулись. Художник беспокойно поерзал в кресле, опять встал и выключил половину ламп. Потом снова грузно сел.
– Портрет еще не вполне готов, – начал он. – Возьми сигару! И будет вполне недурен, но в конце концов это не так важно. Да мы и увидимся еще.
Он выбрал себе сигару, тщательно обрезал, повертел в нервных пальцах и снова отложил.
– На сей раз ты приехал не слишком удачно, Отто. Мне жаль.
Голос у него неожиданно сорвался, он наклонился, схватил руки Буркхардта, крепко сжал.
– Теперь ты все знаешь, – устало простонал он, несколько слезинок упали на руку Отто. Однако же он не хотел распускаться. Снова выпрямился, усилием воли усмирил волнение и смущенно проговорил: – Извини! Давай выпьем по глоточку! Ты не куришь?
Буркхардт взял сигару.
– Бедняга!
Оба пили и курили в покойном молчании, следили, как свет ярко взблескивает в резных хрустальных бокалах, а в золотистом вине сияет мягче, как сизый дымок нерешительно плывет через просторное помещение и завивается в капризные петли, порой смотрели друг на друга, свободным, открытым взглядом, который более не нуждался в словах. Казалось, все уже сказано.
Ночной мотылек, шурша крылышками, метался по мастерской и раза три-четыре с глухим стуком ударился о стены. А потом бархатно-серым треугольником неподвижно замер на потолке.
– Поедешь в сентябре со мной в Индию? – в конце концов нерешительно спросил Буркхардт.
Снова долгая тишина. Мотылек медленно пошевелился. Серый, маленький пополз вперед, словно разучился летать.
– Может быть, – сказал Верагут. – Может быть. Мы непременно это обсудим.
– Да, Йоханн. Не хочу тебя мучить. Но хоть немного ты должен мне рассказать. Я не льстил себя надеждой, что твои отношения с женой снова наладятся, однако…
– Да в них с самого начала ничего хорошего не было!
– Верно. Тем не менее ужасно видеть, что дело зашло настолько далеко. Нельзя же так. Ты гибнешь.
Верагут хрипло рассмеялся.
– Нет, не гибну, старина. В сентябре выставлю во Франкфурте около дюжины новых картин.
– Ну хорошо. Но долго ли так может продолжаться? Ведь это бессмысленно… Скажи, Йоханн, отчего ты не разошелся с женой?
– Не так это просто. Я расскажу. Лучше тебе услышать все по порядку.
Художник отпил глоток вина да так и замер, наклонясь вперед, Отто же отодвинулся подальше от стола.
– Что у нас с женой изначально хватало сложностей, тебе известно. Несколько лет было еще так-сяк, ни хорошо ни плохо, и, вероятно, тогда мы могли бы кое-что спасти. Но я толком не умел скрыть свое разочарование и упорно требовал от Адели именно того, чего она дать не умела. Темпераментностью она никогда не отличалась, была от природы серьезна, сдержанна, и я мог бы понять это заранее. Никогда не умела смотреть на жизнь легко и преодолевать тяготы с юмором, верхоглядно. Моим претензиям и капризам, моим бурным порывам, а в итоге разочарованию могла противопоставить только молчание и терпение, трогательное, тихое, героическое терпение, которое часто брало меня за душу, но ни мне, ни ей никак не помогало. Если я сердился и выказывал недовольство, она молча страдала, а если я вскоре приходил с намерением все уладить, просил прощения или в минуты радости пытался развеселить и ее, ничего не получалось, она и тут молчала и все больше замыкалась в себе, в своей тяжеловесной верности. Когда я был с ней, она молчала уступчиво и испуганно, принимала вспышки гнева и веселое настроение с одинаковым спокойствием, а когда я уходил, играла в одиночестве на фортепиано и думала о девичьих годах. Так я все больше впадал в немилость, а в конце концов мне тоже стало больше нечего дать и нечего сказать. Я начал усердно работать и мало-помалу научился окапываться в работе, как в крепости.
Верагут, конечно, очень старался сохранить спокойствие. Ему хотелось рассказать, а не обвинять, но под словами все равно явственно сквозило обвинение, по меньшей мере жалоба на разрушенную жизнь, на разбитые надежды молодости и на пожизненную обреченность полубытию, безрадостному и совершенно противному глубинной его натуре.
– Уже тогда я порой думал расторгнуть брак. Но ведь это не так-то просто. Я привык сидеть в тишине и работать, и всякий раз меня пугала мысль о судах и адвокатах, о ломке всех мелких будничных привычек. Встреться мне тогда новая любовь, я бы легко принял решение. Но оказалось, что и моя собственная натура куда тяжелее на подъем, чем я думал. С некоторой меланхоличной завистью я влюблялся в хорошеньких молодых девушек, но чувство никогда не бывало достаточно глубоким, и я все больше осознавал, что уже не могу предаться любви с такой безоглядностью, как живописи. Всякая жажда дать себе волю, полностью забыть обо всем, всякое желание и всякая потребность были нацелены только на живопись, и за эти долгие годы я в самом деле не впустил в свою жизнь ни одного нового человека, ни женщину, ни друга. Ты же понимаешь, всякую дружбу мне пришлось бы начать с признания своего позора.
– Позора?! – тихо сказал Буркхардт, с оттенком укоризны.
– Конечно, позора! Так я ощущал это уже тогда, и с тех пор ничего не изменилось. Быть несчастным – позор. Позор, когда ты не вправе никому показывать свою жизнь, вечно что-то скрывать, притворяться. Хватит! Я тебе расскажу.
Мрачно глядя в свой бокал, он бросил потухшую сигару и продолжил:
– Альбер тем временем подрастал. Мы оба очень его любили, разговоры и заботы о нем держали нас вместе. Только когда ему исполнилось семь или восемь, я начал ревновать и бороться за него – точно так же, как сейчас борюсь с нею за Пьера! Я вдруг уяснил себе, что очень люблю мальчугана, жить без него не могу, и год за годом с постоянным страхом смотрел, как он мало-помалу охладевает ко мне и все больше льнет к матери.
Потом он серьезно захворал, и в эту пору тревог о ребенке все остальное ненадолго отступило, некоторое время мы жили душа в душу, как никогда прежде. Пьер – дитя этой поры.
С того дня, как малыш Пьер явился на свет, он владел и владеет всей любовью, какую я могу ему дать. Я вновь отпустил Адель, я позволил, чтобы Альбер после выздоровления все больше сближался с матерью, стал ее союзником против меня и постепенно моим врагом, пока мне не пришлось удалить его из дома. Я пожертвовал всем, стал совершенно нищ и непритязателен, даже отвык ругаться и командовать в доме и ничуть не возражал быть в собственном доме лишь гостем, которого терпят. Я не желал для себя ничего, кроме малыша Пьера, и когда жизнь под одной крышей с Альбером и вся обстановка в доме сделались невыносимы, я предложил Адели развод.
Пьера я хотел оставить у себя. Все прочее был готов отдать ей: пусть остается с Альбером, пусть сохранит для себя Росхальде и половину моих доходов, а по мне, так и больше. Но она не пожелала. Соглашалась развестись и принять от меня лишь самое необходимое – только не разлучаться с Пьером. Это была наша последняя ссора. Я еще раз попытался сделать все, чтобы спасти для себя остатки счастья; просил и обещал, угождал и унижался, грозил и плакал, а в конце концов бушевал – все напрасно. Она даже согласилась отослать Альбера. Неожиданно оказалось, что эта тихая, терпеливая женщина не намерена отступить ни на дюйм; она прекрасно чувствовала свою власть и использовала свое преимущество. Я тогда буквально ненавидел ее, и что-то от этой ненависти осталось навсегда.
Потом я нанял каменщиков, пристроил к мастерской маленькую квартирку, здесь с тех пор и живу, и все обстоит вот так, как ты видел.
Буркхардт задумчиво слушал и ни разу не перебил его, даже в те мгновения, когда Верагут, казалось, ожидал этого и даже хотел.
– Я рад, – осторожно сказал он, – что ты сам так ясно все видишь. Примерно так я и представлял себе ситуацию. Давай еще немного поговорим, раз уж начали! С тех пор как приехал сюда, я ждал этого часа не меньше, чем ты. Считай, будто тебя мучает неприятный нарыв, которого ты немножко стыдишься. Теперь я о нем знаю, и тебе уже легче, ведь больше незачем его утаивать. Но этого мало, надо подумать, не стоит ли вскрыть его и излечить.
Художник посмотрел на друга, неловко покачал головой и улыбнулся:
– Излечить? Такое не излечишь. Но вскрыть можно, приступай!
Буркхардт кивнул. Он так и сделает, нельзя, чтобы этот час пропал втуне.
– Одно в твоем рассказе осталось для меня неясно, – задумчиво начал он. – Ты говоришь, что не развелся с женой из-за Пьера. Но возникает вопрос: разве ты не мог заставить ее отдать Пьера тебе? Если бы вы развелись через суд, тебе бы наверняка присудили одного из детей. Об этом ты никогда не думал?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?