Текст книги "Если я останусь"
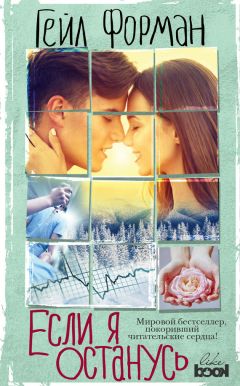
Автор книги: Гейл Форман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
15:47
Меня только что перевели из послеоперационной палаты в отделение реанимации и интенсивной терапии, или ОРИТ. Это комната подковообразной формы, в ней около дюжины кроватей; вокруг них постоянно снуют несколько медсестер, пробегая глазами компьютерные распечатки с записями наших физиологических показателей, выползающие в изножье кроватей. В центре палаты стоят другие компьютеры и большой стол, за которым сидит еще одна медсестра.
За мной следят медсестра и медбрат, а также все время сменяющие друг друга врачи. Медбрат – молчаливый, нездорового вида мужчина со светлыми волосами и усами; он мне не особенно нравится. А у медсестры кожа настолько черная, что отливает синевой, и говорит она с мелодичным акцентом. Она зовет меня «солнышком» и все время разглаживает на мне одеяло, хотя не похоже, чтобы я его скидывала.
Ко мне подсоединено столько трубочек, что я их и сосчитать не могу: одна в горле, дышит за меня; одна в носу, отсасывает жидкость из желудка; одна в вене, восполняет теряемую воду; одна в мочевом пузыре, мочится за меня; несколько в груди, фиксируют сокращения сердца; еще одна на пальце, записывает пульс. Аппарат искусственной вентиляции легких, помогающий мне дышать, задает мягкий приятный ритм, похожий на метроном: вдох, выдох, вдох, выдох.
Никто, кроме врачей, медсестер и социальной работницы, не заходил меня проведать. Именно соцработница беседует с бабушкой и дедушкой негромким сочувственным голосом. Она говорит, что я в тяжелом состоянии. Я не очень понимаю, что это значит – тяжелое. У телевизионных пациентов состояние всегда либо критическое, либо стабильное. «Тяжелое» звучит угрожающе. Когда человеку слишком тяжело, у него все перестает работать – а так и до могилы недалеко.
– Если бы мы могли хоть что-нибудь сделать, – говорит бабушка. – Я чувствую себя такой бесполезной, просто сидя здесь.
– Я узнаю, можно ли будет провести вас к ней через некоторое время, – говорит соцработница. У нее седые курчавые волосы, пятно от кофе на блузке и доброе лицо. – Девочка еще не отошла от операции и подключена к респиратору: он помогает ей дышать, пока тело приходит в себя после шока. Но даже пациентам в коматозном состоянии бывает полезно услышать голоса любимых и родных.
Дедушка кряхтит в ответ.
– У вас есть кто-нибудь, кому можно позвонить? – спрашивает соцработница. – Родственники, которые могут захотеть побыть здесь с вами. Я понимаю, что для вас это тяжелое испытание, но чем сильнее будете вы, тем больше это поможет Мие.
Я вздрагиваю, услышав свое имя от соцработницы, – неприятное напоминание, что они говорят обо мне. Бабушка перечисляет работнице нескольких человек, которые уже едут сюда. Но я не слышу никакого упоминания об Адаме.
Адам – единственный, кого я по-настоящему хочу видеть. Вот бы выяснить, где он, и попробовать туда добраться. Я не представляю, как он узнает обо мне. У бабушки и дедушки нет его телефона, а у них нет сотовых, так что он не сможет им позвонить. Ну а люди, которые в обычной ситуации сообщили бы, что со мной что-то случилось, наверняка этого не сделают.
Я стою над попискивающей, утыканной трубочками неподвижной фигурой – самой собой. Моя кожа посерела. Глаза закрыты и заклеены. Мне хочется, чтобы кто-нибудь снял пластырь, один его вид вызывает зуд. Надо мной хлопочет симпатичная медсестра. К ее униформе прилипли леденцы, хотя здесь не педиатрическое отделение.
– Ну, как у тебя дела, солнышко? – спрашивает она, будто мы только что столкнулись в магазине.
* * *
Вначале у нас с Адамом все шло не слишком гладко. Кажется, я придерживалась мнения, что любовь побеждает все. И к тому моменту, как Адам привез меня домой после концерта Йо-Йо Ма, думаю, мы оба поняли, что влюбляемся. Я-то полагала, что это самый трудный этап. В книгах и фильмах истории всегда заканчиваются, когда двое наконец-то сливаются в романтическом поцелуе. «Жили они долго и счастливо» просто подразумевается, оставаясь за кадром.
Но у нас получилось не совсем так. Оказалось, пребывание в столь далеких друг от друга уголках социальной вселенной имеет свои недостатки. Мы продолжали видеться в музыкальном крыле, но эти отношения оставались платоническими, как будто мы оба не хотели омрачать их, смешивая одно с другим. Но когда мы встречались в других местах школы – сидели вместе в столовой или занимались бок о бок во дворике в солнечный денек, – что-то исчезало. Нам становилось неловко. Разговор не клеился, выходил неестественным: мы то начинали говорить одновременно, то не могли придумать, что сказать.
Ты молодчина, – выдавливала я.
– Нет, это ты молодчина, – отвечал Адам.
Вежливость тяготила. Я хотела пробиться сквозь нее, чтобы вернуть мягкий свет и теплоту того концертного вечера, но не очень понимала, как это сделать.
Адам приглашал меня посмотреть и послушать, как играет его группа. На концертах было даже хуже, чем в школе. Если в своей семье я ощущала себя словно рыба, вытащенная из воды, то в кругу Адама казалась себе рыбой, заброшенной на Марс. Рядом с ним всегда были остроумные, жизнерадостные люди, классные девчонки с крашеными волосами и пирсингом, самые замкнутые парни тут же веселели, когда он заговаривал с ними на рок-жаргоне. Я не могла вести себя как настоящая фанатка, а рок-жаргона не знала вообще. Я должна была бы понимать этот язык, будучи музыкантшей и дочерью своего отца, но не понимала. Так говорящие на мандаринском китайском могут частично понимать кантонцев, но не до конца; хотя иностранцы считают, будто все китайцы могут общаться между собой, на самом деле мандаринский и кантонский диалекты сильно различаются.
Ходить на концерты с Адамом было сущим мучением. Не то чтобы я ревновала, завидовала или мне не нравилась его музыка. Я любила смотреть, как он играет. Когда он стоял на сцене, гитара казалась еще одной его конечностью, естественным продолжением тела. А когда Адам сходил со сцены после концерта, он был весь в поту, но таком чистом и свежем поту, что мне даже хотелось облизать его щеку, словно леденец. Конечно, я этого не делала.
Как только вокруг него собирались поклонники, я ускользала в темный зал. Адам пытался меня вернуть, обнять за талию, но я выворачивалась и возвращалась в тень.
– Я тебе больше не нравлюсь? – с укором спросил меня Адам после одного из концертов. Он шутил, но за небрежным тоном слышалась досада.
– Сомневаюсь, что мне стоит продолжать ходить на ваши концерты, – сказала я.
– Почему? – спросил он, на этот раз даже не пытаясь скрыть обиду.
– Я чувствую, что мешаю тебе полностью в это погрузиться. Не хочу, чтобы тебе приходилось волноваться за меня.
Адам ответил, что и не думал этого делать, но я знала, что в глубине души он все-таки волновался.
Возможно, мы прекратили бы отношения в те первые недели, если бы не мой дом. Там, с моей семьей, мы обрели взаимопонимание. После того как мы пробыли вместе около месяца, я привела Адама на его первый семейный ужин с нами. Они с папой сидели на кухне и беседовали о роке. Я наблюдала за ними, по-прежнему не понимая и половины, но не чувствовала себя исключенной из разговора, как на концертах.
– А ты играешь в баскетбол? – спросил папа. В плане зрелищ он был фанатом бейсбола, но сам любил побросать мяч в кольцо.
– Конечно, – ответил Адам. – Ну, то есть не особенно хорошо.
– Хорошо не обязательно, главное – увлеченно. Хочешь сыграть по-быстрому? Ты уже в баскетбольной обуви. – Папа указал на Адамовы кеды, потом повернулся ко мне: – Ты не против?
– Вовсе нет, – улыбнулась я. – Пока вы играете, я могу позаниматься.
Они ушли на площадку за соседней начальной школой и вернулись минут через сорок пять. Адам, весь блестящий от пота, казался слегка ошеломленным.
– Что случилось? – спросила я. – Старик тебя сделал?
Адам одновременно покачал головой и кивнул.
– Ну да. Но не только. Когда мы играли, меня укусила пчела, в ладонь. А твой отец схватил меня за руку и высосал яд.
Я кивнула. Этому фокусу он выучился у бабушки, и при пчелиных укусах, в отличие от укусов гремучих змей, высасывание действительно помогает. Жало и яд выходят, так что остается только легкий зуд.
Адам расплылся в смущенной улыбке, потом наклонился и прошептал мне на ухо:
– Кажется, я немного обалдел оттого, что стал ближе с твоим папой, чем с тобой.
Я прыснула. Однако в некотором смысле это было правдой. В те несколько недель, что мы встречались, дело не заходило дальше поцелуев. Не то чтобы мне мешала скромность – я еще была девственницей, но совершенно не собиралась таковой оставаться. А Адам уж точно девственником не был. Скорее наши поцелуи страдали от той же вымученной вежливости, что и разговоры.
– Наверное, пора это исправить, – шепнула я.
Адам поднял брови, будто уточняя, верно ли расслышал. Я в ответ залилась краской. Весь ужин мы ухмылялись друг другу, слушая Тедди, болтавшего о костях динозавров, которые он сегодня днем откопал в саду за домом. Папа приготовил свой знаменитый ростбиф в соляной корке, мое любимое блюдо, но у меня не было аппетита. Я возила еду по тарелке, надеясь, что никто не обратит внимания. Тем временем во мне нарастала некая вибрация. Это напомнило мне камертон-вилку, с помощью которого я настраивала виолончель. Если ударить им по чему-нибудь, возникают звуковые колебания на частоте ноты ля – и вибрация продолжает усиливаться, пока гармонические обертоны не заполнят все пространство. То же самое делала со мной улыбка Адама за ужином.
После еды Адам наскоро осмотрел ископаемые находки Тедди, а потом мы поднялись ко мне в комнату и закрыли дверь. Ким не разрешают оставаться дома наедине с мальчиками – впрочем, и возможности такой пока не представлялось. Мои родители никогда не оглашали никаких правил на эту тему, однако меня не оставляло ощущение, будто они понимают, что происходит со мной и Адамом; и пусть даже папе нравилось играть в свое «папе видней», в реальности они с мамой питали изрядную слабость ко всему, что касалось любви.
Адам лег на мою кровать и закинул руки за голову. Все его лицо сияло улыбкой: и глаза, и нос, и рот…
– Сыграй на мне, – сказал он.
– Что?
– Я хочу, чтобы ты поиграла на мне, как на виолончели.
Я начала было говорить, что это бредовая идея, но вдруг поняла: идея-то прекрасная. Я достала из шкафа один из запасных смычков.
– Сними рубашку, – попросила я дрогнувшим голосом.
Адам снял. При всей своей худобе он был на удивление хорошо сложен. Я бы могла минут двадцать разглядывать рельефные выпуклости и впадины его груди. Но он хотел большей близости. Я хотела большей близости.
Я села рядом с ним на кровать, так чтобы его длинное тело лежало передо мной. Смычок завибрировал, когда я положила его на постель. Левой рукой я огладила голову Адама, словно головку своей виолончели. Он снова заулыбался и закрыл глаза. Я немного расслабилась. Поиграла с его ушами, как с колками, и шутливо пощекотала, когда он тихонько засмеялся. Потом провела двумя пальцами по его кадыку и, поглубже вдохнув для храбрости, опустила руки ему на грудь. Пробежала пальцами вверх и вниз по торсу, особенное внимание уделяя сухожилиям мышц, и мысленно назначила их струнами: ля, соль, до, ре[16]16
Порядок струн на виолончели на самом деле другой: ля, ре, соль, до – сверху вниз.
[Закрыть]. Кончиками пальцев я по одному проследила их сверху вниз. Тогда Адам затих, словно концентрировался на чем-то.
Я взяла смычок и опустила поперек его тела, чуть выше бедер, где, по моим расчетам, должна была находиться подставка виолончели. Сначала я водила смычком легко, а потом все плотнее и быстрее, поскольку музыка в моей голове набирала темп и громкость. Адам лежал совершенно неподвижно, с его губ срывались легкие стоны. Я взглянула на смычок, на свои руки, на лицо Адама, и на меня накатила волна любви, желания и незнакомое прежде ощущение власти. Мне и в голову не приходило, что я могу вызвать у кого-то такие переживания.
Когда я закончила, Адам встал и поцеловал меня, крепко и долго.
– Теперь я, – сказал он, поднимая меня на ноги.
Для начала он стянул с меня свитер и приспустил мои джинсы. Потом сел на кровать, а меня положил к себе на колени, но некоторое время не делал ничего. Я закрыла глаза и попыталась ощутить его взгляд на своем теле – сейчас он видел меня так, как никто до него.
И тут Адам начал играть.
Он переставлял аккорды на верхней части моей груди, получалось щекотно и смешно. Затем нежно и осторожно он передвинул руки ниже; я перестала хихикать. Камертон зазвучал громче и отчетливее – вибрация усиливалась каждый раз, как Адам касался меня в новом месте.
Через некоторое время он переключился на испанский стиль, быстрое арпеджио. С верхней частью моего тела он обращался как с грифом, гладя волосы, лицо, шею. Он пощипывал и постукивал по груди и животу, а я ощущала его руки даже там, где он вовсе меня не касался. Адам играл и играл, энергия нарастала: камертон обезумел, разливая вибрации повсюду кругом – пока все мое тело не затрепетало и у меня не перехватило дыхание. И когда я почувствовала, что больше ни секунды этого не вынесу, вихрь ощущений достиг головокружительного крещендо, пронзив каждое нервное окончание в моем теле.
Я открыла глаза, наслаждаясь затопляющим меня теплым покоем, и начала смеяться. Адам тоже. Мы поцеловались еще, пока ему не пришло время идти домой.
Провожая Адама к машине, я вдруг захотела сказать, что люблю его. Но это показалось мне уж слишком банальным после того, чем мы сейчас занимались. Я сдержалась тогда и сказала на следующий день.
– Какое облегчение. А я-то думал, ты просто используешь меня для секса, – поддразнил меня Адам, ухмыляясь во весь рот.
После этого проблемы у нас еще возникали, но чрезмерная вежливость друг с другом в их число не входила.
16:39
Теперь у меня целая толпа гостей. Бабушка с дедушкой, дядя Грег, тетя Диана, тетя Кейт, кузены Джон и Дэвид и кузина Хедер. Папа – один из пяти детей, так что намного больше родственников не приехали. Никто не говорит о Тедди, и я делаю вывод, что он не здесь. Возможно, он все еще в другой больнице и о нем заботится Уиллоу.
Родственники собираются в комнате ожидания. Не в маленькой, на хирургическом отделении, где бабушка с дедушкой сидели во время моей операции, а в большой, на первом этаже. Она красиво оформлена в лиловых тонах, повсюду расставлены удобные кресла и диванчики, лежат почти свежие журналы. Все по-прежнему разговаривают тихо, как будто из уважения к другим ожидающим, хотя, кроме моих родных, здесь никого нет. Все так серьезно, так зловеще. Я возвращаюсь в коридор, чтобы вздохнуть посвободнее.
Приезжает Ким, и я счастлива; так приятно снова видеть ее длинную черную косу. Она носит косу всегда, и всякий раз к обеду непокорным мелким завиткам ее пышной гривы удается высвободиться. Но она не собирается потворствовать своим волосам, и каждое утро они снова уходят в косу.
С Ким приехала мать. Она не позволяет Ким далеко ездить на машине, и сегодня уж точно не сделала бы исключения – после такого-то происшествия. У миссис Шейн красное лицо, все в пятнах, как будто она только что плакала или вот-вот заплачет. Я уже знаю это: я много раз видела ее в слезах. Она очень эмоциональна. Ким называет ее «примадонна-истеричка» и утверждает, будто так действует ген еврейской мамаши и бедная женщина ничего не может с этим поделать.
«Наверное, и я когда-нибудь стану такой», – неохотно допускает моя подруга.
На этот образ Ким совершенно не похожа, в ней уйма сдержанного веселья и тонкого остроумия – ей частенько приходится говорить «это была шутка» людям, не понимающим ее саркастического юмора, – и я не могу представить, что она когда-нибудь станет такой же, как мать. Но с другой стороны, у меня маловато данных для сравнения. В нашем городке не так уж много еврейских матерей, а в нашей школе – еврейских детей. Причем большинство из них евреи лишь наполовину, так что проявляется это только в семисвечнике, водружаемом рядом с елкой.
Но Ким чистокровная еврейка. Иногда по пятницам я ужинаю с ее семьей; они зажигают свечи, едят хлеб-плетенку и пьют вино (пожалуй, единственная ситуация, когда неврастеничная миссис Шейн может позволить Ким выпить). Предполагается, что Ким должна встречаться только с еврейскими мальчиками, и в результате она не встречается ни с кем. Она шутит, что для этого-то ее семья сюда и переехала, хотя на самом деле ее отца наняли управлять местным заводом компьютерных микросхем. Когда Ким исполнилось тринадцать, она прошла бат-мицву в портлендской синагоге, и во время церемонии со свечами мне позволили зажечь одну. Каждое лето Ким уезжает в лагерь в Нью-Джерси. Он называется «Лагерь Тора хабоним», но Ким зовет его «С Торой поблудим», поскольку единственное, чем заняты там дети все лето, – это флирт и интриги.
– Прямо как в музыкальном лагере, – шутит она, хотя моя летняя консерваторская школа совсем не такая, как в «Американском пироге»[17]17
Имеется в виду молодежная комедия «Американский пирог: Музыкальный лагерь».
[Закрыть].
Сейчас Ким явно раздражена. Она быстро идет по коридорам, опережая мать на добрых три метра. Внезапно ее плечи взлетают вверх, как у кошки, заметившей собаку. Она резко поворачивается к матери и требует:
– Прекрати! Я же не реву, так какого хрена ты сопли распускаешь?
Я в шоке: Ким никогда не ругается.
– Но, – слабо возражает миссис Шейн, – как ты можешь быть такой… – всхлип, – спокойной, когда…
– Уймись! – обрывает ее Ким. – Мия все еще здесь. Так что я не собираюсь тут истерики устраивать. А раз я не психую, то и ты не будешь!
Ким уносится вперед, мать вяло плетется за ней. Когда они добираются до комнаты ожидания и видят мою собравшуюся семью, миссис Шейн начинает хлюпать носом.
На этот раз Ким не ругается, но уши ее розовеют – верный признак того, что она по-прежнему в ярости.
– Мама. Оставляю тебя здесь. Я пройдусь. Скоро вернусь, – чеканит она и вылетает прочь.
Я выхожу в коридор следом за ней. Ким бредет по центральному вестибюлю, обходит вокруг магазинчика с подарками, заглядывает в кафе. Она смотрит на больничный указатель, и я понимаю, куда она направится, даже раньше ее самой.
В подвале прячется маленькая часовня. Там тихо – библиотечная такая тишина, – стоят плюшевые кресла, как в кинотеатрах, и приглушенно мурлыкает какая-то нью-эйджевая музычка.
Ким плюхается в кресло и скидывает пальто – то самое черное, бархатное, которому я завидовала с тех пор, как она его купила в каком-то молле, в Нью-Джерси, куда ездила к бабушке с дедушкой.
– Обожаю Орегон, – сообщает она с икающим смешком. По язвительному тону я понимаю, что разговаривает подруга со мной, а не с Богом. – Вот тебе больничное воплощение идеи объединения всех религий. – Она обводит рукой часовню. На стене висит распятие, позади кафедры – несколько изображений Мадонны с Младенцем, а саму кафедру покрывает флаг с крестом. – А вот звезда Давида. – Ким указывает на шестиконечную звезду на стене. – Но как насчет мусульман? Ни молитвенных ковриков, ни указателя направления на Мекку. И буддисты? Они что, не могли на гонг раскошелиться? Ведь наверняка буддистов в Портленде побольше, чем евреев.
Я сажусь в кресло рядом с ней. То, что Ким разговаривает со мной как обычно, кажется таким естественным. Кроме врача «скорой помощи», велевшей мне держаться, и медсестры, спрашивавшей, как у меня дела, никто не говорил со мной с самой аварии. Говорят только про меня.
По правде говоря, я никогда не видела, как Ким молится. То есть она молилась на своей бат-мицве и произносит молитву за ужином в Шаббат, но только потому, что ей приходится это делать. Однако после недолгого разговора со мной она закрывает глаза, шевелит губами и шепчет что-то на языке, которого я не понимаю.
Закончив, Ким открывает глаза и вытирает одну руку о другую, будто говоря: «Ну и хватит». Но потом передумывает и добавляет последнюю просьбу:
– Пожалуйста, не умирай. Я понимаю, почему ты можешь этого хотеть, но подумай вот о чем: если ты умрешь, в школе из твоего шкафчика устроят идиотский мемориал принцессы Дианы, туда все будут класть цветы, ставить свечки и пихать записки. – Она утирает предательскую слезу тыльной стороной ладони. – Я же знаю, тебе бы от такого тошно стало.
* * *
Возможно, так вышло потому, что мы были слишком похожи. Как только Ким появилась на горизонте, все решили, что мы станем лучшими подругами, только потому, что обе мы темноволосые, тихие, старательные и серьезные – по крайней мере, внешне. Однако же ни одна из нас не была отличницей (твердые четверки по всем предметам) или, если уж на то пошло, особенно серьезной. Мы серьезно относились к некоторым вещам – я к музыке, она к живописи и фотографии; а в упрощенном мире средней школы этого было достаточно, чтобы счесть нас кем-то вроде разлученных и встретившихся близнецов.
Нас немедленно принялись ставить в пару. На третий день пребывания Ким в школе она единственная вызвалась на физкультуре в капитаны футбольной команды, что, по моему мнению, было с ее стороны запредельным подхалимством. Пока она надевала красную футболку, учитель оглядывал класс, чтобы выбрать капитана второй команды, и его глаза остановились на мне, хотя я была одной из наименее спортивных девочек. Я поплелась в раздевалку надевать футболку и, проходя мимо Ким, буркнула: «Ну, спасибочки».
На следующей неделе учительница английского посадила нас вместе во время общего обсуждения «Убить пересмешника». Минут десять мы пялились друг на друга в каменном молчании. Наконец я выдавила:
– Полагаю, нужно говорить о расизме на старом Юге и всем таком.
Ким едва заметно закатила глаза, отчего мне захотелось швырнуть в нее словарем. Меня поразило, как сильно я уже ненавидела ее.
– Я читала эту книгу в моей прошлой школе, – сообщила она. – С расизмом там все как будто ясно. Я думаю, важнее человеческие качества. Надо понять, хороши ли люди от природы и просто испорчены расизмом, или они изначально плохи и им надо здорово потрудиться, чтобы стать хорошими?
– Неважно, – сказала я, – все равно дурацкая книжка.
Я не знала, зачем говорю такое, ведь на самом деле книга мне очень понравилась, и мы ее обсуждали с папой: ему она попалась на педпрактике. И я возненавидела Ким еще больше за то, что та вынудила меня предать любимую книгу.
– Ладно, давай тогда займемся твоей идеей, – сказала Ким, и когда мы получили по четверке с минусом, она как будто обрадовалась нашим посредственным оценкам.
После этого мы просто не разговаривали, что не мешало учителям сажать нас вместе на уроках, а всем в школе считать нас подругами. Чем чаще это случалось, тем больше мы негодовали – на всех и друг на друга. Чем больше мир сталкивал нас, тем сильнее мы отталкивались – и ополчались друг на друга. Каждая старалась делать вид, что другой не существует, хотя наличие заклятого врага не давало о себе забыть ни на минуту.
Мне казалось необходимым объяснить себе, почему я ненавижу Ким: она лицемерная подлиза. Она назойлива. Она все время выпендривается. Впоследствии я выяснила, что она точно так же придумывала мне пороки, только ее особенно бесила моя стервозность. И однажды она мне это даже написала. На уроке английского кто-то кинул квадратик, сложенный из тетрадного листа, на пол рядом с моей правой ногой. Я подобрала его и открыла. Там было написано: «Стерва!»
Никто меня так раньше не называл, и хотя я, само собой, разозлилась, но в глубине души также была польщена: очевидно, я задела автора записки за живое, раз удостоилась этого слова. Люди нередко так называли мою маму – возможно, потому, что ей было трудно смолчать и она могла высказываться чрезвычайно резко, если не соглашалась с собеседником. Она взрывалась и бушевала, словно гроза, но потом опять становилась вежливой и любезной. И ей было совершенно безразлично, что ее называют стервой. «Это просто другой вариант слова “феминистка”», – с гордостью заявляла она мне. Даже папа иногда ее так называл, но всегда в шутку, одобрительно – и никогда во время ссоры. Ему-то было видней.
Я подняла глаза от учебника. Только один человек мог послать мне такую записку, но мне все еще в это не верилось. Я украдкой оглядела класс: все уткнулись в книги. Кроме Ким. Ее уши были настолько красными, что мелкие завитки темных волос рядом с ними тоже казались розовыми. Она злобно смотрела прямо на меня. Хотя мне было всего одиннадцать и я не слишком хорошо ориентировалась в социальных тонкостях, но брошенную перчатку вызова распознала с первого взгляда, и мне не оставалось ничего другого, кроме как поднять ее.
Став постарше, мы с удовольствием шутили на тему «Как здорово, что мы тогда подрались». Тот эпизод не только скрепил нашу дружбу, но также оказался для нас первой и, похоже, единственной возможностью хорошенько кого-нибудь отмутузить. Когда еще две девчонки вроде нас могут дойти до мордобоя? Конечно, я боролась с Тедди, иногда щипала его – но бить кулаками такого малыша? Даже будь Тедди постарше, он все равно представлялся мне наполовину братом, а наполовину собственным ребенком. Я нянчилась с ним, еще когда ему было несколько недель. Я ни за что бы не смогла так его ударить. А у Ким, единственного ребенка в семье, не было братьев и сестер, с которыми можно было бы подраться. Возможно, в лагере она и участвовала бы в потасовках, но последствия бывали ужасны: драчунов ожидали многочасовые семинары по улаживанию конфликтов, в присутствии воспитателей и раввина. «Мой народ прекрасно умеет сражаться с самыми сильными противниками, но только словами, тьмой тьмущей слов», – как-то раз сказала мне подруга.
Но в тот осенний день мы дрались кулаками. Прозвенел последний звонок, и мы, не говоря ни слова, вышли на спортивную площадку и бросили рюкзаки на землю, мокрую от зарядившей с утра мороси. Ким бросилась на меня, словно бык, и врезала под дых. Я ударила ее в скулу – сжатым кулаком, по-мужски. Вокруг собралась толпа, поглазеть на представление. Драки были не самым обычным делом в нашей школе; девчачья драка – и вовсе из ряда вон выходящим событием. А уж драка тихих приличных девочек – тройное удовольствие.
К тому времени, как нас разняли учителя, вокруг стояла половина шестого класса (в сущности, именно по кольцу школьников дежурные по площадке поняли, что там что-то происходит). Драка, пожалуй, окончилась ничьей. У меня была разбита губа и рассажено запястье – последнее по собственной неосторожности: мой удар в плечо Ким прошел мимо и попал ровнехонько в столб волейбольной сетки. Ким получила фингал под глаз и неприятную ссадину на бедре – споткнулась о свой рюкзак, когда хотела меня лягнуть.
Не было никакого задушевного примирения, никакого официального разрешения конфликта. Как только учителя нас разняли, мы с Ким посмотрели друг на друга и принялись хохотать. Отвертевшись от визита в кабинет директора, мы побрели домой. Ким объяснила, что вызвалась быть капитаном команды по одной простой причине: если это сделать в самом начале учебного года, учителя тебя, скорее всего, запомнят и постараются в будущем не выбирать (с тех пор я вовсю пользовалась этим нехитрым приемом). Я рассказала, что на самом деле была согласна с ее трактовкой «Убить пересмешника» и что это одна из моих самых любимых книг. Так все и началось. Мы подружились, как ожидали все вокруг. Больше мы никогда не поднимали друг на друга руку, и хотя много раз между нами вспыхивали словесные баталии, размолвки заканчивались тем же, чем и та драка, – смехом до упаду.
Однако после той нашей драки миссис Шейн не позволила Ким ходить ко мне домой, убежденная, что дочь вернется на костылях. Мама предложила поговорить с ней и все уладить, но думаю, мы с папой оба понимали, что при мамином темпераменте ее дипломатическая миссия может окончиться ордером на арест всей нашей семьи. В конце концов папа пригласил Шейнов на ужин, зажарил курицу, и хотя было видно, что миссис Шейн все еще немного сомневается в моей семье: «Так вы работаете в музыкальном магазине, пока учитесь на учителя? И вы готовите? Как необычно», – сказала она папе, – мистер Шейн счел моих родителей приличными людьми, а семью не склонной к насилию, и велел жене разрешить Ким приходить к нам свободно.
Тогда, в шестом классе, мы с Ким на несколько месяцев лишились имиджа хороших девочек. Разговоры о нашей драке продолжались, подробности раздувались неимоверно: сломанные ребра, вырванные ногти, следы укусов. Но когда мы вернулись в школу после зимних каникул, все это уже позабылось. Мы снова стали темноволосыми тихими паиньками-близняшками.
Мы не имели ничего против – многие годы эта репутация работала на нас. Если, к примеру, мы обе отсутствовали в какой-то день, люди автоматически считали, будто нас свалил один и тот же вирус, а не что мы прогуляли школу ради авторского кино, которое показывали на занятиях по киноискусству в университете. Когда кто-то в порядке розыгрыша выставил нашу школу на продажу, обклеив ее объявлениями и внеся в список недвижимости на eBay, подозрительные взгляды обратились на Нельсона Бейкера и Дженну Маклафлин, а не на нас. Хотя нам пришлось признаться в содеянном – как мы и планировали, если у кого-нибудь будут неприятности, – нам долго пришлось всех убеждать, что это действительно наших рук дело.
Это всегда смешило Ким. «Люди верят в то, во что хотят верить», – говорила она.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































