Текст книги "Страх"
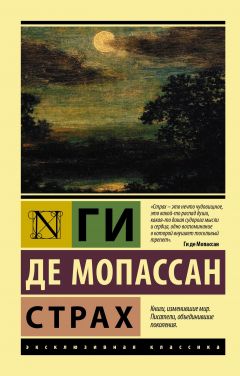
Автор книги: Ги де Мопассан
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Поведали также в туманных выражениях о некоей англичанке из аристократической семьи, привившей себе отвратительную заразную болезнь, чтобы передать ее Бонапарту, которого чудесным образом спасла внезапная слабость в минуту рокового свидания.
Все это излагалось в приличной и сдержанной форме, и лишь изредка прорывался деланый восторг, рассчитанный на то, чтобы подстрекнуть к соревнованию.
В конце концов, можно было бы подумать, что единственное назначение женщины на земле заключается в вечном самопожертвовании, в беспрестанном подчинении прихотям солдатни.
Монахини, казалось, были погружены в глубокое раздумье и ничего не слышали. Пышка молчала.
Ей предоставили на размышление целый день. Но теперь ее уже не величали, как прежде, «мадам»; ей говорили просто «мадемуазель», хотя никто не знал хорошенько, почему именно; вероятно, для того, чтобы подчеркнуть, что она уже несколько утратила уважение, которого ей удалось добиться, и чтобы дать ей почувствовать постыдность ее ремесла.
Как только подали суп, опять появился г-н Фоланви и повторил прежнюю фразу:
– Прусский офицер спрашивает, не изменила ли мадемуазель Элизабет Руссе своего решения.
Пышка сухо ответила:
– Нет.
За обедом коалиция стала слабеть. У Луазо вырвалось несколько неосторожных фраз. Каждый из кожи лез, стараясь выдумать новый пример, и ничего не находил, как вдруг графиня, быть может, не преднамеренно, а просто в смутном желании воздать должное религии, обратилась к старшей монахине, коснувшись поучительных примеров из житий святых. Ведь многие святые совершали деяния, которые в наших глазах были бы преступлениями, но церковь легко прощает эти прегрешения, если они совершены во славу Божию или на пользу ближнему. Это был могучий довод; графиня воспользовалась им. И вот, то ли в силу молчаливого соглашения, завуалированного попустительства, которое так свойственно всем духовным лицам, то ли в силу счастливого недомыслия, спасительной глупости, старая монахиня оказала заговору огромную поддержку. Ее считали застенчивой, она же показала себя смелой, речистой, резкой. Ее не смущали казуистические тонкости; ее убеждения были подобны железному посоху, вера ее была непреклонна, совесть не знала сомнений. Она считала жертвоприношение Авраама вполне естественным, ибо сама немедленно убила бы отца и мать, если бы получила указание свыше; никакой поступок, по ее мнению, не может прогневить Господа, если похвально руководящее нами намерение. Графиня, желая извлечь как можно больше пользы из духовного авторитета своей неожиданной союзницы, вызвала ее на поучительное толкование нравственной аксиомы: «Цель оправдывает средства».
Она задавала ей вопросы:
– Итак, сестра, вы считаете, что Бог приемлет все пути и прощает проступок, если побуждение чисто?
– Как можно сомневаться в этом, сударыня? Нередко поступок, сам по себе достойный порицания, становится похвальным благодаря намерению, которое его вдохновляет.
И они продолжали в этом духе, стараясь распознать волю Господа Бога, предвидя Его решения, приписывая Ему вмешательство в дела, которые, право же, совсем Его не касаются.
Все это преподносилось замаскированно, ловко, пристойно. Но каждое слово праведницы в монашеском уборе пробивало брешь в негодующем сопротивлении куртизанки. Потом разговор несколько отклонился, и женщина, привычно перебирая четки, заговорила о монастырях своего ордена, о своей настоятельнице, о самой себе и о своей милой соседке, возлюбленной сестре общины Св. Никифора. Их вызвали в Гавр, чтобы ухаживать в госпиталях за солдатами, среди которых свирепствует оспа. Она рассказывала об этих несчастных, подробно описывала болезнь. И в то время как по прихоти этого пруссака их задерживают в пути, сколько умрет французов, которых они, быть может, спасли бы! Лечить военных было ее специальностью; она побывала в Крыму, в Италии, в Австрии; повествуя о своих походах, она вдруг показала себя одною из тех воинственных монахинь, какие словно для того и созданы, чтобы следовать за войском, подбирать раненых в разгар сражения и лучше любого начальника с первого слова укрощать непокорных вояк; это была настоящая полковая сестра; и ее изуродованное, изрытое бесчисленными оспинами лицо являлось как бы образом разрушений, причиняемых войной.
После нее никто не проронил ни слова – таким бесспорным казался произведенный ею эффект.
Тотчас же после еды все поспешили разойтись по комнатам и вышли лишь на другое утро довольно поздно.
Завтрак прошел спокойно. Выжидали, чтобы семена, посеянные накануне, проросли и дали плоды.
Среди дня графиня предложила совершить прогулку; тогда граф, как было условлено заранее, взял Пышку под руку и пошел с нею, немного отстав от остальных.
Он говорил с нею фамильярным, отеческим, немного пренебрежительным тоном, каким солидные мужчины разговаривают с публичными девками, называя ее «мое дорогое дитя», снисходя к ней с высот своего социального положения, своего непреложного достоинства. Он сразу же приступил к сути дела:
– Итак, вы намерены держать нас здесь, подвергая, как и себя, опасности всевозможных насилий, неизбежных в случае поражения прусской армии. Вы готовы на все это, лишь бы не быть снисходительной, какой вы были в своей жизни столько раз?
Пышка ничего не ответила.
Он действовал на нее ласкою, доводами, чувствительностью. Он сумел держаться графом и в то же время быть галантным, обольстительным, рассыпаясь в комплиментах. Он превозносил услугу, которую она могла бы им оказать, говорил об их признательности, а потом вдруг весело обратился к ней на ты:
– И знаешь, дорогая, он вправе будет хвастаться, что полакомился такой хорошенькой девушкой, каких не много найдется у него на родине.
Пышка ничего не ответила и тут же догнала остальных.
Вернувшись домой, она сразу поднялась к себе в комнату и больше не выходила. Всеобщее беспокойство достигло крайних пределов. На что она решится? Если она будет упорствовать – беда!
Настал час обеда; ее тщетно дожидались. Наконец явился г-н Фоланви и объявил, что мадемуазель Руссе не совсем здорова и можно садиться за стол без нее. Все насторожились. Граф подошел к трактирщику и шепотом спросил:
– Согласилась?
– Да.
Из приличия он ничего не сказал попутчикам, а только слегка кивнул им. Тотчас же у них вырвался глубокий вздох облегчения, все лица просияли. Луазо закричал:
– Тра-ля-ля-ля! Плачу за шампанское, если таковое имеется в сем заведении.
И у г-жи Луазо сжалось сердце, когда хозяин вернулся с четырьмя бутылками в руках. Все вдруг стали общительными и шумливыми; сердца взыграли бурным весельем. Граф, казалось, впервые заметил, что г-жа Карре-Ламадон прелестна; фабрикант начал ухаживать за графиней. Разговор сделался оживленным, бойким, засверкал остроумием.
Вдруг Луазо сделал испуганное лицо и, воздев руки, завопил:
– Тише!
Все смолкли в удивлении и даже в испуге. Тогда он прислушался, жестом обеих рук призвал к молчанию, поднял глаза к потолку, снова насторожился и проговорил обычным голосом:
– Успокойтесь, все в порядке.
Никто не решался показать, что понял, о чем идет речь, но улыбка мелькнула на всех лицах.
Через четверть часа он повторил ту же шутку и в течение вечера возобновлял ее несколько раз: он делал вид, будто обращается к кому-то на верхнем этаже, и давал тому двусмысленные советы, которые черпал из запасов своего коммивояжерского остроумия. Порою он напускал на себя грусть и вздыхал: «Бедная девушка!» – или свирепо цедил сквозь зубы: «Ах, подлый пруссак!» Несколько раз, когда, казалось, никто уже не думал об этом, он начинал вопить дрожащим голосом: «Довольно! Довольно!» – и добавлял, словно про себя: «Только бы нам снова ее увидеть; только бы этот негодяй не уморил ее!»
Хоть шутки и были самого дурного тона, они забавляли общество и никого не коробили, потому что и негодование, как все остальное, зависит от окружающей среды; атмосфера же, постепенно создавшаяся в трактире, была насыщена фривольными мыслями.
За десертом сами женщины стали делать сдержанные игривые намеки. Глаза у всех разгорелись: выпито было много. Граф, сохранявший величественный вид даже в тех случаях, когда позволял себе вольности, сравнил их положение с окончанием зимовки на полюсе, а их чувства – с радостью людей, которые, потерпев кораблекрушение, видят, что наконец им открывается путь на юг; шутка его имела шумный успех.
Расходившийся Луазо встал с бокалом в руке:
– Пью за наше освобождение!
Все поднялись и подхватили его возглас. Даже монахини поддались уговору дам и согласились пригубить пенистого вина, которого они еще никогда в жизни не пробовали. Они объявили, что оно похоже на шипучий лимонад, только гораздо вкуснее.
Луазо подвел итоги:
– Какая досада, что нет фортепьяно, хорошо бы кадриль отхватить!
Корнюде не проронил ни слова, не пошевельнулся; он был погружен в мрачное раздумье и по временам негодующе теребил свою длинную бороду, словно желая еще удлинить ее. Наконец около полуночи, когда стали расходиться, Луазо, еле державшийся на ногах, неожиданно хлопнул его по животу и сказал заплетающимся языком:
– Что это вы сегодня не в ударе? Что это вы всё молчите, гражданин?
Корнюде порывисто поднял голову и, окинув всех сверкающим, грозным взглядом, бросил:
– Знайте, что все вы совершили подлость!
Он встал, направился к двери, еще раз повторил: «Да, подлость!» – и скрылся.
Сперва всем сделалось неловко. Озадаченный Луазо замер, разинув рот; потом к нему вернулась обычная самоуверенность, и он вдруг захохотал, приговаривая:
– Хоть видит око, да зуб неймет!
Так как никто не понимал, в чем дело, он поведал «тайны коридора». Последовал взрыв бурного смеха. Дамы веселились как безумные. Граф и г-н Карре-Ламадон хохотали до слез. Им это казалось невероятным.
– Как? Вы уверены? Он хотел…
– Да говорю же я вам, что сам видел.
– И она отказала?
– Потому что пруссак находился в соседней комнате.
– Быть не может!
– Клянусь вам!
Граф задыхался. Фабрикант обеими руками держался за живот. Луазо продолжал:
– Понятно, что сегодня вечером ему совсем, совсем не до смеха.
И все трое снова принимались хохотать до колик, до одышки, до слез.
На этом разошлись. Однако г-жа Луазо, особа ехидная, ложась спать, заметила мужу, что «эта гадюка», г-жа Карре-Ламадон, весь вечер смеялась через силу.
– Знаешь, когда женщина без ума от мундира, ей, право же, все равно, носит ли его француз или пруссак!.. Жалкие твари, прости господи!
И всю ночь напролет во мраке коридора слышались слабые шелесты, шорохи, вздохи, легкие шаги босых ног, едва уловимые скрипы. Постояльцы заснули, несомненно, очень поздно, потому что под дверями долго скользили тонкие полоски света. От шампанского это порою бывает; оно, говорят, тревожит сон.
На другой день снега ослепительно сверкали под ярким зимним солнцем. Запряженный дилижанс наконец-то дожидался у ворот, а множество белых голубей, раздувавших пышное оперение, розовоглазых, с черными точками зрачков, важно разгуливали под ногами шестерки лошадей, разбрасывали лапками дымящийся навоз и искали в нем корма.
Кучер, укутавшись в овчину, покуривал на козлах трубку, а сияющие пассажиры поспешно укладывали провизию на дорогу.
Ждали только Пышку. Наконец она появилась.
Она была взволнована, смущена и робко подошла к своим спутникам, но все как один отвернулись, будто не замечая ее. Граф с достоинством взял жену под руку и отвел в сторону, чтобы оградить ее от нечистого прикосновения.
Толстуха в изумлении остановилась, потом, собравшись с духом, подошла к жене фабриканта и смиренно пролепетала:
– Здравствуйте, сударыня.
Та чуть заметно, надменно кивнула и бросила на нее взгляд оскорбленной добродетели. Все делали вид, будто очень заняты, и держались как можно дальше от Пышки, точно в юбках своих она принесла заразу. Затем все бросились к дилижансу; она вошла последней и молча уселась на то же место, что занимала в начале пути.
Ее, казалось, больше не замечали, не узнавали; только г-жа Луазо, с негодованием посмотрев на нее издали, сказала мужу вполголоса:
– Какое счастье, что я сижу далеко от нее.
Тяжелая карета тронулась, и путешествие возобновилось.
Сначала все молчали. Пышка не решалась поднять глаза. Она одновременно и негодовала на своих спутников и чувствовала, что унизилась, уступив им, что осквернена поцелуями пруссака, в объятия которого ее толкнули эти лицемеры.
Но вскоре графиня, обратившись к г-же Карре-Ламадон, прервала тягостное молчание:
– Вы, кажется, знакомы с госпожою д’Этрель?
– Да, мы с ней приятельницы.
– Какая прелестная женщина!
– Очаровательная! Вот уж поистине избранная натура и к тому же такая образованная, да еще артистка до мозга костей; как она восхитительно поет, как чудесно рисует!
Фабрикант беседовал с графом, и сквозь грохот оконниц порою слышались слова: «Купон – платеж – доход – в срок».
Луазо, стянувший в трактире колоду карт, засаленных за пять лет игры на плохо вытертых столах, затеял с женою партию в безик.
Монахини взялись за длинные четки, свисавшие у них с пояса, одновременно перекрестились, и вдруг губы их проворно задвигались, заспешили, все ускоряя невнятный шепот, словно соревнуясь в быстроте молитвы; время от времени они целовали образок, снова крестились, затем опять продолжали торопливое и непрерывное бормотание.
Корнюде задумался и сидел не шевелясь.
После трех часов пути Луазо собрал карты и заявил:
– Не худо бы закусить.
Тогда жена его достала перевязанный бечевкою сверток и вынула оттуда кусок телятины. Она аккуратно разрезала его на тонкие ломтики, и супруги принялись за еду.
– Не последовать ли и нам их примеру? – спросила графиня.
Получив согласие, она развернула провизию, заготовленную для обеих супружеских пар. Это были сочные копчености, лежавшие в одной из тех продолговатых фаянсовых мисок, у которых на крышке изображен заяц в знак того, что здесь покоится заячий паштет: белые ручейки сала пересекали коричневую мякоть дичи, смешанной с другими мелко нарубленными сортами мяса. На превосходном куске швейцарского сыра, вынутого из газеты, виднелось слово «Происшествия», отпечатавшееся на его маслянистой поверхности.
Монахини развернули кольцо колбасы, пахнувшей чесноком, а Корнюде засунул разом обе руки в глубокие карманы своего мешковатого пальто и вынул из одного четыре крутых яйца, а из другого – краюху хлеба. Он облупил яйца, бросил скорлупу себе под ноги на солому и стал откусывать яйцо, роняя на длинную бороду крошки, которые желтели на ней как звездочки.
В суете и растерянности утреннего пробуждения Пышка не успела ни о чем позаботиться и теперь, задыхаясь от досады и ярости, смотрела на этих невозмутимо жующих людей. Сперва ее охватила бурная злоба, и она открыла было рот, чтобы выложить им все напрямик в потоке брани, подступавшей к ее губам, но возмущение так душило ее, что она не могла вымолвить ни слова.
Никто не смотрел на нее, никто о ней не думал. Она чувствовала, что ее захлестывает презрение этих честных мерзавцев, которые сперва принесли ее в жертву, а потом отшвырнули, как ненужную грязную тряпку. Тут ей вспомнилась ее большая корзина, битком набитая всякими вкусными вещами, которые они так прожорливо уничтожили, вспомнились два цыпленка в блестящем желе, паштеты, груши, четыре бутылки бордоского; ее ярость вдруг стихла, как слишком натянутая и лопнувшая струна, и она почувствовала, что вот-вот расплачется. Она делала невероятные усилия, чтобы сдержаться, глотала слезы, как ребенок, но они подступали к глазам, поблескивали на ресницах, и вскоре две крупные слезинки медленно покатились по ее щекам. За ними последовали другие, более проворные; они бежали словно капли воды, стекающей по утесу, и равномерно падали на крутой выступ ее груди. Пышка сидела прямо, с застывшим, бледным лицом, глядя в одну точку, надеясь, что на нее никто не обратит внимания.
Но графиня заметила ее слезы и жестом указала на нее мужу. Он пожал плечами, как бы говоря: «Что ж поделаешь, я тут ни при чем». Г-жа Луазо беззвучно, но торжествующе засмеялась и прошептала:
– Она оплакивает свой позор.
Монахини, завернув в бумажку остатки колбасы, снова принялись за молитвы.
Тогда Корнюде, переваривая съеденные яйца, протянул длинные ноги под скамейку напротив, откинулся, скрестив руки, улыбнулся, как будто придумал удачную шутку, и стал насвистывать «Марсельезу».
Все нахмурились. Народная песня, видимо, была вовсе не по душе его соседям. Они стали нервничать, злиться и, казалось, готовы были завыть, как собаки, заслышавшие шарманку. Он заметил это и уже не прекращал свиста. Порою он даже напевал слова:
Ехали теперь быстрее, так как снег стал более плотным; и до самого Дьепа, в течение долгих, унылых часов пути и нескончаемой тряски по ухабистой дороге, в вечерних сумерках, а затем в глубоких потемках, он с ожесточенным упорством продолжал свой мстительный однообразный свист, принуждая усталых и раздраженных спутников следить за песнею от начала до конца, припоминать соответствующие слова и сопровождать ими каждый такт.
А Пышка все плакала, и порою, между двумя строфами, во тьме прорывались рыдания, которых она не могла сдержать.
Мадемуазель Фифи
Майор, граф фон Фарльсберг, командующий прусским отрядом, дочитывал принесенную ему почту. Он сидел в широком ковровом кресле, задрав ноги на изящную мраморную доску камина, где его шпоры – граф пребывал в замке Ювиль уже три месяца – продолбили пару заметных, углублявшихся с каждым днем выбоин.
Чашка кофе дымилась на круглом столике, мозаичная доска которого была залита ликерами, прожжена сигарами, изрезана перочинным ножом: кончив иной раз чинить карандаш, офицер-завоеватель от нечего делать принимался царапать на драгоценной мебели цифры и рисунки.
Прочитав письма и просмотрев немецкие газеты, поданные обозным почтальоном, граф встал, подбросил в камин три или четыре толстых, еще сырых полена – эти господа понемногу вырубали парк на дрова – и подошел к окну.
Дождь лил потоками; то был нормандский дождь, словно изливаемый разъяренною рукою, дождь косой, плотный, как завеса, дождь, подобный стене из наклонных полос, хлещущий, брызжущий грязью, все затопляющий, – настоящий дождь окрестностей Руана, этого ночного горшка Франции.
Офицер долго смотрел на залитые водой лужайки и вдаль – на вздувшуюся и выступившую из берегов Андель; он барабанил пальцами по стеклу, выстукивая какой-то рейнский вальс, как вдруг шум за спиною заставил его обернуться: пришел его помощник, барон фон Кельвейнгштейн, чин которого соответствовал нашему чину капитана.
Майор был огромного роста, широкоплечий, с длинною веерообразною бородою, ниспадавшей на его грудь, подобно скатерти; вся его рослая торжественная фигура вызывала представление о павлине, о павлине военном, распустившем хвост под подбородком. У него были голубые, холодные и спокойные глаза, шрам на щеке от сабельного удара, полученного во время войны с Австрией, и он слыл не только храбрым офицером, но и хорошим человеком.
Капитан, маленький, краснолицый, с большим, туго перетянутым животом, коротко подстригал свою рыжую бороду; при известном освещении она приобретала пламенные отливы, и тогда казалось, что лицо его натерто фосфором. У него не хватало двух зубов, выбитых в ночь кутежа, – как это вышло, он хорошенько не помнил, – и он, шепелявя, выплевывал слова, которые не всегда можно было понять. На макушке у него была плешь, вроде монашеской тонзуры; руно коротких курчавившихся волос, золотистых и блестящих, обрамляло этот кружок обнаженной плоти.
Командир пожал ему руку и одним духом выпил чашку кофе (шестую за это утро), выслушивая рапорт своего подчиненного о происшествиях по службе; затем они подошли к окну и признались друг другу, что им невесело. Майор, человек спокойный, имевший семью на родине, приспособлялся ко всему, но капитан, отъявленный кутила, завсегдатай притонов и отчаянный бабник, приходил в бешенство от вынужденного трехмесячного целомудрия на этой захолустной стоянке. Кто-то тихонько постучал в дверь, и командир крикнул: «Войдите!» На пороге показался один из их солдат-автоматов; его появление означало, что завтрак подан.
В столовой они застали трех младших офицеров: лейтенанта Отто фон Гросслинга и двух младших лейтенантов Фрица Шейнаубурга и маркиза Вильгельма фон Эйрик, маленького блондина, надменного и грубого с мужчинами, жестокого с побежденными и вспыльчивого как порох.
С минуты вступления во Францию товарищи звали его не иначе как Мадемуазель Фифи. Этим прозвищем он был обязан своей кокетливой внешности, тонкому, словно перетянутому корсетом стану, бледному лицу с едва пробивавшимися усиками, а также усвоенной им привычке употреблять ежеминутно, дабы выразить наивысшее презрение к людям и вещам, французские слова «fi», «fi donc», которые он произносил с легким присвистом.[6]6
Французские междометия, выражающие укоризну, недовольство, презрение, отвращение.
[Закрыть]
Столовая в замке Ювиль представляла собою длинную, царственно пышную комнату; ее старинные зеркала, все в звездообразных трещинах от пуль, и высокие фландрские шпалеры по стенам, искромсанные ударами сабли и кое-где свисавшие лохмотьями, свидетельствовали о занятиях Мадемуазель Фифи в часы досуга.
Три фамильных портрета на стенах – воин, облаченный в броню, кардинал и председатель суда – курили теперь длинные фарфоровые трубки, а благородная дама в узком корсаже надменно выставляла из рамы со стершейся позолотой огромные нарисованные углем усы.
Завтрак офицеров проходил почти безмолвно. Обезображенная и полутемная от ливня комната наводила уныние своим видом завоеванного места, а ее старый дубовый паркет был покрыт грязью, как пол в кабаке.
Окончив еду и перейдя к вину и курению, они, как повелось каждый день, принялись жаловаться на скуку. Бутылки с коньяком и ликерами переходили из рук в руки; развалившись на стульях, офицеры непрестанно отхлебывали маленькими глотками вино, не выпуская изо рта длинных изогнутых трубок с фаянсовым яйцом на конце, пестро расписанных, словно для соблазна готтентотов.
Как только стаканы опорожнялись, офицеры с покорным и усталым видом наполняли их снова. Но Мадемуазель Фифи при этом всякий раз разбивал свой стакан, и солдат немедленно подавал ему другой.
Едкий табачный туман заволакивал их, и они, казалось, все глубже погружались в сонливый и печальный хмель, в угрюмое опьянение людей, которым нечего делать.
Но вдруг барон вскочил. Дрожа от бешенства, он выкрикнул:
– Черт побери! Так не может продолжаться! Надо, наконец, что-нибудь придумать!
Лейтенант Отто и младший лейтенант Фриц, оба с типичными немецкими лицами, неподвижными и глубокомысленными, спросили в один голос:
– Что же, капитан?
Он с минуту подумал, потом сказал:
– Что? Если командир разрешит, надо устроить пирушку!
Майор вынул изо рта трубку:
– Какую пирушку, капитан?
Барон подошел к нему:
– Я беру все хлопоты на себя, господин майор. Слушаюсь будет отправлен мною в Руан и привезет с собою дам; я знаю, где их раздобыть. Приготовят ужин, все у нас для этого есть, и мы, по крайней мере, проведем славный вечерок.
Граф фон Фарльсберг улыбнулся, пожимая плечами:
– Вы с ума сошли, друг мой.
Но офицеры вскочили со своих мест, окружили командира и взмолились:
– Разрешите капитану, начальник! Здесь так уныло.
Наконец майор уступил, сказав: «Ну хорошо», и барон тотчас же послал за Слушаюсь. То был старый унтер-офицер; он никогда не улыбался, но фанатически выполнял все приказания начальства, каковы бы они ни были.
Вытянувшись, он бесстрастно выслушал указание барона, затем вышел, и пять минут спустя четверка лошадей уже мчала под проливным дождем огромную обозную повозку с натянутым над нею в виде свода брезентом.
Тотчас все словно пробудилось: вялые фигуры выпрямились, лица оживились, и все принялись болтать. Хотя ливень продолжался с тем же неистовством, майор объявил, что стало светлее, а лейтенант Отто уверенно утверждал, что небо сейчас прояснится. Сам Мадемуазель Фифи, казалось, не мог усидеть на месте. Он вставал и садился снова. Его светлые, жесткие глаза искали, что бы такое разбить. Вдруг, остановившись взглядом на усатой даме, молодой блондин вынул револьвер.
– Ты этого не увидишь, – сказал он и, не вставая с места, прицелился. Две пули одна за другой пробили глаза на портрете. Затем он крикнул:
– Заложим мину!
И разговоры вмиг смолкли, словно вниманием всех присутствующих овладел какой-то новый и захватывающий интерес.
Мина была его выдумкой, его способом разрушения, его любимой забавой.
Покидая замок, его владелец, граф Фернан д’Амуа д’Ювиль, не успел ни захватить с собою, ни спрятать ничего, кроме серебра, замурованного в углублении одной стены. А так как он был богат и любил искусство, то большая гостиная, выходившая в столовую, представляла собою до поспешного бегства хозяина настоящую галерею музея.
По стенам висели дорогие полотна, рисунки и акварели. На столиках и шкафах, на этажерках и в изящных витринах было множество безделушек: китайские вазы, статуэтки, фигурки из саксонского фарфора, китайские уроды, старая слоновая кость и венецианское стекло населяли огромную комнату своею драгоценною и причудливою толпой.
Теперь от всего этого не осталось почти ничего. Не то что бы вещи были разграблены, – майор граф фон Фарльсберг этого никогда не допустил бы, – но Мадемуазель Фифи время от времени закладывал мину, и в такие дни все офицеры действительно веселились вовсю в течение нескольких минут.
Маленький маркиз пошел в гостиную на поиски того, что ему было нужно. Он принес крошечный чайник из китайского фарфора – «розового семейства», насыпал в него пороху, осторожно ввел через носик длинный кусок трута, поджег его и бегом отнес эту адскую машину в соседнюю комнату.
Затем он мгновенно вернулся и запер за собою дверь. Все немцы ожидали стоя, с улыбкою детского любопытства на лицах, и, как только взрыв потряс стены замка, толпою бросились в гостиную.
Мадемуазель Фифи, войдя первым, неистово захлопал в ладоши при виде терракотовой Венеры, у которой наконец-то отвалилась голова; каждый подбирал куски фарфора, удивляясь странной форме изломов, причиненных взрывом, рассматривая новые повреждения и споря о некоторых как о результате предыдущих взрывов; майор же окидывал отеческим взглядом огромный зал, разрушенный, словно по воле Нерона, этой картечью и усеянный обломками произведений искусства. Он вышел первым, благодушно заявив:
– На этот раз очень удачно.
Но в столовую, где было сильно накурено, ворвался такой столб дыма, что стало трудно дышать. Майор распахнул окно; офицеры, вернувшиеся допивать последние рюмки коньяку, тоже подошли к окну.
Комната наполнилась влажным воздухом, который принес с собою облако водяной пыли, оседавшей на бородах. Офицеры смотрели на высокие деревья, поникшие под ливнем, на широкую долину, помрачневшую от низких черных туч, и на далекую церковную колокольню, высившуюся серой стрелой под проливным дождем.
Как только пришли пруссаки, на этой колокольне больше не звонили. Это было, впрочем, единственное сопротивление, встреченное завоевателями в этом крае. Кюре ничуть не отказывался принимать на постой и кормить прусских солдат; он даже не раз соглашался распить бутылочку пива или бордо с неприятельским командиром, часто прибегавшим к его благосклонному посредничеству; но нечего было и просить его хоть раз ударить в колокол: он скорее дал бы себя расстрелять. Это был его личный способ протеста против нашествия, протеста молчанием, мирного и единственного протеста, который, по его словам, приличествовал священнику, носителю кротости, а не вражды. На десять лье в округе все восхваляли твердость и геройство аббата Шантавуана, посмевшего утвердить народный траур упорным безмолвием своей церкви.
Вся деревня, воодушевленная этим сопротивлением, готова была до конца поддерживать своего пастыря, идти на все: подобный молчаливый протест она считала спасением народной чести. Крестьянам казалось, что они оказали не меньшие услуги родине, чем Бельфор и Страсбург, что они подали одинаковый пример патриотизма и имя их деревушки обессмертится; впрочем, помимо этого, они ни в чем не отказывали пруссакам-победителям.
Начальник и офицеры смеялись над этим безобидным мужеством, но так как во всей местности к ним относились предупредительно и с покорностью, то они охотно мирились с таким молчаливым выражением патриотизма.
Один только маленький маркиз Вильгельм во что бы то ни стало хотел добиться, чтобы колокол зазвонил. Он злился на дипломатическую снисходительность своего начальника и ежедневно умолял его дозволить один раз, один только разик просто забавы ради прозвонить «дин-дон-дон». Он просил об этом с грацией кошки, с вкрадчивостью женщины, нежным голосом отуманенной желанием любовницы; но майор не уступал, и Мадемуазель Фифи, для своего утешения, закладывал мины в замке Ювиль.
Несколько минут все пятеро стояли группой у окна, вдыхая влажный воздух. Наконец лейтенант Фриц, грубо рассмеявшись, сказал:
– Этим дефицам выпал дурной фремя для их прокулки.
Затем каждый отправился по своим делам, а у капитана оказалось множество хлопот по приготовлению обеда.
Встретившись снова вечером, они не могли не рассмеяться, взглянув друг на друга: все напомадились, надушились, принарядились и были ослепительны, как в дни больших парадов. Волосы майора казались уже не столь седыми, как утром, а капитан побрился, оставив только усы, пылавшие у него под носом.
Несмотря на дождь, окно оставили открытым; то и дело кто-нибудь подходил к нему и прислушивался. В десять минут седьмого барон сообщил об отдаленном стуке колес. Все бросились к окну, и вскоре на двор влетел огромный фургон, запряженный четверкою быстро мчавшихся лошадей; они были забрызганы грязью до самой спины, дымились от пота и храпели.
И на крыльцо взошли пять женщин, пять красивых девушек, тщательно отобранных товарищем капитана, к которому Слушаюсь ходил с визитною карточкою своего офицера.
Они не заставили себя просить, зная наперед, что им хорошо заплатят; за три месяца они успели ознакомиться с пруссаками и примирились с ними, как и с положением вещей вообще. «Этого требует наше ремесло», – убеждали они себя по дороге, без сомнения, стараясь заглушить тайные укоры каких-то остатков совести.
Тотчас же вошли в столовую. При свете она казалась еще мрачнее в своем плачевном разгроме, а стол, уставленный яствами, дорогой посудой и серебром, найденным в стене, где его спрятал владелец замка, придавал комнате вид таверны, где после грабежа ужинают бандиты. Капитан, весь сияя, тотчас же завладел женщинами как привычным своим достоянием: он осматривал их, обнимал, обнюхивал, определял их ценность как жриц веселья, а когда трое молодых людей захотели выбрать себе по даме, он властно остановил их, намереваясь произвести раздел самолично, по чинам, по всей справедливости, чтобы ничем не нарушить иерархии.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































