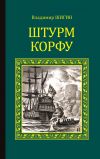Текст книги "Краткая история Англии и другие произведения 1914 – 1917"
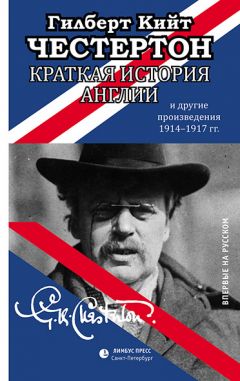
Автор книги: Гилберт Честертон
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Коббет потерпел поражение, потому что потерпел поражение народ Англии. После потрясших систему мятежей люди, как люди, были разбиты; и машины, как машины, били их. Питерлоо[115]115
Место около Манчестера, где в 1819 г. в результате разгона кавалерией толпы 15 человек погибли и около 500 были ранены.
[Закрыть] было таким же поражением англичан, как Ватерлоо – поражением французов. Ирландия не получила самоуправление, потому что и Англия не имела его. Коббет не больше мог поглотить Ирландию, чем все тела мертвых ирландцев.
Но перед тем как потерпеть поражение, Коббет приобрел множество последователей; его «Регистр» был теми же многосерийными новеллами, которыми потом занялся Диккенс. Диккенс, кстати, унаследовал тот же инстинкт резкого говора, и, возможно, получал удовольствие от написания слов «gas and gaiters»[116]116
Словосочетание из «Николаса Никльби», 1839 г., дословно «газ» (или же «бахвальство») и «одежда священника».
[Закрыть] большее, чем от любых других двух слов в любом другом своем произведении. Но Диккенс поуже Коббета, конечно, не по своей вине, а потому, что в эпоху торжества Скруджа и Грэдграйнда[117]117
Суперинтендант из романа Диккенса «Тяжелые времена».
[Закрыть] связи с нашим христианским прошлым были оборваны. Оставалось одно лишь Рождество, которое Диккенс спас так романтично, как будто они оба были на волосок от гибели и чудом уцелели вместе.
Коббет был йоменом, то есть свободным человеком со своей маленькой фермой. Во времена Диккенса йомены так же устарели, как и лучники. Коббет был существом средневековым; то есть он был полностью противоположным тому, что понимается под словом «современный». Он так же любил равенство, как святой Франциск, и был столь же независимым, как Робин Гуд. Как и другой йомен из баллады, он нес могучий лук в руке, и многие из его врагов познали мощь этого лука.
И пусть он иногда не поражал цель правды, зато он никогда не стрелял в другие мишени, как Фроуд[118]118
Джеймс Энтони Фроуд (1818-1894) – английский писатель и историк, отказался от духовной карьеры в 1849 г.
[Закрыть]. Его образ XVI века, в котором завершилась средневековая цивилизация, не менее и не более красочен, чем у Фроуда; вся разница в такой скучной мелочи, как правда. Тот кризис не был источником сильной монархии Тюдоров, которая затем почти сразу же рухнула, он был источником того сильного класса, который завладел всем капиталом и землей, и владеет им по сей день.
Коббета попросили ни много ни мало согнуть его средневековый лук за клич «Святой Георгий и веселая Англия», хотя он и указывал на оборотную и уродливую сторону медали Ватерлоо; но его дурные предчувствия касались скорее Блюхера, чем Веллингтона. Если мы примем этот старый боевой клич как его прощальное слово (а он бы вполне мог попрощаться именно так), то должны заметить, что все в нем говорит против того, что современные власть имущие зовут то ли прогрессом, то ли империей.
Он включает в себя и обращение к святому, и самый народный и самый запретный дух Средневековья. Современный империалист думает о святом Георгии как о покровителе Англии не больше, чем он думает о святом Иоанне на станции метро «St.John’s Wood». Он националист в самом узком смысле, да и непонятна красота и простота Средних веков тому, кто не видел креста святого Георгия отдельно, таким, как он был при Креси[119]119
Битва при Креси произошла 26 августа 1346 г. и стала одним из важнейших сражений Столетней войны, в котором англичане победили французов.
[Закрыть] и Флоддене[120]120
Битва при Флоддене 9 сентября 1513 г. – сражение между войсками Англии и Шотландии в период Итальянских войн.
[Закрыть] – насколько же он лучше Юнион Джека.
А слово «веселая» – это свидетель той Англии, которая славилась музыкой и танцами до прихода пуритан, искоренивших их совершенно неанглийской дисциплиной. Не два года, а целый век Коббет был в тюрьме; а его враг, «эффективный» иностранец, шествовал под солнечными лучами, величественный, вызывающий подражание.
Но я не думаю, что сами пруссаки когда-либо могли бахвалиться «веселой Пруссией».
VI. Гамлет и датчане
В одном из классических и лучших литературных продуктов, которые когда-либо поставляла Германия – я имею в виду не «Фауста», а сказки братьев Гримм, – есть великолепная история про мальчика, прошедшего через множество испытаний, но так и не научившегося трястись от страха. Во время одного из них, насколько я помню, он сидел у камина, и тут из дымохода выпала пара живых ног, после чего встала и пошла сама по себе. Затем из трубы выпало все недостающее и присоединилось к ногам – что, конечно, разрядило ситуацию. Это очаровательно и насыщено лучшей немецкой домовитостью. И это правда: вот какие удивительные приключения поджидают путешественника, оставшегося дома. Но также это показывает, какими разными были пути великого германского влияния на Англию, о котором и пишутся эти эссе – как оно начиналось с добра и постепенно превращалось в зло.
Оно началось с литературного влияния, с цветастых сказок Гофмана, с истории Синтрама[121]121
«Синтрам и его спутники» – повесть Фридриха де ла Мотт Фуке (1777-1843), германского романтика.
[Закрыть] и так далее, воспроизводящих темный фон лесов за городами Европы. Старая тьма Германии была неизмеримо ярче нового германского света. Дьяволы Германии куда лучше, чем ее ангелы. Посмотрите на тевтонские картинки из «Трех охотников»[122]122
Вероятно, Честертон имеет в виду книгу «Три весёлых охотника», проиллюстрированную Рэндолфом Калдекоттом, любимым художником его детства.
[Закрыть] и вы увидите, что оба плохих охотника по-своему эффективны, но хороший охотник слаб с любой стороны – он вроде бесполой женщины с лицом, похожим на чайную ложку.
Но в этих первых лесных сказках есть еще кое-что, кроме уютных ужасов. На ранних стадиях суть истории была в спасении, в том, что мальчик не затрясся. Ужасы были страшными, чтобы показать его бесстрашие, а не то, что он сам может напугать. Пока все было в этих пределах, земля варварских грез сохраняла добропорядочность; и хотя некоторые индивидуальности вроде Кольриджа[123]123
Сэмюэл Тэйлор Кольридж (1772-1834) – английский поэт, критик и философ, представитель «озерной школы».
[Закрыть] и де Куинси[124]124
Томас де Куинси (1785-1859) – английский писатель и историк, автор знаменитой «Исповеди англичанина, употребляющего опиум».
[Закрыть] смешивали ее с худшими субстанциями (вроде опиума), она оставалась в целом страной уходящей романтики.
Но у леса есть один недостаток – в нем можно сбиться с пути. И одна опасность – не просто встретить дьявола, но начать ему поклоняться. Другими словами, фольклор всегда инстинктивно увязывал эту опасность с лесом – он может зачаровать, в нем можно потерять себя и попасть в плен или зависимость от неестественного, от духов. И в развитии германизма, от Гофмана до Гауптмана, мы видим растущую тенденцию воспринимать ужас всерьез, а это уже дьяволизм.
Немец начинает испытывать мрачную абстрактную симпатию к силе, а страх он описывает как некоторую особенность объекта своей симпатии. Немец больше не симпатизирует мальчику, вставшему против гоблина, – он на стороне гоблина, вставшего против мальчика. Все это происходит, как и у всех идолопоклонников, с бесчеловечной серьезностью; люди леса уже строят на горе пустой трон Сверхчеловека.
И в этот момент и для меня, и для других людей, любящих правду так же сильно, как сказки, начинает пропадать интерес к германской выдумке. Я за то, чтобы «идти в мир искать свою судьбу»[125]125
Фраза из многих сказок, в том числе из «Бременских музыкантов».
[Закрыть], но я вовсе не хочу найти ее, а найти ее можно, лишь когда тебя закуют среди замороженных фигур Аллеи Победы[126]126
Бульвар в Берлине, построенный по приказу кайзера Вильгельма II в 1895-1901 гг., изобилует памятниками правителей прошлого.
[Закрыть]. Я хочу стать идолопоклонником еще меньше, чем идолом. Я хочу отправиться в страну фей, но и вернуться обратно я тоже хочу. Я буду восхищаться, но я не буду притягиваться, особенно мистикой или милитаризмом. Я за германские фантазии, но буду сопротивляться германской серьезности, пока не умру. Я за сказки братьев Гримм, но если появится такая штука, как закон братьев Гримм, я буду нарушать его, потому что я знаю, каким он будет. Мне даже нравятся прусские ноги (в их красивых ботинках), если они выпадут из дымохода и пройдут мимо меня в мою комнату. Но когда к ним присоединится голова и заговорит, мне станет немного скучно.
Немцы не могут быть глубокими, потому что не позволяют себе быть поверхностными. Они увлечены искусством, погружаются в него и не могут увидеть того, что окружает искусство. Они не верят, что искусство – это светлая и легкая штука – перышко, может быть из крыла ангела. В глубине бассейна есть только слизь, небо отражается в поверхности воды. Мы видим это в очень типичном процессе – германизации Шекспира. Я не огорчаюсь, когда немцы забывают, что Шекспир англичанин. Я огорчаюсь, когда они забывают, что Шекспир был человеком, у него были настроения, и ошибки тоже были, но прежде всего его искусство было именно искусством, а не признаком божественности.
В том-то и проблема с немцами, что они не могут «звонить похоронный звон попричудливее»[127]127
Цитата из «Венецианского купца» – «ring fancy’s knell».
[Закрыть] – в их похоронных звонах нет веселости. Фраза Гамлета о «зеркале, обращенном вверх к природе» обычно цитируется серьезными критиками и трактуется в том смысле, что искусство ничто, если оно не реалистическое. Но на самом деле эта фраза значит (или по крайней мере ее автор думал, что значит), что искусство – искусственное. Реалисты, как и другие варвары, действительно верят зеркалу, и поэтому бьют зеркала. Кроме того, они пропускают добавку «как бы»[128]128
«А8 ^еге».
[Закрыть], которую нужно иметь в виду в любом замечании Шекспира, и уж тем более в любом замечании Гамлета.
Когда я писал о вере в зеркало и разбивании его, я имел в виду один запомнившийся мне случай: некий реалистичный критик цитировал немецких ученых, доказывавших, что Гамлет имел определенные психопатологические отклонения, о которых в пьесе нигде не упоминается. Критик был заворожен, он думал о Гамлете как о реальном человеке, с прошлым и в трехмерном мире – которого не существует в зеркальном отражении. «Даже лучшие из этого рода людей – всего лишь тени» [129]129
Уильям Шекспир, «Двенадцатая ночь».
[Закрыть]. Ни один немецкий комментатор никогда не обращал на это обстоятельство достаточного внимания.
Так или иначе, Шекспир был англичанином, и наиболее им был именно в своих провалах; но ничто ему не удалось лучше, чем описание особенных английских типов характера. И если что-то надо сказать о Гамлете после того, что сказал о нем Шекспир, так я скажу – Гамлет тоже был англичанином. Он был столь же англичанином, сколь и джентльменом и сочетал в себе самые неисправимые слабости как тех, так и других.
Главной виной Англии, особенно в XIX веке, был недостаток решительности, и не только решительности в действиях, но и решительности в мысли -то, что зовут догмой. И в политике прошлого столетия этот английский Гамлет, как мы увидим, играл огромную роль – то есть отказался ее играть.
Было две волны германского влияния; одна – забавная игра с ужасом, и вторая – торжественное признание ужасных вещей. Первая указывала на страну эльфов, вторая – на Пруссию. Эта история развивалась с бессознательным символизмом и скоро получила впечатляющую проверку с политическим оттенком, что же мы уважаем на самом деле – фантазию тевтонов или тевтонский страх.
Процесс германизации Англии, его начало и поворотные пункты, лучше всего разметил гений Карлейля[130]130
Томас Карлейль (1795-1881) – британский писатель и историк шотландского происхождения.
[Закрыть]. Вначале очарование Германии было очарованием ребенка. Тевтонцы никогда не были столь же великими, как в ту пору, когда ребячились; в их искусстве – и церковном, и народном – младенец Христос действительно ребенок, хотя Христос у них вряд ли человек. Неловкая суматоха в их педагогике наполовину искупается милостью того, что школы еще не были инкубатором для граждан, а скорее -садом для детворы. Самый первый и лучший лесной дух – это дух детства, его чудеса, его шалости, даже его невинный страх.
Карлейль точно отметил момент, когда германское чадо стало чадом избалованным. Чудо превращается в мистику, а мистика всегда превращается в безнравственность. Шалости больше не поощряются, поощряется подчинение. Страх становится философией. Паника застывает и оборачивается пессимизмом или столь же угнетающим оптимизмом.
Карлейль, самый влиятельный английский писатель того времени, разметил все это в мысленном промежутке между своей «Французской революцией» и своим «Фридрихом Великим». И там, и там он был германцем. Карлейль был сентиментален, как Гёте, а Гёте был сентиментален, как Вертер. Карлейль понимал все во французской революции, кроме того, что она была французской. Он не мог себе представить холодную ярость, возникающую от вида оскорбленной истины.
Ему казалось абсурдом, что человек может умереть или убить за первое определение Эвклида, что он может смаковать государство гражданского равенства, как равносторонний треугольник, или станет защищать теорему о равнобедренном треугольнике[131]131
Pons Asinorum (лат).
[Закрыть], как Гораций Коклес[132]132
Легендарный герой Рима времен войн с этрусками.
[Закрыть] защищал мост[133]133
Pons, игра слов.
[Закрыть] через Тибр. Но тот, кто этого не понимает, не поймет и французской революции – или, если на то пошло, американской революции. «Мы считаем самоочевидными следующие истины»[134]134
Слова Декларации независимости США, принятой 4 июля 1776 г.
[Закрыть], – это фанатизм прописных истин.
Карлейль не имел подлинного уважения к свободе, зато он по-настоящему благоговел перед анархией. Он восхищался первобытной энергией. Насилие, которое отталкивало большинство людей от революции, влекло его – и только оно. Пока виг, вроде Маколея, уважал жирондистов и порицал монтаньяров, тори, вроде Карлейля, скорее симпатизировал монтаньярам и выражал неоправданное презрение жирондистам. Эта страсть к бесформенной силе принадлежит, конечно, к лесам, к Германии. Но когда Карлейль попал туда, на него обрушилось своего рода заклинание, которое стало и его трагедией, и английской трагедией, и, в не меньшей степени, германской трагедией.
Подлинная романтика тевтонов – это романтика южных тевтонов, с их крепостями, которые буквально выглядят воздушными замками, с их рекой, окруженной виноградниками, которую можно срифмовать с вином[135]135
Честертон имеет в виду Рейн: «Rhine – wine».
[Закрыть]. Но поскольку Карлейлю была близка лишь романтика завоевания, он должен был доказывать, что завоеванное Германией куда поэтичнее всего остального, что есть в ней. Однако теперь завоеванное Германией – это самое прозаичное, от чего когда-либо уставал мир.
Сейчас даже в Брикстоне[136]136
Район южного Лондона, во времена Честертона очень бедный.
[Закрыть] больше поэзии, чем в Берлине. Стелла говорила, что Свифт мог очаровательно написать о помеле; а бедный Карлейль вынужден был романтично писать о шомполе. Сравните его с Гейне, который тоже имел своеобразное пристрастие к мистическому гротеску Германии, но который ясно видел, где враг, почему и предложил использовать прусского орла в качестве мишени лучников на Рейне, приколотив его к стволу, как дохлую ворону.
Прозаическая суть Пруссии не доказывается тем фактом, что там больше не растут поэты, она доказывается куда более убийственным фактом – какими они там растут. Подлинная поэзия Фридриха Великого была написана не на немецком или варварском языке, но на французском – и оказалась очень слабой. Карлейль стал куда мрачнее, когда его врожденная меланхолия столкнулась с еще более глубокой прусской меланхолией – тут нечему удивляться. Его философия пришла к выводу, что пруссаки были первыми из немцев, а следовательно первыми из людей. Ничего странного, что на нас, остальных людей, он не возлагал особых надежд.
Но куда большее испытание ожидало и Карлейля, и Англию. Пруссия – тяжелая, упорядоченная, материалистическая, как глина, – продолжала твердеть и усиливаться после того, как непокоренная Россия и непокоренная Англия спасли ее, лежавшую ничком перед Наполеоном. В этом временном интервале двумя наиболее важными событиями были национальное возрождение Польши, которому Россия наполовину сочувствовала, а Пруссия была непримиримо враждебна, и отказ короля Пруссии от короны единой Германии просто потому, что она была предложена свободным германским объединением на условиях конституции. Пруссия не хотела вести немцев, она хотела завоевать немцев.
Но сперва она захотела завоевать другой народ. Она уже отыскала свое брутальное и немного забавное воплощение в Бисмарке; и Бисмарк принялся действовать по жесткой схеме, но не без юмора. Он поддержал, или сделал вид, что поддерживает, притязания принца Аугустенборга на герцогства, которые были частью Дании на законных основаниях. К поддержке этого слабого претендента он привлек две могучие силы – объединение германских государств, называемое Бунд, и Австрийскую империю.
Нет смысла рассказывать, что после занятия при помощи чисто прусского насилия оспариваемых провинций Бисмарк изгнал оттуда сперва принца Аугустенборга, затем германский Бунд, а напоследок и Австрийскую империю при помощи внезапной кампании при Садове[137]137
Битва при Садове произошла 3 июля 1866 г. и стала самым крупным сражением австро-прусской войны.
[Закрыть]. Он был добрым мужем и добрым отцом, он не рисовал акварелей, а для таких уготовано Царствие небесное.
Но для нас символизм этой истории в другом. Датчане ожидали помощи от Англии, и если бы существовала хоть какая-то искренность в идеальном мире нашего тевтонства, они должны были ее получить. Они должны были получить ее, даже по мнению педантов того времени, которые уже заговорили о неполноценности латинян и неустанно объясняли, почему стране Ришелье нельзя править, а страна Наполеона неспособна сражаться.
Если уж для спасения совершенно необходимо быть тевтонцем, то датчане были большими тевтонцами, чем пруссаки. Если бы было жизненно важно, чтобы в роду были викинги, то датчане действительно были потомками викингов, в то время как у пруссаков в предках были и славянские племена. Если протестантизм является прогрессом, то датчане были протестантами, причем они достигли особенного успеха и богатства на небольшой площади при помощи интенсивного сельского хозяйства, которым обычно хвастались католические страны. Они воплотили в себе все достоинства, которые германцы обычно противопоставляют латинской революционности: тихую свободу, тихое процветание, простую любовь к полям и морю.
Более того, по совпадению, которые одно за другим преследуют эту драму, англичане времен Виктории нашли немало свежих впечатлений в северном духе детства и чудес датских гениев, чьи истории и рисунки сделались так популярны в Англии, что стали практически английскими. Хорошие истории, как сказки братьев Гримм, были собраны, а не созданы современными немцами – они были музеем вещей более древних, чем любая нация, проистекая из времен доисторических, не знавших летоисчисления.
Когда английские романтики захотели найти дух народных сказок еще живым, они обнаружили его в маленькой стране, где правил один из тех маленьких королей, которыми комично переполнены сами народные сказки. Они обнаружили то, что мы называем «оригинальным писателем». Они нашли целую страну фей в одной голове под высокой шляпой. Те из англичан, кто были детьми, обязаны Гансу Андерсену больше, чем любому из наших собственных писателей, за то исключительное открытие, что обыденное не скучно, а весьма фантастично, за открытие волшебной страны мебели и возможность увлекательных путешествий и приключений на ферме.
Его восприятие неодушевленных вещей как одушевленных не было холодной и угловатой аллегорией. Это было подлинное чувство присутствия бессловесной божественности в окружающих вещах. Благодаря ему ребенок ощущал, что стул, на котором он сидит, – ближайший родственник деревянной лошадки. Благодаря ему дети, это счастливейшее людское племя, почувствовали, что крыша над их головой – это сложенные крылья какой-то громадной домашней птицы, а обычные двери обернулись огромным ртом, улыбающимся и приветствующим их.
В рассказе «Пихта» Андерсен пересадил в Англию куст, способный цвести свечами. А в сказке «Стойкий оловянный солдатик» он произнес речь в защиту романтики военного дела – против тех педантов, которые хотели бы запретить даже игрушки в детской. Он утверждал, в соответствии с традицией народных сказок, что достоинство солдата не в его величине, но в его несгибаемой верности и героической стойкости перед лицом высших и низших сущностей. Эти сущности, увы, оказались аллегориями.
Когда Пруссия, обнаружив, что ее преступления безнаказанны, впоследствии вторглась во Францию, как и в Данию, Карлейль и его школа предприняли определенное усилие, чтобы оправдать германизм. Они противопоставляли то, что называли смирением и простотой Германии, тому, что называли цинизмом и непристойностью Франции. Никто не смог бы утверждать, что Бисмарк смиреннее и проще Ганса Андерсена, но последователи Карлейля с молчаливым одобрением смотрели на то, как невинное крошечное королевство ломается, точно игрушка.
И здесь снова Англия с огромной вероятностью встала бы за правое дело, если бы английский народ имел английское правительство. Среди других совпадений была и датская принцесса[138]138
Александра Датская (1844-1925) – супруга Эдуарда VII.
[Закрыть], которая вышла замуж за наследника английского престола и рассматривалась толпой как принцесса из волшебной страны. Национальный поэт приветствовал ее как «дочь морского короля»[139]139
Альфред Теннисон посвятил Александре оду с этими строками.
[Закрыть], и она была и до сих пор остается наиболее популярной персоной среди королевского дома Англии. Но что бы ни нравилось нашим людям, наши политики оказались робкими, по сути полностью прирученными, и немели в страхе перед силой. Стойкий оловянный солдатик датской армии и бумажный кораблик датского военного флота, как и предсказала сказка, были смыты в большую канаву, ведущую в колоссальную клоаку, центр которой -в Берлине.
Почему же Англия не вмешалась? На этот счет было много причин, но я думаю, что все они явились разными следствиями единственной причины – непрямыми и иногда довольно нелогичными следствиями того, что мы называем германизацией Англии. Во-первых, наше островное положение, на котором мы так настаивали, привело нас к дикости отказа от места в главном сенате наций. То, что мы считали нашей блестящей изоляцией, превратилось в позорное сонное партнерство с Пруссией.
Далее нашу безответственность усиленно тренировали два современных историка – Фримен[140]140
Эдвард Огастес Фримен (1823-1892) – английский историк, автор «Истории норманнского завоевания Англии».
[Закрыть] и Грин[141]141
Джон Ричард Грин (1837-1883) – английский историк, автор популярной «Краткой истории английского народа».
[Закрыть], учившие нас гордиться тем, что мы – возможные наследники безымянных врагов короля Артура, но не самого короля Артура. Король Артур, может быть, и не историческая личность, но хотя бы легендарная. Хенгист и Хорса[142]142
Два брата-саксонца, вторгшиеся в Британию в V в.
[Закрыть] даже не были легендарными, после них не осталось легенд.
Всем очевидно, каким нужно быть, чтобы соответствовать Артуру: нужно быть рыцарственным, быть европейским. Но трудно вообразить, какие обязанности налагает на тебя родство с Хорсой, кроме соответствия чему-то лошадиному[143]143
Игра слов: «horse» – лошадь.
[Закрыть]. Видимо, это единственная часть англо-саксонской программы, которая действительно осуществляется в современной Англии.
Позже, при падении от Коббета до Кобдена[144]144
Ричард Кобден (1804-1865) – английский политический деятель, член Палаты общин, выступал за неограниченную конкуренцию и свободу торговли.
[Закрыть] (от широкой к узкой человечности и здравому смыслу), был учрежден любопытный культ своеобразного мира – мира, распространяемого по планете не пилигримами, а разносчиками товаров. Мистики с самого начала взывали к миру, но они добавляли зароки бедности. Эти зароки кобдениты проигнорировали.
Затем снова приходит час роста симпатий к Пруссии, и этому ухудшению мы обязаны Карлейлю и его последователям. Но помимо них было еще кое-что – дух, который инфицировал нас целиком. Этот дух был призраком Гамлета. Мы дали великое имя «эволюция» процессу самотека. Наше богатство, наше островное положение, наша последовательная утрата веры так запутали нас, что старая христианская Англия уже пугает нас, как привидение, в существовании которого мы сомневаемся.
Аристократ, вроде Пальмерстона, любящий свободу и ненавидящий новомодную тиранию, должен был бы посмотреть на происходящее холодным взглядом и задать себе тот же самый страшный вопрос, что задал себе Гамлет: а не подлец ли я?
Мы заставили онеметь наш гнев и нашу честь, но это не принесло нам мира.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?