Читать книгу "Рембрандт"
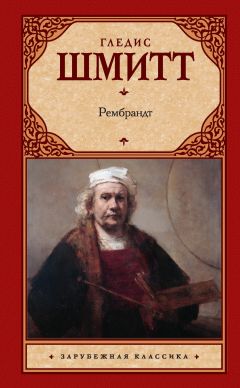
Автор книги: Гледис Шмитт
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Заболел отец. Вернулся домой рано и сразу лег, – ответила Лисбет, с удивлением слыша, как мрачно звучат сейчас ее слова, хотя до возвращения брата она сама убеждала себя, что у отца пустяковое недомогание.
– Заболел? – Лицо Рембрандта побелело, и розовые пятна, которые ветер оставил у него на щеках, запылали огнем. – Где он?
В голосе брата звенела такая тревога, что сердце у девушки отчаянно застучало.
– У себя наверху. Лежит в постели. Да ничего особенного не случилось – просто началась рвота.
Рембрандт уронил шарф на выпачканный мылом стол и кинулся к лестнице.
– На твоем месте я бы туда не ходила. Там у него врач.
– Врач?
– Да. Подожди лучше здесь, я соберу тебе поужинать. А к отцу поднимешься попозже, когда уйдет врач.
– А с какой стати мне ждать? – повысил голос Рембрандт, злясь на самого себя – ну чего он так бессмысленно испугался? – Черт с ним, с доктором! Я иду наверх.
Когда Лисбет услышала, как брату преградили дорогу, она невольно улыбнулась – пусть не лезет туда, куда не пустили сестру. Как раз в ту минуту, когда он бросился вверх по лестнице, врач и ее мать начали спускаться вниз, и прежде чем девушка успела прибрать кричащие амстердамские покупки, все трое уже вошли в комнату.
Лисбет не без тревоги взглянула на доктора Клааса Двартса, подвижного человечка с волосами песочного цвета; он присел на краешек скамейки и обхватил руками колени.
– Отцу лучше? – спросила она.
– Сейчас он, можно сказать, поуспокоился и отдыхает, Лисбет.
Почему у врача такой зловещий вид? Или это ей просто кажется из-за отблесков огня, пляшущих в его очках?
– Что с ним было, доктор? Расстройство желудка? Или еще что-нибудь в том же роде? – спросил Хендрик Изакс.
– Когда появляются известные симптомы, мы, врачи, говорим себе: «Судя по всему, это либо расстройство желудка, либо что-нибудь другое». Я хочу задать вам, Нелтье, один вопрос – при больном об этом не спрашивают. Вы не заметили, какой цвет лица был у вашего милого мужа, когда он вернулся с мельницы?
– Бледный, – ответила Нелтье, которая стояла, прислонившись к углу буфета и скрестив руки на груди. – Вернее сказать, серый, как камень.
– Хорошо.
«Он лжет, – подумала Лисбет. – Он вовсе не считает, что это хорошо».
– В таких случаях лицо всегда бывает серым, как камень.
В таких случаях? Боже мой, что он хотел сказать этими словами?
– Что-нибудь серьезное? – спросила Лисбет, не обращая внимания на предостерегающий взгляд матери.
– Как вам сказать, Лисбет? Уколотый палец или легкий ушиб головы порой приводят к серьезным последствиям. Бывает и так: человек в жару, мы не уверены, что он переживет ночь, а утром он как ни в чем не бывало поднимается с постели. Любая болезнь – дело серьезное…
– Но что же все-таки у него?
Брат задал свой вопрос в упор – так спрашивает только мужчина.
– Возможно, это сердце, что я и сказал вашей матери, когда мы столкнулись с вами на лестнице. Заметьте, я ничего не утверждаю, я говорю – возможно. А если это сердце, я никогда не возьму на себя ответственность утверждать, что это не серьезно, хотя «серьезно» еще не значит «угрожающе», а «угрожающе» не значит «смертельно».
Хендрик Изакс, о котором Лисбет совсем забыла, сжал ее руку, лежавшую на амстердамских сокровищах, и девушке потребовалось все ее самообладание, чтобы не отдернуть пальцы.
– Но зачем в таком случае он столько работает? – взорвался Рембрандт. – Зачем он таскает тяжеленные мешки вверх и вниз по лестнице?
– Этого ему, конечно, не следует делать, – ответил доктор Клаас Двартс. – Если у него действительно больное сердце и он будет безрассудно напрягать его, я первый снимаю с себя всякую ответственность. Кстати, Нелтье, осторожности ради, пусть ваш муж недельки две не работает. Да-да, подержите-ка его недельки две в постели.
Рука Лисбет, лежавшая на огненном шелке под рукой Хендрика Изакса, невольно сжалась. Ее отец болен – болен серьезно, угрожающе, неизлечимо, смертельно. Это знают все – и мать, и брат, и доктор Клаас Двартс, который встает и желает собравшимся доброй ночи, довольный тем, что ухитрился сообщить ужасную весть, не назвав вещи своими именами, а теперь может выйти из обреченного дома в холодную свежую ночь и услышать равномерное здоровое биение собственного сердца. Это знает Хендрик Изакс, это поняла, наконец, и сама Лисбет: недаром у нее такое чувство, словно яростная буря с корнем вырвала то дерево, о которое девушка опиралась всю свою жизнь, и теперь на месте его чернеет лишь яма.
– Ясно одно – он не может больше работать так, как работал, – сказал Рембрандт.
– Верно, – отозвалась мать, беззлобно окинув глазами пышную бутафорию, разложенную на столе, а затем переведя их на окно, за которым виднелась вдали освещенная мастерская. – А кто его заменит?
– Все мы заменим. – Рембрандт переплел пальцы и хрустнул ими. – Я могу сгребать солод и таскать мешки с зерном. Лисбет будет делать то, что полегче, – скажем, перемешивать затор и отделять ростки. А если мы вдвоем не управимся, нам всегда поможет Адриан.
– Я тоже могу кое-что делать, Нелтье Виллемс, – вмешался поклонник Лисбет. – Я ведь почти все вечера свободен, а по воскресеньям, когда мастерская закрыта, у меня и подавно времени хватит.
– Это очень мило с вашей стороны, мой мальчик, – ответила мать, и голос ее, впервые за весь вечер, задрожал. – Если вы и впрямь готовы нам помогать из добрых чувств к моему мужу, мы, видит Бог, не останемся в долгу. Хармен очень вас любит.
Слышать эти слова, произнесенные дрожащим голосом матери, было так трогательно, что застывшее лицо Лисбет дрогнуло и слезы брызнули у нее из глаз. Но Нелтье, которая уже стояла у очага и подвешивала на крюк котелок, снова бросила дочери предостерегающий взгляд.
– Прибери-ка вещи, которые ты привез из Амстердама, Рембрандт. Их, пожалуй, лучше отнести в мастерскую – здесь они перепачкаются, – сказала она.
Рембрандт подошел к столу и с лицом, залитым краской стыда, собрал свои сокровища: сложил кусок ткани, спрятал в карман стеклянные бусы.
– Можно мне подняться наверх, к отцу? – спросил он. – Я его уже несколько дней не видел.
– Врач велел ему сразу после еды принять снотворные капли. Если мы начнем ходить туда-сюда, он, конечно, не уснет. – Нелтье вынула из кипятка яйца и, не поморщившись, начала снимать скорлупу: за долгие годы вечной стирки и тяжелой работы пальцы ее так огрубели, что стали нечувствительны к горячему. – Я скажу ему, что ты вернулся, Рембрандт. Утром ты зайдешь к нему, а сейчас ступай в мастерскую и занимайся своим делом. Ну, я пошла наверх.
«А как же я?» – подумала Лисбет, когда мать и брат ушли. Неужели ей каждый вечер, до самой ночи, торчать здесь, на кухне, с Хендриком Изаксом, после того как он закончит свои благотворительные труды? Неужели он будет сидеть тут за кружкой пива, а ей придется любезничать с ним, пока он не уйдет? Неужели, прощаясь, он будет целовать ей руку и она даже не сможет отказать ему в этом?
– Я для вашего отца что угодно сделаю, – нарушив молчание, объявил Хендрик.
– Я это знаю, – ответила она ровным, усталым голосом.
– Я тоже буду молиться за него, Лисбет.
– Обязательно молитесь! – несколько более оживленно ответила она. Даже если наивный глупец ни на что больше не годен, молитва его всегда зачтется. Хендрик Изакс простодушен, как малый ребенок; именно поэтому Господь с высоты престола своего внемлет его мольбам.
* * *
Хармен Герритс кое-как встал на ноги. Голова у него кружилась, лодыжки распухли, ноги казались чужими: они покрылись сетью мелких красновато-синих вен и так отекли, что кости уже не проступали. Нелегкое дело расхаживать на этих чужих ногах, да еще когда в голове такая же странная пустота, как по праздникам после вина или веселья! До сих пор мельник не выходил из дому и осторожно, как ребенок, который учится ходить, перебирался от порога к порогу, от стула к стулу. Но нынче утром распустились первые гиацинты, и Хармен рискнул выйти в сад. Крылья мельницы, подгоняемые слабыми порывами ветра, потрескивали и жужжали, но старик не оборачивался, чтобы посмотреть на их вращение. У него хорошие дети – они управляются на мельнице и без него, даже советов больше не просят. Адриан работает на ней по три дня в неделю, оставляя мастерскую на попечении подручного. Лисбет вместе со своим славным молодым человеком проводит там каждый вечер, часов до девяти. Рембрандт бросает теперь свои кисти не в пять, а в три: всю вторую половину дня он насыпает мешки и грузит их на телегу. Даже ученики сына, закончив свой дневной урок, немного задерживаются – то таскают мешки на здоровенных плечах, то отбирают проворными руками проросшие стебли.
Хармен думал о том, как хорошо, должно быть, пахнут гиацинты – нагнуться и понюхать он боялся. Скоро из дому выйдет Нелтье, и он попросит ее сорвать ему несколько цветов. Потом, в кухне, где он проводит большую часть дня, сидя на стуле и положив ноги на другой, он поднесет гиацинты к лицу и вдохнет их аромат. Это будет так приятно, хоть ему и жалко срывать весенние цветы: стебли, когда их надламывают, исходят таким чистым прохладным соком, похожим на кровь, а ведь всему на свете приходит свой естественный конец, и не стоит торопить время…
Хармен услышал, как звякнула щеколда, оглянулся и понял, что в сад кто-то вошел. Теперь он замечал все и всех – людей, кошек, деревья – не раньше, чем они оказывались футах в двадцати от него: постоянное головокружение ставило перед его глазами сверкающую, расплывчатую, как туман, завесу, которая лишала предметы реальности, если только они не находились совсем уж рядом с ним. Сейчас в светлый круг, очерченный этой завесой, вступил господин ван Сваненбюрх. Мельник различил изборожденное морщинами лицо гостя, волосы, серебрившиеся на солнце. «Ну что ж, – подумал он, протягивая посетителю руку, – все мы рано или поздно старимся…»
– Как вы себя чувствуете? – весело, как ни в чем не бывало осведомился ван Сваненбюрх. – Выглядите вы несравнимо лучше, чем в субботу, когда я заходил к вам. Вы совсем как прежде, даже румянец на щеках играет.
Хармен, смутившись, потрогал свои щеки: они явно нуждались в бритье. А если они действительно разрумянились, то объясняется это все тем же ветром, который вращает потрескивающие крылья мельницы: сколько раз в последние дни Хармен ни смотрелся в зеркало, лицо у него всегда оказывалось мертвенно-бледным.
– Боли у меня, слава Богу, прошли. Одна беда – ноги пухнут.
– Я, собственно, иду к мальчикам в мастерскую – у меня для них есть кое-какие новости, – сказал художник, рассматривая серебряные пуговицы на своем камзоле и словно намекая, что принесенные им новости не слишком радостны.
Хармен Герритс тоже не поднимал глаз – он смотрел на раннюю пчелу, которая прильнула к пунцовой чашечке цветка. Раньше мельник не стал бы дожидаться обеда, а сразу же выспросил у господина ван Сваненбюрха, что произошло, да еще немедленно вызвался бы проводить его в мастерскую. Сейчас он этого не сделал, и дело тут было не только в его отяжелевших ногах.
– Что ж, – со вздохом отозвался он, – не стану задерживать вашу милость. Идите к ним – они сейчас там.
– Вчера я получил письмо, очень длинное письмо от его милости Константейна Хейгенса…
Хармен помнил это имя – так звали секретаря принца, который приезжал в Лейден больше года тому назад, вселил в мальчиков такие надежды и с тех пор как в воду канул.
– Там и о Рембрандте что-нибудь есть? – спросил он, пытаясь подсчитать, сколько же месяцев прождал его сын.
– Да, но больше о Яне Ливенсе.
– О Яне?
– Вы, несомненно, помните, Хармен, что его милость Хейгенс купил для принца одну из картин Ливенса?
Помнит ли он? Как тут забудешь, если дурак Ливенс целыми месяцами ухмыляется при одном воспоминании об этом, живет мыслью об этом, весь лоснится от сознания этого?
– Принц не оставил картину у себя, а подарил ее английскому послу. Несколько недель тому назад посол вернулся в Англию, преподнес ее своему королю, и она произвела на короля сильное впечатление… – вы, наверно, помните: картина была очень эффектная, – такое сильное впечатление, что король приглашает Ливенса в Англию и предлагает ему место придворного художника. Должность эта, бесспорно, выгодная, но мы-то с вами знаем: не все то золото, что блестит.
Сейчас Страстная неделя, а значит, христианин подавно не должен желать зла своему единоверцу, если даже тот попадается на глаза королю Карлу только благодаря тому, что стоит на плечах Рембрандта. Да, сейчас Страстная неделя, но слова восторга, который полагается изъявлять в таких случаях, никак не приходят на ум мельнику – он слишком устал. Кивнуть непривычно кружащейся головой – вот и все, что он может сделать.
– Я хотел вам сказать, Хармен Герритс, – изящная маленькая рука в трепещущей на ветру кружевной манжете дотронулась до груди мельника, прикрытой изношенной шерстяной курткой, – что, невзирая на выпавшую Ливенсу удачу, ваш сын Рембрандт настолько же выше его, насколько мы с вами выше медведей, пляшущих на ярмарках. Ваш сын Рембрандт станет художником, равного которому еще не было в Нидерландах. Имя его будет упоминаться рядом с Дюрером и Микеланджело, и когда этот день наступит, все давно позабудут о том, что его подражатель был приглашен к английскому двору. Поверьте, друг мой, – палец художника еще крепче надавил мельнику на грудь, где гулко билось сердце, – я говорю все это так же искренне, как верю в то, что мне отпустятся мои грехи, а душа будет спасена.
Но Хармен не мог даже выразить свою признательность – в нем сталкивалось сейчас слишком много противоборствующих течений: море, по которому Ян Ливенс поплывет к богатству и славе, и захлестывающий его самого прилив годов; волны надежды, разбивающиеся о сердце, и поток его собственной взбудораженной крови. «Наверно, я сейчас умру, – думал он, глядя на чашечки цветов – белые, лиловые, алые, которые расплывались перед его глазами. – Наверно, я упаду лицом вперед, соседи бросятся к окнам, а женщины выбегут из дома и поднимут бесполезный шум…»
Но смятение прошло, волны отхлынули, и он увидел, что господин ван Сваненбюрх поддерживает его под локоть и тревожно глядит ему в лицо.
– Вам дурно, Хармен Герритс?
– Нет, нет, все хорошо, ваша милость. Просто у меня закружилась голова, а потом прошло. Так теперь все время – то накатит, то отойдет.
– Вы, надеюсь, не работаете? Только отдыхаете?
– Только отдыхаю. Домашние не дают мне даже пальцем шевельнуть – все сами делают.
– Вот и правильно.
– Я – счастливый человек: у меня хорошая семья, господин ван Сваненбюрх. Все это время дети работают так дружно, словно у них одна душа, – сказал мельник.
– У меня никогда не было детей. Поэтому я не могу себе представить, что чувствует человек, зачавший и воспитавший гения…
Гения?.. Из-за шума, царящего сейчас в его пустой голове, он совсем забыл о Рембрандте.
– Я действительно зачал его, давал ему пищу и кров, но воспитали его вы. Во всяком случае, воспитали его душу, – ответил Хармен, смущенно глядя на гиацинты.
Разговор прервался, затем перешел на цветы. Господин ван Сваненбюрх выразил удивление по поводу того, что тюльпан стал королем луковичных растений. Ему лично тюльпан всегда казался немножко холодным и слишком декоративным – ну что это за цветок, если у него нет запаха? Хармен Герритс поддакнул и застенчиво признался, что именно поэтому предпочитает гиацинты, – они так хорошо пахнут. Ему очень досадно, что он еще не понюхал их в этом году: когда он нагибается, у него начинает кружиться голова.
– Ну, вашему горю легко помочь, – отозвался художник и, прежде чем Хармен успел остановить его, нагнулся и, ухватив под корень самый крупный цветок, сорвал его. Чашечка этого гиацинта была тронута пурпуром – пасхальным цветом, цветом смерти и воскресения из мертвых. Мельник принял цветок из рук гостя, и в лицо ему повеяло чистой и в то же время пьянящей сладостью.
Теперь, когда господин ван Сваненбюрх, пожелав ему доброго утра и здоровья, медленно направился к строению, стоящему у мостика через неширокую речку, мельник мог вдоволь насладиться цветком, который держал в руках, запах которого впивал глубокими долгими глотками.
* * *
Рембрандт решил написать с сестры небольшую Богоматерь. Правда, сюжет был чисто католический и никогда особенно не привлекал его – он может хоть сейчас придумать дюжину других, которые будут ближе его страдающему и печальному сердцу. Взять, например, «Изгнание торгующих из храма» – в этой картине так легко дать выход гневу, который вызван долгим молчанием Хейгенса и предпочтением, отданным Ливенсу. В «Иакове, благословляющем детей» он выразил бы то возвышенное и мрачное чувство покоя, которое подчас охватывает его, когда они с отцом, не глядя друг на друга и подняв лицо к ласковому апрельскому солнцу, сидят на крыльце и молчат. В наброске к «Тайной вечере» он уже попытался передать согласие в семье – ощущение того, что воля и стремление каждого из домочадцев отступают на задний план перед лицом общей и неотвратимой утраты, но бессмысленно начинать работу над таким большим полотном, когда он столько времени занят на мельнице. Итак, отчасти потому, что писать все равно было надо, отчасти потому, что в последнее время Лисбет казалась еще более подавленной, чем он сам, Рембрандт попросил сестру позировать ему для небольшой картины «Богоматерь с младенцем», в которой он надеялся найти применение и своему манекену.
Его удивляло, почему только он один замечает, какая перемена произошла в Лисбет. Девушка работала теперь механически, как лошадь, вращающая жернов, – не останавливаясь и почти не поднимая голову. С кем бы она ни разговаривала, даже с бедным дурачком, который пытался ухаживать за ней, лицо ее неизменно сохраняло все то же каменное выражение. Она приступала к своим обязанностям, едва успев натянуть платье и не дав себе труда умыться и причесаться. Даже равнодушное согласие позировать брат вырвал у нее только после того, как убедил девушку, что ему не написать картины, если Лисбет не оставит на время ведро и щетку и не придет в мастерскую.
Выбрать время для сеанса тоже оказалось нелегко. К четырем часам дня должен был приехать за солодом пивовар Пит Янс, один из постоянных покупателей Хармена Герритса, но, к счастью, Адриан обещал уйти из своей мастерской и присмотреть за мельницей.
Когда Лисбет пришла в назначенный час, Рембрандт был тронут: сестра немало потрудилась над собой. Она тщательно вымылась, зачесала волосы назад, чтобы они не мешали тюрбану, который, как предупредил ее брат, ей придется надеть, и лицо, не смягченное теперь рамкой свободно падающих кудрей, побледнело и посуровело. На девушке было пурпурное платье, надетое сегодня в первый раз: скроила она его еще в феврале, но так и не успела закончить до Пасхи. У Рембрандта не хватило духу набросить ей на плечи кусок голубого атласа, заранее выложенного на рабочий стол, и он утешал себя мыслью, что положит ей на колени лисий мех, оранжевые тона которого будут великолепно гармонировать с пурпуром.
– Ты сегодня замечательно выглядишь, Лисбет, – сказал он. – Вот я и напишу тебя такой, разве что прическу изменю да тюрбан добавлю. Сидеть будешь на табурете, а ноги я задрапирую тебе лисьим мехом.
Надевая тюрбан, усаживаясь и принимая позу, сестра отвечала на его непринужденные замечания лишь односложными «да» и «нет», и Рембрандт подумал, не опасается ли она, что он начнет выспрашивать ее насчет Хендрика Изакса. Сказать сестре, что он считает плотника подходящей для нее парой, художник не мог; взять на себя ответственность и посоветовать ей отказать ему тоже не хотел – лучше уж Хендрик Изакс, чем вообще никто. Он растянул на коленях сестры сухой, пахнущий мускусом мех и принес манекен – он заблаговременно велел маленькому Дау запеленать его, как ребенка.
– На, держи. Я знаю, эта штука кажется смешной, но ты все-таки постарайся не смеяться, – сказал он, кладя куклу девушке на колени.
Но не успел Рембрандт усесться на высокий стул и взять в руки сангину, как он уже понял: позу надо переменить – сестра выглядит в ней такой же безжизненной, как манекен.
– Прижми его к себе, – сказал он так, чтобы в голосе не слышалось даже намека на раздражение – последние, печальные недели научили его этому. – Можно подумать, что он у тебя вот-вот свалится на пол. Подложи ему одну руку под голову, а другой обхвати его за плечи.
Лисбет сделала то, что было велено, но поза ее не стала от этого естественней. Она сидела выпрямившись, словно застыв, никакой близости между нею и манекеном не чувствовалось, и положение ее усталых рук казалось на редкость неправдоподобным.
– Да прижми ты его к себе, понимаешь? – сказал Рембрандт и нервно рассмеялся, чтобы скрыть свое раздражение. – Вообрази себя матерью. Это, конечно, всего-навсего жалкая кукла, но предполагается, что она – твое дитя.
Девушка не шевельнулась, только слегка приподняла голову.
– Не могу, – ответила она. – Поискал бы ты лучше кого-нибудь другого.
– Вздор! Ты что, детей на руках не держала?
– Держала, но не так, как тебе хочется. Детей моих подруг я тоже не умею держать. Я, наверно, не такая, как все, нет у меня материнского чувства.
Какие страшные вещи она о себе говорит, а он даже не может ей возразить! Да, Лисбет не проявляет интереса к телятам, птенчикам, щенкам; если сестра идет на рынок и за ней увязывается какой-нибудь малыш, она не испытывает ничего, кроме раздражения… Рембрандт скомкал первый, мертворожденный набросок и подумал, как заблуждаются его родители, полагая, что дети вознаградят Лисбет за скучные годы жизни с дураком. Мужчина – вот что ей нужно; видный мужчина, вроде Яна Ливенса, – вот кто должен посеять в ней семя, иначе в груди ее не хватит молока для ребенка.
– Не наклониться ли тебе чуть-чуть? Может быть, если ты наклонишься и будешь смотреть на него… – попросил он.
Девушка наклонилась вперед, но без той заботы и нежности, о которых думал Рембрандт: она просто согнула спину, словно ей на плечи взвалили тяжелый мешок. Избегая его взгляда – несомненно, потому, что он уклонился от разговора об отсутствии у нее материнских чувств, – она с безразличным видом уставилась себе под ноги. А он не хочет раздражать сестру, напротив, он будет рад хоть немного утешить ее, убедить в том, что она нужна, – даже если для этого ему придется и дальше портить один лист бумаги за другим.
– Знаешь, Киска, я очень беспокоюсь за тебя, – сказал он и тут же подумал, как прискорбно не соответствует это старое прозвище нынешнему облику Лисбет, который давно утратил былую мягкость.
– Беспокоишься за меня? Почему?
Он не смог ответить: «Потому что ты как-никак была красива, а теперь твоя красота увяла, и жизнь, которая тебе предстоит, вряд ли стоит того, чтобы жить». Вместо этого, с преувеличенным вниманием разглядывая свой бесполезный рисунок, Рембрандт сказал:
– Потому что у тебя такой утомленный вид – ты слишком много работаешь.
– Много работаю? Да это же мое счастье. Не работай я столько, меня пришлось бы засадить в сумасшедший дом. Отними у меня метлу и щетку, и я, вероятней всего, рехнусь.
– Из-за отца?
Рембрандт увидел, как судорожно передернулось белое апатичное лицо сестры, и подумал, что она, пожалуй, любит отца еще нежнее, чем он, – у нее ведь такая пустая одинокая жизнь.
– Отчасти из-за отца, отчасти по другим причинам, – вяло ответила она. – Но не стоит об этом.
– Если я могу чем-нибудь помочь тебе, Лисбет, я, конечно…
– Хорошо. Будешь выносить помои после ужина? Ведро слишком тяжело для меня: поднимаю – спина трещит.
– Разумеется, буду, и с радостью. Напоминай мне, а то я могу забыть.
Даже этот жалкий знак внимания Лисбет приняла с признательностью: Рембрандт со стыдом и раскаянием заметил, что сестра смотрит на него глазами, полными нежности.
– Только ты не думай: я совсем не хочу взваливать на тебя лишние тяготы, – сказала она. – Видит Бог, их у тебя и без того хватает.
У Рембрандта отлегло от сердца, так отлегло, что он без сожаления скомкал и выбросил еще один лист бумаги: он таки ушел от тяжелого разговора о душевных переживаниях сестры, да еще не утратил при этом ее расположения.
– Давай посмотрим, нельзя ли усадить тебя чуть-чуть иначе, – весело бросил он и, подойдя к сестре, шутливо потрепал ее по колену, взял за подбородок и изменил наклон головы. На этот раз поза получилась более естественной, и, по мере того как Рембрандт добавлял к наброску все новые и новые штрихи, он все больше преисполнялся радостью, которую неизменно испытывал, с головой уходя в работу. И когда сестра опять переменила позу, он даже не понял сперва, почему она это сделала, – ведь на лейденских часах пробило четыре всего минут десять назад. Но затем Рембрандт обернулся и увидел, что в дверях с торопливым и озабоченным видом появился Адриан, весь покрытый мелкой серой пылью от сухого солода.
– Я ищу мешки. Они у тебя тут не завалялись? – спросил брат.
– По-моему, нет.
– А я думал, они здесь. Помнится, я однажды видел один мешок у ван Флита – он надевал его себе на плечи.
– Но это же было так давно.
– Мне надо бы штук пять-шесть…
– Мы действительно брали несколько мешков в самом начале зимы… – Рембрандту и в голову не приходило сомневаться в своем праве распорядиться несколькими пустыми мешками; тем не менее, встретив влажный взгляд Адриана, он почувствовал себя несколько виноватым. – Но взяли мы, насколько помнится, штук пять, не больше. Вероятно, изорвали их на тряпки, чтобы вытирать кисти. Так что здесь не ищи – их давно уж нет.
– Жаль… Значит, кому-нибудь придется сбегать за ними в лавку. Хендрик Изакс, наверно, не зайдет до ужина?
Слова Адриана прозвучали упреком Лисбет: он, как и родители, считал, что такого безотказного работника надо каждый вечер приглашать к ужину.
– Сегодня его не будет. Он был у нас вчера и теперь придет только завтра. Мне время от времени тоже нужен свободный вечер, чтобы починить платье и помыться, – отозвалась девушка.
– Да я же ничего не сказал. Просто вижу, ты принарядилась, вот и решил, что ты ждешь гостей.
– Она надела новое платье, потому что я попросил ее позировать. Как только я кончу рисовать, я сбегаю куплю мешки и принесу их тебе на мельницу, – вмешался Рембрандт.
– А когда ты рассчитываешь кончить?
– Как я сказал тебе вчера – в пять.
– В пять будет уже поздно: приехал Пит Янс с телегой, а нам ее недогрузить – не хватает полдюжины мешков. Просить его подождать, пока ты кончишь свой рисунок, я не могу. Я бы сходил сам, но тогда мне сначала надо помыться – я весь в пыли и не хочу, чтобы мои заказчики встречали меня в таком виде.
Рембрандт повернулся и положил рисунок на рабочий стол, стоявший позади него.
– Никак не возьму в толк, почему у нас каждый пустяк превращается в целое событие, – сказал он. – Разве ты не знал, что мешки кончаются? Почему же ты ждал до последней минуты, а не сказал мне раньше?
– Ты торчишь здесь целыми днями, а я прибежал сюда всего несколько часов тому назад, бросив мастерскую в полном беспорядке. Ты не хуже, чем я, знал, что приедет Пит Янс; значит, тебе и следовало обо всем подумать.
– Но он же был занят весь день, – возразила несчастная Лисбет, инстинктивно закрывая руками манекен, чтобы Адриан не увидел, какими нелепыми вещами занимается Рембрандт. – У него совсем не остается времени на свою работу. Вот он и рассчитывал на сегодняшний вечер.
– А у меня остается? – сказал Адриан, и слушать его было страшно: за последние два месяца он еще ни разу не возвышал голос так, чтобы это сразу поставило под угрозу с трудом достигнутое согласие в семье. – У меня есть жена, но я ее не вижу. Для меня варят еду, а у меня нет ни времени, ни охоты есть ее. Мой подмастерье надувает меня, ученики уходят домой, когда им вздумается, а я ничего не могу поделать. Мое дело идет прахом, и никого это не беспокоит. У меня теперь одна забота – мельница. А ты тут прохлаждаешься да еще спрашиваешь, почему это я не заметил, что мешки кончаются. Мне же, видит Бог, кажется, что ты и сам мог бы позаботиться о такой мелочи, – ты ведь с утра до вечера только и знаешь, что малевать.
– С утра до вечера? Хорошо бы, если б так! Прежде чем я доберусь до мастерской, я чуть ли не целый день пропадаю на мельнице, слежу за солодом, трачу лучшие часы на то, чтобы выбирать проросшие стебли. Не успею я расставить мольберт, как мать зовет меня – надо вынести корыто. Только я вернусь и приготовлю палитру, как Геррит уже кричит, чтобы я подал ему таз. У меня не остается для себя ни часа, и работаю я на мельнице не меньше твоего.
– А за мешками все равно идти надо.
– Я уже сказал: схожу, как только кончу. И оттого, что ты будешь стоять здесь и орать на меня, я быстрей не управлюсь.
– Не трудись: когда ты кончишь, будет уже слишком поздно. Я просто скажу Питу, что у нас нет мешков. Пусть добирает остальное где угодно. Если тебе все равно, то и мне тоже. Какое мне дело до мельницы? Почему я должен беспокоиться о ней больше, чем ты? Пусть покупатели уходят и не возвращаются. Отец, правда, так не поступал, но он больше не ведет дело, а я, видит Бог, не в силах вести его в одиночку.
И с лицом, искаженным от злобы, Адриан вышел, хлопнув дверью. Побежать за ним, попросить не сердиться, сказать, что его поручение будет выполнено? Нет, это уж слишком. Снова взяться за бумагу и карандаш и закончить рисунок? Тоже немыслимо.
– Да ты не слушай его, – сказала Лисбет, силясь принять прежнюю позу. – Пит Янс вернется. Он с нами не порвет – мы поставляем ему солод вот уже пятнадцать лет.
Если соленая, разъедающая глаза влага, словно облако, заслонила от Рембрандта рисунок, то произошло это не потому, что он боялся потерять такого покупателя, как Пит Янс, и, что еще хуже, испортить в его глазах репутацию их мельницы после пятнадцати лет взаимного доверия и удовлетворения. Нет, это произошло потому, что нарушилось согласие в семье, которое они с такой беспредельной нежностью установили ради умирающего; злобное самовольство и грубое себялюбие опять вырвались из-под спуда и осквернили их мирный дом. Конечно, отец не узнает про ссору: Адриан – не ябедник и при отце будет вести себя так, словно ничего не случилось. Но что-то все же случилось, что-то исказило лицо брата и вызвало у него самого слезы, которые приходится теперь отирать тыльной стороной руки.
– Не плачь, – сказала Лисбет и всхлипнула. – Это ведь только мешки. Стоит ли из-за них плакать? Может, мне лучше уйти, чтобы ты побыл один?
– Нет, нет, еще минута, и я опять смогу взяться за рисунок. Не шевелись, Киска, – поза очень удачная.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































