Читать книгу "Рембрандт"
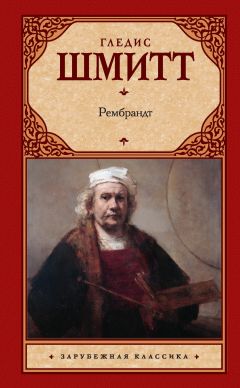
Автор книги: Гледис Шмитт
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Думать об этом не хотелось – от каждой такой мысли начинает бить лихорадка, а в мастерской и без того нестерпимо холодно. Рембрандт положил на стол папку с «Нищими», раскрыл ее и добавил туда два удачных рисунка Ливенса и один рисунок Дау, напоминавший ему работы Алларта. Только у Дау больше жизни, больше выдумки… Рембрандт вздрогнул. Когда же наконец вернется Ливенс с вином?
Любимую картину Ливенса «Человек в берете» вытащить трудно, да она и не стоит того, чтобы тратить на нее силы. Она огромна: единственная фигура на ней сделана в натуральную величину, а огонь, перед которым сидит этот человек в берете, кажется форменным пожаром. Она внушает Рембрандту отвращение, отчасти объясняющееся тем, что он сам ответствен за ее возникновение: полотно явилось итогом его и Яна опытов над различными способами передачи света, но их совместные открытия были использованы здесь так замысловато и вульгарно, что он не может без стыда смотреть на эту вещь. Но коль скоро Ян так гордится ею, Рембрандт поставит ее у стены, так чтобы на нее падал свет двух ламп. Почем знать, что собой представляет Хейгенс? Если он осел, то, быть может, и попадется на эту нехитрую уловку.
«Валаама и ангела» и «Святого Петра в темнице» вместе с несколькими полотнами Яна на библейские темы и картиной Дау «Мальчик, катающий обруч» Рембрандт тоже разместил вдоль стены – там они будут достаточно освещены. Маленькие портреты он разложил на полу, хотя и был совершенно уверен, что они не понравятся посетителю; но он просто обязан их показать, раз обещал это отцу. Кстати, старик очень плохо сегодня выглядел: бледный, слабый, словно внезапно состарившийся.
Помещение казалось отталкивающе неприглядным в своей наготе: то, что Рембрандт привык считать аскетической строгостью, будет, без сомнения, сочтено самой жалкой нищетой. Взяв одну из ламп, художник прошел в дальний угол сарая и отдернул грязную холщовую занавеску. За ней помимо целой кучи картин стоял сундук, доверху набитый его сокровищами – шелками, атласом, ожерельями, оружием, бусами, нагрудными цепями, перьями, на которые он тратил почти весь свой скудный заработок. Удавалось ему что-нибудь продать в Амстердаме или нет, он все равно не мог вернуться домой с пустыми руками. И теперь, глядя на груду этих предметов, он заставил себя сделать то, чего обычно избегал, – приблизительно подсчитать их общую стоимость. Он покупал эти вещи по отдельности, и каждая из них обошлась ему немногим дороже кружки пива, в которой он себе отказывал; но, взятые вместе, они стоили столько, что на вырученные за них деньги отец мог бы в разгар сезона принанять работника.
«Ладно, – подумал он, вытаскивая из сундука кусок пурпурного бархата, страусовое перо и старый шлем с насечкой, – что бы ни купил его милость Хейгенс, – чего он, вероятно, не сделает, – вся выручка пойдет в семейный котел». И, облегчив душу таким добродетельным решением, Рембрандт приступил к украшению мастерской. Бархатом он задрапировал пустой мольберт Ливенса; шлем повесил на крюк, торчавший в стене; перо сунул в кружку, где держал рисовальные перья и кисти. В ней по-прежнему стояли две китайские кисти: подарок Алларта сохранился куда лучше, чем камзол цвета сливы.
Камзол проносился на локтях, стал короток и узок, но другой одежды у Рембрандта сегодня не было. Пусть жеманные щеголи, приезжающие сюда из Гааги в бархатных плащах на беличьем меху, думают о нем что угодно, решил он и услышал долгожданный стук в дверь.
Рембрандт удивился: сначала тому, что в стуке он не уловил дерзкой самоуверенности; затем тому, что человек, появившийся на заснеженном пороге, оказался таким стройным и хрупким. Он почему-то представлял себе секретаря принца таким же высоким, массивным мужчиной, как сам Фредерик-Генрих, а теперь ему пришлось опустить глаза, чтобы встретить влажный взгляд незнакомца – гость был на целый дюйм ниже художника.
– Господин ван Рейн? – учтиво осведомился посетитель. Такая манера обращения уже сама по себе обезоружила: как известно, нет пророка в своем отечестве, и здесь, в провинции, художник был для всех не «господином ван Рейном», а просто «Рембрандтом Харменсом», и это доморощенное имя уравнивало его с земляками.
– Да, это я. А вы, как я вижу, его превосходительство Константейн Хейгенс? Входите, пожалуйста, хотя здесь, к сожалению, еще холоднее, чем на улице.
Но вот что еще удивительнее: маленький господин ничего не ответил. Этот человек в дорогом, но строгом черном камзоле с простыми белыми брыжами быстро прошел мимо Рембрандта и, как мотылек, привлеченный светом, направился прямо к «Иуде».
– Боже правый, неужели это ваше? Вы, в ваши годы, сумели написать такое? – воскликнул он.
Рембрандт молчал, полуоткрыв рот, и надежда словно царапалась ногтями о железную броню, в которую он заключил свое сердце. Из горла посетителя вырвался странный одобрительный звук, похожий на воркование голубя, непонятный и в то же время настолько волнующий, что Рембрандт не устоял. Ему показалось, что у него в груди лопаются стальные обручи, губы его задрожали и к глазам подступили слезы.
– Да, это мой «Иуда». Я только вчера закончил его. Мне и самому казалось, что он удался, – выдавил он наконец.
А дальше он услышал такое, о чем больше не позволял себе даже мечтать, – свои собственные мысли, прочитанные другим человеком и изложенные в словах, которые он сам тщетно пытался найти. Гость заметил и точно, доподлинно, неоспоримо объяснил все, начиная от мук Иуды и кончая чистотой синего цвета на одеянии храмового служителя и особой манерой, в которой был передан каждый из тридцати маленьких кусочков серебра. Рембрандт стоял за спиной гостя и не шевелился, боясь, что первый же его шаг прервет течение этого потока, который возвращал его к жизни. И он чувствовал: если говорящий не поворачивается к нему, то лишь потому, что стыдится показать малознакомому человеку свое восхищенное лицо.
Как бы то ни было, долго так тянуться не могло. Если бы его превосходительство Хейгенс отвернулся от мольберта, пока в мастерской не было никого, кроме него и Рембрандта, единственным возможным – хоть и немыслимым – заключением его восторженной речи стало бы объятие. Поэтому оказалось, пожалуй, даже к лучшему, что Ян Ливенс ввалился в сарай в ту минуту, когда гость еще адресовал свои великолепно отточенные фразы не столько самому художнику, сколько его картине. Да, пожалуй, это было к лучшему, хотя Рембрандт в это мгновение чуть не стукнул кулаком по стене от бессильной ярости.
Голос смолк, незримая нить, как бы связывавшая гостя с картиной, прервалась, его превосходительство Хейгенс обернулся и снова – если не считать застенчивой улыбки – с ног до головы стал царедворцем, явившимся сюда с официальным визитом.
– Это ваш друг, господин ван Рейн? – осведомился он, приветливо глядя на Ливенса, который закрывал дверь задом, так как в одной руке держал бутылку вина, а в другой – пакет с угрями.
– Это мой сотоварищ-художник, ваша милость. Его зовут Ян Ливенс. Он работает здесь со мною уже пять лет.
– Но почему именно здесь? – спросил посетитель. Невзирая на холод, он явно не собирался уходить, потому что небрежно сбросил плащ, положил касторовую шляпу и перчатки на рабочий стол и сам опустился на один из табуретов. – Зачем вы хороните себя в такой глуши? Правда, пребывание в вашем городе доставило мне большое удовольствие, но если, конечно, я не заблуждаюсь, Лейден – самое неудачное место в мире для художника.
– Вы более чем правы, ваше превосходительство, – подхватил Ян Ливенс, жестикулируя большими белыми руками – он уже успел примостить на столе свои покупки. – Здесь надо жить богословам, адвокатам, врачам: для таких в Лейдене солнце никогда не заходит. Вы легко себе представите, что это за город, если я скажу вам, что художник, создавший подобное полотно… – Ян указал рукой на «Крещение евнуха», и Рембрандту показалось, что театральность жеста ложится грязным пятном на его картину, – годами не находит себе ни покровителя, ни заказчиков и вынужден работать в таком вот помещении. Все, что вы видите вон там, у стены, – в числе картин, на которые указывал Ливенс, был и «Человек в берете», – сделано в самых плачевных условиях: сарай не отапливается, освещение отвратительное.
Гость, учтиво и внимательно следивший за Ливенсом, пока тот говорил, вновь перевел глаза на Рембрандта. Они были у него большие, яркие, и в них еще жили отблески недавней очарованности.
– Если все, что сказал господин Ливенс, правда, а у меня нет оснований сомневаться в этом, то я еще больше недоумеваю, почему вы остаетесь здесь, – сказал он.
Как ответить? Может ли человек сказать про себя: «Я спрятался здесь после проигранного сражения, словно пес, который заползает под сваи дома, чтобы зализывать там свои раны»?
– Лейден – мой родной город. Мы с Ливенсом попробовали работать в Амстердаме, но у нас ничего не вышло, и мы вернулись домой.
– Но как бы вы ни были привязаны к семье и родному городу, вам все равно придется со временем покинуть их и устроиться где-нибудь в другом месте.
– Вероятно, я так и сделаю, ваше превосходительство. Хотя удастся мне это еще не скоро.
– На вашем месте я сделал бы это немедленно. Судя по тому, что я увидел здесь, вы давным-давно могли уехать отсюда. Если же вы питаете сомнения в своем праве занять подобающее место среди художников, то подобные опасения просто нелепы. Ваш маленький «Иуда» – работа подлинного мастера. Де Кейзер, Элиас, Йорданс – да кто угодно не постыдился бы поставить свою подпись под такой картиной. Ее с руками оторвут на любом аукционе в Гааге или Амстердаме.
– Да, ваша милость, но лишь при условии, что в нижнем ее углу будет стоять имя Йорданса, Элиаса или де Кейзера, – вставил Ливенс голосом, в котором звучала благородная грусть. – Картины покупаются ради имени автора, а разве может составить себе имя бедняк, прозябающий в Лейдене, пусть даже он великолепный художник? Мой друг и наставник, присутствующий здесь, возил свои работы в Амстердам и был даже настолько любезен, что захватил с собой несколько моих. Они, конечно, не идут ни в какое сравнение с его вещами, и я первый готов признать это, хотя написаны они в том же духе – мы с Рембрандтом горим одним огнем. Но кто купит полотна никому не известных людей? Картины, не уступающие тем, которые вы видите здесь, достались мелким перекупщикам и притом по цене, едва покрывшей нам расходы на холст, краски и рамы.
Не в силах поднять глаза на Ливенса, Рембрандт смотрел на длинную жестикулирующую тень, которая металась по полу среди теней, отбрасываемых мольбертами. Он стыдился того, что́ говорит Ян, – в его речи не было ни одного неприкрашенного, до конца правдивого слова. К тому же, пуская в ход свой звучный голос и белые руки, он явно пытался сыграть на чувствах Хейгенса, а тот, несомненно, стоит выше корыстных расчетов – Рембрандт еще не забыл, как сановник подошел прямо к «Иуде» и из горла у него вырвался тихий одобрительный звук.
– Полно, Ян! Наши дела совсем не так плохи, как ты утверждаешь, – возразил он.
– Три флорина за твоего «Философа», пять за твою великолепную «Суету сует», где так превосходно выписаны череп, песочные часы и книги. Четыре – за моего «Ганимеда», три за моего «Апостола Павла в Афинах». Ну, посудите сами, ваша милость, достаточная ли это цена? Довольно ли этого за такие картины?
Рембрандт не поднимал глаз: Ян Ливенс стирал пыльцу с крыльев мотылька, хватал руками и осквернял то, что не выдерживает грубого прикосновения. По-прежнему уставившись себе под ноги, художник заметил, как его милость Хейгенс слегка покачал головой, уклончиво выражая свое несогласие.
– Никто из мало-мальски влиятельных людей не купит наши картины, – продолжал неугомонный Ливенс. – Те же, кто их все-таки покупает, не в состоянии дать приличную цену.
– Ну, в этом смысле мы вам поможем, – сказал посетитель, вставая с табурета. – Я – человек, пользующийся кое-каким влиянием, а как коллекционер составил себе известное имя и в Гааге, и в Амстердаме. Я буду покупать ваши картины и начну с «Иуды». Я готов предложить вам за него сто флоринов, господин ван Рейн.
Сто флоринов? Даже давая волю самым смелым своим мечтам, он не позволял себе думать, что его годовой заработок достигнет когда-нибудь этой суммы. Имея сто флоринов в кармане, можно прорубить крышу, застеклить ее и с утра до вечера наслаждаться светом, обильным светом. Имея сто флоринов, можно перестать скаредничать, можно даже купить несколько картин. Но он не охотник за флоринами, не стяжатель, не Ливенс.
– Сто флоринов – это слишком много, ваша милость, – сказал он.
– За то, что я получу, – отнюдь. – Хейгенс еще раз подошел к картине, наклонился над ней и с любовной осторожностью потрогал край подрамника. – Она уже просохла, не правда ли? Тогда я увезу ее с собой. У меня свой рамочный мастер, который сумеет воздать ей должное. Деньги у меня при себе – я рассчитывал найти здесь что-нибудь стоящее, но, конечно, не ожидал ничего подобного, никак не ожидал.
Он подошел к столу, вынул из-за пояса кошель с золотом и стал отсчитывать условленную сумму. Рембрандт испугался: расчет мог превратиться в унижение. Он помнил, какого стыда стоили ему несравнимо меньшие деньги, полученные от прежних покупателей. Одни вручали ему их с оскорбительной торжественностью, другие – с явной неохотой, по два, по три раза пересчитывая то, что раньше принадлежало им, а теперь переходило в чужие руки. Однако его милость Константейн Хейгенс не делал ничего подобного – он просто платил, и когда последняя монета легла на стол, он отодвинул кучку денег подальше от света, в покачивающуюся тень страусового пера.
– А что вы мне покажете еще? Я расположен покупать, – объявил он.
Хейгенс сказал правду. Он выложил на стол кучку флоринов за папку с «Нищими», даже не посмотрев гравюры – он видел их в мастерской господина ван Сваненбюрха и уже один раз выглядел достаточно глупо, восторгаясь ими. Он купил также за пять флоринов более крупный и тщательно отделанный рисунок Ливенса – вероятно, просто из вежливости, подумал Рембрандт: что-то уж слишком неоригинальными были замечания гостя о рисунке. И тем не менее до чего приятно видеть человека, который, не задумываясь, тратит пять флоринов только для того, чтобы оказать любезность молодому человеку! Умиротворенный нежданным заработком, Ян, отбросив трагическую маску и напыщенность, подал вино и угрей. Стоя у стола, все трое ели, пили и беседовали с такой непринужденностью, словно были людьми равного положения, случайно встретившимися в трактире. Хотя дыхание их тут же превращалось в пар, застилавший лица, а маленький сановник часто вздрагивал и потирал руки, он явно не торопился уходить; напротив, он подробно расспрашивал молодых людей, где они учились, как готовят гравировальные доски, кого знают в Амстердаме и почему не стремятся поехать в Италию. И если к концу этого упоительного получасового разговора Рембрандт все-таки помрачнел, то не потому, что гость стал менее сердечен, внимателен и оживлен, чем вначале; нет, он просто внезапно понял, что не потратит полученные деньги на верхний свет, картины и свои личные потребности, а целиком отдаст их на нужды семьи: он стал бы презирать себя, если бы утаил от родных хоть малую толику щедрот его милости Хейгенса на том лишь основании, что щедроты эти оказались неожиданно большими.
В конце концов Ливенс вынудил собеседников перейти от стола к стене, где были выставлены остальные полотна. У него имелись на то свои причины: как тепло и сочувственно ни отнесся сановник к художникам, он пока что удостоил «Человека в берете» лишь самого поверхностного осмотра. Глянув через плечо его превосходительства на свои собственные картины, Рембрандт пожалел, что не спрятал их за занавеску вместе с «Валаамом и ангелом». Ни одна из них не шла ни в какое сравнение с маленьким «Иудой», и его так и подмывало заявить, что он отрекается от своих прежних работ, что он вот уже много месяцев как отвернулся от них и подобного им.
– Эти две вещи сделаны, вероятно, под влиянием Питера Ластмана, – сказал посетитель. – Я, разумеется, знаком с его работами – одно время на них была в Амстердаме большая мода.
– Вы правы, ваше превосходительство.
– Но вам так же мало нужно подражать ему, как и прятаться в глуши, да простится мне такое выражение. Следуйте путем, который привел вас к «Иуде». «Иуда» – вот что вам надо. Ну-с, а эта большая картина, «Человек в берете», видимо, принадлежит вам, господин Ливенс?
– Да, ее писал он. Но в таком положении вы не оцените ее по достоинству – мешают дисгармонирующие цвета по сторонам, – отозвался Рембрандт и, сделав шаг вперед, повернул «Святого Петра» и «Евнуха» лицом к стене.
Слава Богу, гость не издал тот запомнившийся художнику горловой звук, а лишь выразительно присвистнул. Сейчас, когда картина Ливенса не соседствовала больше с другими полотнами, отвлекавшими внимание на себя, она ожила во всей своей поразительной, хотя вульгарной непосредственности: огонь, пылавший на ней, казалось, согревал зрителям пальцы; человек, читавший при свете пламени, стал как бы четвертым в их компании – вот-вот он захлопнет книгу и заговорит.
– Если она хоть немного нравится вашей милости, – сказал Ян, скромно потупясь и разглядывая свои башмаки, – то этим я целиком обязан Рембрандту. Он подсказал мне сюжет картины – она заключила собой целую серию полотен, которые мы написали, чтобы исследовать различные эффекты освещения.
Его милость Хейгенс приблизился к картине, посмотрел на нее, отступил на несколько шагов, опять присвистнул и начал оживленно комментировать подробности выполнения: замечательную игру света и тени, теплоту красных и желтых тонов, черный цвет, который на самом деле вовсе не был черным, и, наконец, мастерство, с которым господин Ливенс воспользовался черенком кисти, чтобы выписать волосы на лбу фигуры. Рембрандт почувствовал, как в сердце ему впивается зависть: отрадно, конечно, сознавать, что все радующее гостя в этой проклятой картине – причем он только хвалит и отнюдь не восхищается, – сделано Яном по его, Рембрандта, указаниям, но ведь его милость Хейгенс при этом не присутствовал.
– Обратите внимание на руку и книгу, ваша милость. Какой отличный контраст между живой плотью и сухим пергаментом, не правда ли? – заметил он.
– Верно, верно. Эта картина – нечто совершенно новое, такое, чего – с уверенностью могу сказать – еще не видели при дворе. Правда, принц Фредерик-Генрих предпочитает фламандцев… – В сухой интонации гостя прозвучало что-то слегка пренебрежительное. – Сейчас он пленен Рубенсом, и все, кто окружает его, естественно, питают те же пристрастия. Но эта картина, хоть она и написана голландцем, способна произвести впечатление на кого угодно.
Ливенс по-прежнему глядел себе под ноги, изо всех сил стараясь сохранить на лице маску скромности, но глаза его уже зажглись надеждой на славу и флорины, а губы сжались в попытке подавить улыбку.
– Мне она пригодится, безусловно, пригодится, хоть ее и нелегко увезти, – продолжал Хейгенс, касаясь кончиком тонкого пальца густого слоя краски. – Но что до цены, то уж тут я в некотором затруднении. Вещь выполнена не так тщательно, как «Иуда», впрочем, это ей и не нужно. С другой стороны, принимая во внимание размеры…
«Восьмидесяти флоринов за глаза хватит», – подумал Рембрандт.
– Цена – целиком на усмотрение вашего превосходительства, – объявил Ливенс, подняв голову и отбрасывая густые волосы с благородного белого лба. – Я достаточно вознагражден и тем, что вы пожелали купить ее.
– Устроят вас полтораста флоринов?
– Вы щедры, ваша милость, безмерно щедры.
Хейгенс вновь подошел к столу, отсчитал деньги и впервые за весь вечер замолчал – по-видимому, он хотел сказать еще что-то и подыскивал слова. Впрочем, Рембрандт был не уверен, в самом ли деле гость собирается заговорить с ним, – может быть, он это просто выдумал сам, чтобы подавить свою зависть.
– Из ваших недавних слов, господин ван Рейн, я заключил, что в Амстердаме вы знали госпожу ван Хорн, – бросил наконец Хейгенс, со щегольским наклоном надев на голову красивую касторовую шляпу.
– Да, ваша милость, хотя не могу сказать, что знал близко. Она была настолько любезна, что однажды довольно долго беседовала со мной и проявила известный интерес к моим тогдашним работам.
– И вы, разумеется, навещаете ее, бывая в Амстердаме?
– Нет, ваша милость, я ни разу не был у нее.
– Ну, это уж неразумно. Она очаровательная и в высшей степени умная женщина. Уверен, что вы не соскучились бы у нее. Кроме того, она знакома с людьми, которые могли бы помочь вам устроиться, – например, с Фонделем и фон Зандрартом, а ими, поверьте, не следует пренебрегать.
– Сомневаюсь, помнит ли она меня, – мы не виделись целых пять лет.
– Может быть, вы правы, а может быть, и нет. Сначала попробуйте, а потом говорите.
– Вряд ли я это сделаю, ваша милость.
– Вот как? – Хейгенс накинул плащ и расправил воротник под маленькой бородкой клинышком. – Ну что ж! Раз вы не хотите прибегнуть к вашим амстердамским связям, придется подумать, не смогу ли я что-нибудь сделать для вас в Гааге. А как мне получить картины? Я уезжаю завтра рано утром.
– Кто-нибудь из моих учеников доставит их вам к семи часам утра.
– Превосходно!
Натянув изящные черные перчатки, Хейгенс еще раз подошел взглянуть на «Иуду». В горле у него не возникло никаких звуков, но лицо приняло блаженное выражение.
– «Человек в берете» еще сослужит вам службу, господин Ливенс, – сказал он. – Я хочу подарить его принцу Фредерику-Генриху, чья коллекция, как известно, славится во всем мире. А маленького «Иуду», – Хейгенс еще ниже склонился над картиной, и было видно, что ему тяжело расстаться с ней даже на одну ночь, – «Иуду» я оставлю себе.
Прощаясь с гостем на пороге, в ледяном воздухе, Рембрандт почувствовал, что его начинает бить дрожь. На душе у него было холодно – не потому, конечно, что Яну перепало на полсотни больше: его собственные флорины пойдут не ему, а семье. Но когда твоя работа предназначается в подарок самому принцу – это уж дело нешуточное: хоть принц, наверно, ничего не смыслит в искусстве, он все же первый человек в стране. Впрочем, если можно похвастаться тем, что твоя картина куплена для коллекции принца, то рассказать, как секретарь вышеупомянутого принца ворковал над «Иудой», просто нельзя – это было бы святотатством. Рембрандт понял, что ему хочется невозможного – он жаждет, чтобы его милость Хейгенс поднес «Иуду» принцу и в то же время оставил картину у себя. Рембрандт долго стоял у двери – он был не в силах возвратиться в мастерскую: ведь там придется подбирать маленькие портреты, о которых они позабыли от волнения, выслушивать восторги Яна Ливенса и, скрепя сердце, открыть ему свои объятия.
* * *
Хотя Лисбет по старой привычке все еще держала сторону Рембрандта, она за последнее время мало что могла сказать в его защиту. После того как здесь побывал его превосходительство… – как, бишь, его?.. – из Гааги, который посеял в душе ее брата несбыточные надежды и оставил ему кучу флоринов, теперь давно уже истраченных, Рембрандт месяца три-четыре не слишком усердствовал в своей безрадостной работе. Он даже побывал несколько раз в Зейтбруке, стал по воскресеньям ходить в церковь и участвовать в разговорах за столом, за которым прежде лишь молча жевал пищу да глазел на стену, словно одержимый. Но весенние успехи сошли на нет летом, к осени полностью забылись, а к зиме брат стал таким же невыносимым, как и раньше, – раздражительным, злым, холодным, и Лисбет сама удивлялась, почему ее не радуют его участившиеся поездки в Амстердам.
Рембрандт, конечно, прав, что ездит туда: он берет с собой свои полотна и подчас умудряется продавать их. Ночует он там у молодого человека по имени Эйленбюрх, который торгует картинами; иногда брат отсутствует по два-три дня – вероятно, он завел себе в столице женщину. Особенно раздражается Лисбет, когда Рембрандт исчезает в середине недели, потому что по средам ей приходится терпеливо принимать нежеланного гостя – плотницкого подмастерья Хендрика Изакса, которого ее родители приваживают к дому ради самой же дочери.
В эту среду она уже надеялась было отделаться от гостя: у отца на мельнице началась рвота, он вернулся домой раньше времени, и мать послала соседского мальчика за доктором, который обещал заглянуть от шести до семи. Как ни жаль было Лисбет отца, она ухватилась за его недомогание как за предлог для того, чтобы отклонить визит молодого человека, – тогда она сможет в сумерках пойти в мастерскую и ей не придется весь вечер придумывать глупые фразы и скрашивать ими еще более глупое молчание ее поклонника.
– Послушай, мама, – сказала она, – раз у нас в доме сегодня все вверх дном, я, пожалуй, сбегаю к сестре Хендрика да скажу ей, чтобы предупредила брата – пусть не приходит. Он поймет и не обидится.
Но Нелтье, уже накрывшая стол праздничной скатертью и расставлявшая теперь парадные оловянные тарелки, объяснила дочери своим дрожащим голосом, что было бы неучтиво отказывать Хендрику за час до прихода; к тому же отец почти оправился, а когда явится доктор, всем придется сидеть внизу – семье нет никакой нужды, более того, просто не подобает торчать, открыв рот, вокруг постели больного.
Итак, гость все-таки пришел и отужинал вместе с ними, хотя Лисбет была почти уверена, что это никому не доставило удовольствия. Геррит не спустился вниз, три пустых стула придали ужину какой-то мрачный характер, а сыр, рыба и холодное блюдо из подслащенного пива с хлебом не вызвали особого аппетита ни у Лисбет, ни у матери, ни у Хендрика. И теперь, когда она перемывала посуду с помощью молчаливого гостя, – подобает это или нет, а матери пришлось-таки уйти с доктором наверх, – Лисбет казалось, что она угодила в ловушку и всеми брошена, а в голове у нее метались и не давали ей покоя мысли, такие же порывистые, как огонь, потрескивавший в очаге.
В беспокойстве девушки меньше всего был повинен Хендрик Изакс, стоявший по другую сторону медного таза, – он вытирал мокрую посуду, которую Лисбет совала в его костлявые руки с узловатыми суставами. Хотя роста парень такого, что только-только не задевает стропил кудрявой головой, он ни в ком не может вызвать беспокойства – слишком уж ничтожен. Во всей его долговязой фигуре нет ни капли смелости – он даже нарочно сутулится, словно стесняется своего тела. Шея его огрубела от частого бритья, между краями чистого, но потертого воротника ходуном ходит кадык. А карие глаза его напоминают глаза собаки: они такие заискивающие, что поневоле раздражаешься; такие добрые, что взбеситься можно.
Лисбет, не глядя, сунула ему желтую чашку; он принял ее и уставился на непочатое блюдо с рыбой, стоявшее на кухонной полке.
– Сегодня я не воздал должное замечательному ужину вашей матушки. Надеюсь, она не обиделась? – промямлил он.
– Не беспокойтесь, нет.
– Я так думаю, что мне недоставало вашего отца: когда его нет, за столом все по-другому.
Он вытирал чашку с тщательностью, доводившей девушку до белого каления.
– Он завтра встанет.
– Хорошо, если б так!
Хендрик сказал это с таким пылом, что его слова прозвучали упреком Лисбет. Они напомнили ей, что парень любит ее отца бесхитростной сыновней любовью: недаром он так охотно делает у них в доме и на мельнице всю плотницкую работу, таскает тяжелые мешки с зерном, бегает с поручениями во все концы города.
– В последнее время вид у него что-то усталый. Вы не находите?
– Еще бы! Вы же знаете, сколько он работает.
Девушка вырвала у парня чашку и с шумом поставила ее на полку. Она презирала мужчин, помогающих женщинам в кухне. Выполняя за Лисбет ее обязанности, Хендрик ставил себя в смешное положение.
– А ваш брат вернется сегодня домой?
– Представления не имею.
Ответ получился более резким, чем хотелось Лисбет, и она попыталась смягчить его натянутой улыбкой.
– С ним никогда не угадаешь: он может вернуться и сегодня, а может задержаться до субботы.
– Представляю себе, как он расстроится из-за отца.
Лисбет промолчала – она стояла и смотрела на свои руки. Раньше они были розовые, а теперь стали красными, сухими, грубыми; суставы распухли, кисти словно отекли. Та из них, что скрывалась сейчас в складках мокрого фартука, взывала об обручальном кольце – только оно могло облагородить ее натруженный, будничный вид. А рядом стоял Хендрик Изакс, плотничий подмастерье, который скоро-скоро начнет прилично зарабатывать, парень надежный, по уши влюбленный в нее, из таких, кто каждую субботу обязательно спрашивает жену, можно ли ему лечь с ней.
Прошла еще целая минута, прежде чем он снова открыл рот:
– Удивляюсь, чего он так долго. Я про доктора говорю.
Лисбет и сама удивлялась тому же, но ответить она не успела: дверь распахнулась, и вошел Рембрандт, впустив в дом холодный ветер и свежий запах февральского снега. Поздоровался он с непривычной сердечностью, что могло означать только одно – он продал картину. Он улыбнулся и, сняв с себя плащ, положил на стол пакет: несомненно, какой-нибудь хлам, который он вечно привозит из Амстердама.
– Добрый вечер, – сказал он Хендрику. – Надеюсь, вас хорошо накормили за ужином?
Но даже такой небрежной любезности оказалось достаточно, чтобы собачьи глаза плотника засветились – он ведь привык в лучшем случае рассчитывать лишь на ледяную вежливость.
– О да, очень хорошо, – отозвался он, наблюдая, как брат Лисбет развертывает пакет и вынимает оттуда кусок оливково-зеленой камки с золотой вышивкой, кинжал в кожаных ножнах, бусы из голубого стекла и квадрат огненно-красного шелка.
– Я вижу, вы сделали кое-какие покупки, Рембрандт Харменс…
– Да. Эйленбюрх продал мою маленькую картину «Бегство в Египет» удачнее, чем я рассчитывал, и я купил все это за бесценок в еврейском квартале. Камка, например, из Флоренции…
Лисбет следила за братом. Рембрандт встряхивает ткань и, поглощенный своим делом, даже не замечает, что его не встретили ни отец, ни мать.
– Видите? Тут еще заметны флорентийские лилии, вотканные в кромку.
– Очень красиво, – отозвался поклонник Лисбет, подходя к столу и послушно щупая ткань. – А зачем вам она?
– Затем, чтоб ее писать, – нетерпеливо ответил Рембрандт, выхватывая у Хендрика камку с таким видом, словно тот собирался употребить ее на какие-то другие цели. – А вот этот огненный шарф… – Рембрандт так взмахнул шелком, что ткань еще несколько секунд после этого трепетала в воздухе, – пригодится мне, когда… Постойте-ка, у вас тут что-нибудь случилось? – Он подхватил развевающийся шелк, скомкал его и беспомощно оглядел комнату: – Почему здесь так пусто? Куда все подевались?









































