Текст книги "Рембрандт"
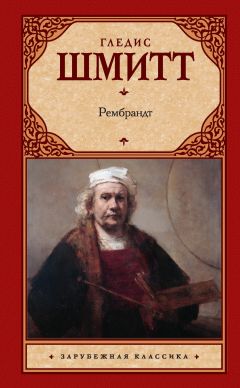
Автор книги: Гледис Шмитт
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Странное дело! Он действительно может взяться за рисунок, может передать складки ткани на опущенных плечах, новый, мягкий изгиб руки. Торопиться больше ни к чему: телега Пита Янса, недогруженная полудюжиной мешков, уже прогрохотала мимо окна. «Не стоит ли сделать из этого рисунка, – размышлял Рембрандт, – картину в натуральную величину «Отдых святого семейства на пути в Египет»? Он найдет кого-нибудь, кто будет позировать ему для Иосифа; он изобразит всю группу на открытом воздухе, под большим темным деревом – пурпур платья и рыжевато-коричневые тона меха составят великолепную гармонию с зеленым. Кожу на щеках Рембрандта, там, где на ней засохли слезы, стянуло, зато пальцы были необыкновенно подвижны, изумительно свободны. И когда за спиной у него снова открылась дверь, он поднял голову не прежде, чем закончил длинную изогнутую линию спины: наверно, вернулся Адриан и хочет извиниться; с ним придется быть помягче, а для этого надо завершить то, что уже начала рука.
Но это был не Адриан, а мать. Свет падал на нее сзади, и Рембрандт не мог разглядеть ее лицо; он видел только, что она держится рукой за дверной косяк.
– Что-нибудь надо сделать, мать? – спросил он.
– Ступай, скажи Адриану…
Она задыхалась, и в голосе ее было нечто такое, отчего он круто обернулся, а Лисбет вскочила, уронив на пол и мех и манекен.
– Что случилось, мама? – пронзительным голосом вскрикнула девушка и с протянутыми руками двинулась к матери, словно собираясь броситься ей на грудь.
Но мать оторвалась от двери и сама вытянула руки, отстраняя дочь: казалось, она только что вырвалась из последнего объятия и не хочет, чтобы ее коснулся кто-либо другой.
– Он умер, – сказала она. – Надо пойти предупредить Геррита. Отца я нашла в кухне. Он сидел, положив голову на стол. Он умер. Мой Хармен умер.
* * *
Когда покойника опустили в могилу, первая половина погожего весеннего дня, напоенного благоуханием цветов и гуденьем пчел, уже миновала. Кучу сырой земли, лежавшую на краю могилы, сбросили на гроб и прикрыли каменной плитой – временно, конечно: земля еще осядет. Соседи, друзья, старые покупатели, священник, врач отведали свежего хлеба и холодной поминальной закуски и разошлись по своим делам; тетка и дядя с детьми отправились домой в Зейтбрук – им предстоял долгий путь через дюны по берегу моря, такого ослепительного под ярким солнцем апрельского полудня. Последние тарелки были перемыты, последние остатки еды завернуты и спрятаны, и ван Рейнам осталось одно – сложа руки сидеть в гостиной, словно сегодня праздник или воскресный вечер. Но там, где должно было сидеть семь человек, сидело теперь шесть.
В комнате не было пустого стула, который мог бы притянуть к себе блуждающие взгляды: Хармен Герритс обычно не сидел, а стоял в гостиной, и об его отсутствии больше всего напоминала пергаментная карта Африки, горы и реки которой так часто исчезали за его широкими плечами и лысой головой. Теперь там стоял Адриан – не совсем на фоне карты, а чуточку сбоку; остальные – Антье, жена Адриана, мать, Лисбет, Геррит и Рембрандт – сидели, и траурная одежда придавала им чопорный вид.
– Он был хороший человек, – сказала Антье. – Даже как-то отрадно думать, что среди нас жил такой хороший человек.
– Да, да, – дрожащим голосом отозвалась мать. – А как внимательны к нам были на похоронах его заказчики!
Предупредительность покупателей всегда была предметом ее невинной гордости.
– Кстати, о заказчиках, – начал Адриан, придвинувшись поближе к карте и скрестив руки на груди. – Дела надо будет возобновить еще до конца недели. Я понимаю так: если произойдет перерыв в поставках, они, при всем их добром к нам отношении, начнут покупать солод у других.
«Еще до конца недели? Так скоро?» – думал Рембрандт. Несмотря на всю воскресную торжественность дня, сегодня была только среда; значит, если покупатели явятся в пятницу, безжалостные крылья мельницы должны завтра же опять прийти в движение. А он так измучен бессонницей, всем пережитым и долгими месяцами двойной работы, что, кажется, рукой пошевелить и то не в силах. Он думал, что этот день и вечер будут началом отдыха, пусть даже невеселого и краткого, а теперь оказывается, что отдохнуть удастся только этот день и вечер.
– А нельзя отложить дела на неделю? – спросила Лисбет. – Мне кажется, заказчики могли бы дать нам небольшую передышку.
– Да, она всем вам нужна, бедные мои детки, – вставила мать.
Адриан, устремив влажные глаза в потолок, еще обдумывал предложение, а Рембрандт уже понял: ему безразлично, когда – завтра или в следующую среду – он, как бессловесное и беспомощное животное, вновь будет прикован к жизни, которую не в силах выносить. Он выдержал последние месяцы только благодаря тому, что непрестанно убеждал себя – в один прекрасный день этой каторге придет конец. Но конец пришел лишь его отцу, ради которого он только и смирял свой дух, отуплял свой мозг. Эта перспектива казалась такой безысходной, что он забылся и дал себе волю.
– Начинайте завтра или с будущей недели – мне все равно! – с горечью воскликнул он.
Геррит уставился на него глазами, мокрыми от бессильных слез.
– Не случись со мной этого, – сказал он, пнув ногой свои костыли, – никому из вас не пришлось бы возиться с мельницей. А теперь я даже не могу разделить ваше бремя.
Адриан покачал головой:
– Дели его хоть на десятерых, все равно ничего не выйдет. Это такая работа, которую ни с кем не разделишь. В этом-то вся беда.
– Что же тогда делать? – спросила Лисбет. – Надеюсь, ты не предлагаешь продать мельницу? Мы не можем пойти на это, пока…
Девушка не кончила фразу, но недосказанные слова как бы повисли в воздухе: пока жива мать.
– Конечно, нет, – согласился башмачник. – Один из нас, – Адриан смотрел не на Рембрандта, а в потолок, – должен будет делать то же, что отец: отдавать мельнице все свое время. Если мы хотим сохранить ее, а мы обязаны ее сохранить ради Геррита и матери, одному из нас придется пожертвовать всем остальным и взять на себя полную ответственность.
Пожертвовать всем остальным? Пожертвовать живописью? Нет. Даже если ему придется порвать с семьей, прежде чем осядет земля на отцовской могиле, даже если он навсегда станет жалким трусом и собакой в глазах своих ближних – нет! Но он не смеет высказать это вслух: беспомощно, как наказанный десятилетний мальчишка, барахтаться в железных руках, сдавивших его, – вот и все, на что он сейчас способен.
– По-моему, ты на это не согласишься, Рембрандт?
– Нет. Конечно, не соглашусь.
– Я так и думал.
– Я – художник, Адриан. Я не могу отказаться от живописи.
– Отец одобрил бы тебя, Рембрандт. Он хотел, чтобы ты был художником, – сказала мать, прижала платок к губам и расплакалась.
– Ах, матушка, да не плачьте вы! – вмешалась Антье, озабоченно глядя на нее. – Адриан вовсе не сказал, что управляться с мельницей должен будет Рембрандт. Никто не требует, чтобы он и Лисбет делали больше, чем до сих пор. Напротив, теперь им станет легче.
– Да, – подхватил ее муж. – Мы с Антье вчера все обсудили. Насколько я понимаю, выход у нас один: я продаю свою башмачную мастерскую, переезжаю сюда и занимаю место отца.
Неистовая волна облегчения, взметнувшаяся в груди Рембрандта, не успела подняться высоко – ее остановила встречная волна жалости и раскаяния. Ремесло башмачника – не то что живопись, и Адриан занялся им, скрепя сердце: ему хотелось быть священником. Но работал он упорно, и мало-помалу мастерская стала предметом его искренней гордости.
– Но как же ты расстанешься со своей мастерской? Ты так любишь ее, – сказала Лисбет, теребя носовой платок. – Когда я вспоминаю, сколько труда ты положил на то, чтобы…
– Не расстраивайся, – ответил Адриан, и в голосе его зазвучала плохо скрытая злоба. – Потерь я не понесу. Дело в хорошем состоянии, и я возьму за него хорошую цену.
– Ты всегда был хорошим сыном: ты всегда думаешь сперва о других, а потом уж о себе, – вставила мать. – Видит Бог, ты заслужил право на мою признательность, а будь Хармен жив – и на отцовскую.
«Но не на их любовь, – подумал Рембрандт. – Нет, на любовь – нет».
– Так вот, раз уж мы собрались вместе, давайте обсудим положение. О Геррите мы, понятное дело, позаботимся. Что до Лисбет, то она, как я понимаю, скоро выйдет замуж…
Девушка уронила носовой платок и нагнулась за ним.
– А как только она выйдет замуж, – продолжал Адриан, глядя ей не в глаза, а в лоб, – мы с Антье переберемся сюда. Правда, мы предпочли бы сделать это сейчас же – Антье могла бы во многом помочь матери и Герриту, да и мне было бы удобней жить поближе к мельнице. Но пока что нам тут не хватит места…
– Боже мой, Адриан, неужели ты строишь свои планы на моем замужестве? – перебила его сестра с истерическим смешком, деланным и неуместным.
– Но ты ведь собираешься замуж, не так ли?
– Если ты намекаешь на Хендрика Изакса, то он еще не сделал мне предложения.
– Оно и понятно: сейчас не время. Но это только доказывает его уважение к тебе и лишний раз подтверждает, что он – хорошая партия.
«Нет, отец не стал бы разговаривать с ней вот так», – подумал Рембрандт и вслух сказал:
– Поговоришь с ней потом – сейчас Лисбет не до этого.
Но он напрасно воображал, что он вправе возражать, как равный равному, – его быстро поставили на место. Адриан холодно посмотрел на брата из-под полуопущенных век, и по губам его скользнула еле заметная усмешка.
– Я понимаю, каждый из нас удручен, – сказал он, – но, несмотря на это, мы обязаны сегодня решить все важные вопросы, а будущность Лисбет – важный вопрос. Итак, пройдет, вероятно, месяца два, прежде чем Хендрик Изакс сможет сделать предложение…
– Вот именно, – перебила Антье, бросая на мужа умоляющий взгляд. – Значит, покамест об этом и говорить не стоит – успеется.
– Рембрандт, конечно, будет и дальше заниматься живописью, как до смерти Хармена, – объявила мать голосом, дрожавшим, несмотря на всю решительность, которая была написана на ее измученном морщинистом лице.
– Я так и предполагал, – согласился Адриан. – Надеюсь, однако, что он найдет себе новых учеников, получше теперешних. Думаю, что он и впредь может пользоваться сараем как мастерской, только уж заботы о ней ему придется взять целиком на себя.
– Какие заботы? – В голосе Рембрандта зазвучала боль и ярость – он почувствовал, что с ним говорят свысока, им командуют.
– Починку крыши, например, если она потечет.
– Она не течет уже десять лет. С какой ей стати течь сейчас?
Рембрандт произнес это холодно и самоуверенно, словно надменность могла вернуть ему утраченное положение любимца семьи.
– Дай Бог, чтобы ты был прав. Такие вещи серьезно осложняют жизнь, особенно когда человек мало зарабатывает.
– Полно, Адриан! – вмешалась мать. – Рембрандт зарабатывает вполне достаточно. Мы с Харменом и не надеялись, что он будет получать столько денег. Антье, милая, мне что-то нехорошо. Дай мне глоток вина.
Пока она пила, все стояли вокруг нее, стараясь держаться так, словно ничего не произошло и семейное согласие ничем не нарушено. Только Рембрандт, терзаемый стыдом и гневом, сказал, что выйдет подышать воздухом.
Солнце прошло зенит уже больше двух часов тому назад. Рембрандт прислонился к липе, посмотрел на хрупкие стебли молодой травы, первые темные листья подорожника и внезапно понял: он сбросил с себя оковы, и сердце его переполнено сейчас чувством безмерного облегчения. Пусть свобода куплена ценой позора, но завтра он опять сможет писать, и так будет до конца дней его. И слезы, которые струились по его щекам, были одновременно слезами горя и радости: он горевал об отце и радовался тому, что, несмотря на все унижения, все-таки вырвался на свободу.
* * *
Пока лодка плыла по каналу в Амстердам, Рембрандт раз десять перечитал записку Эйленбюрха, хотя тот набросал ее в такой спешке, что художник и при десятом чтении извлек из нее не больше, чем понял с первого раза. В ней говорилось, что ван Рейну надлежит прибыть в лавку торговца картинами шестнадцатого мая, к трем часам дня: намечается важный заказ, нечто настолько крупное, что Рембрандт должен явиться в любом случае – даже если сломает себе ногу или утратит кого-либо из ближних. Эйленбюрх, разумеется, еще не знал, что отец Рембрандта умер, и художник побаивался, как бы торговец не смутился, увидев перед собой в трауре того, кому он написал такие легкомысленные слова.
Когда художник вошел в лавку, торговца там не было, но ждать пришлось недолго: услышав звяканье дверного колокольчика, ван Эйленбюрх тотчас же спустился с чердака, где хранились те из его сокровищ, которыми он не очень дорожил. Это был фрисландец, еще недостаточно долго проживший в большом городе, чтобы окончательно утратить провинциальный вид. Он отличался изяществом, хрупким телосложением, носил нарядный серый камзол, но в его свежем розоватом лице и белокурых волосах, густых и коротко остриженных, чувствовалось что-то деревенское. При виде Рембрандта его приветливые темно-синие глаза разом потеплели, но тут же затуманились – он увидел, что художник одет в черное.
– Боже правый, что случилось? Ваш отец? А тут еще моя нелепая записка! Но вы, надеюсь, понимаете, что я ничего не знал? – всполошился он.
Рембрандт нарочито ровным голосом вкратце рассказал ему о прискорбном событии. Отношения у них с Эйленбюрхом были теплые, но не дружеские. Кроме того, Эйленбюрх при всей своей провинциальности происходил из знатной фрисландской семьи. Дядя его был рядом с принцем Оранским в ту минуту, когда пуля убийцы поразила штатгальтера; его двоюродные братья занимали видные духовные должности и кафедры в двух университетах; сам он держался с той же напускной простотой и непринужденностью, что и ван Хорны.
– Поверите ли, мне все кажется, что мы с вашим отцом были знакомы, – я ведь держал в руках несколько офортов, сделанных вами с него. Я очень сожалею о его кончине и прошу принять искренние мои соболезнования, – сказал он.
Эйленбюрх явно не знал, как начать разговор о заказе. Слишком развитое чувство приличия увело его на такой окольный путь, как разглагольствования о здоровье матушки Рембрандта, о внезапно наступившей жаре и португальских евреях, усиленно селившихся по соседству с лавкой.
– Кстати, – заметил он, – я только что собирался сходить к одному из них и призанять бутылку вина. Они прекрасные соседи и держат отменные вина. Скоро явится доктор Тюльп, и, я надеюсь, у нас будет что́ спрыснуть. – Эйленбюрх взглянул на затейливо украшенные, но некрасивые часы, продававшиеся за пятнадцать флоринов: – Он придет самое позднее через полчаса.
– Доктор Тюльп?
Так, значит, это всего-навсего хирург, с которым он беседовал у ван Хорнов… Рембрандт почувствовал разочарование и понял, что все время ожидал услышать имя Константейна Хейгенса.
– Да, Тюльп, и я обещал ничего вам не рассказывать до его прихода. Сбегаю-ка я лучше за вином: оставшись здесь, я непременно проболтаюсь, а он просил меня подождать с этим, пока не будут улажены некоторые неизбежные формальности. Словом, мне кажется, что он хочет сам рассказать обо всем.
С этими словами Эйленбюрх исчез, а гость его дал выход своему волнению, принявшись разглядывать инкрустированную рукоять восточного ятагана. Теперь, когда Рембрандт узнал, что в дело замешан доктор Тюльп, воспоминание об именинах Алларта разом отравило все его затаенные мечты о славе. Он и теперь остался тем, чем был тогда, – неотесанным лейденцем без родственников, занимающих церковные или университетские кафедры, грубым парнем, чья мастерская – сарай, а ученики – предмет всеобщих насмешек. Изменился он только в одном – он стал хозяином своей кисти, волшебником света и тени, но это, увы, никого не интересует; он, правда, пишет теперь что хочет и обрел благодаря этому власть над целым великолепным миром, но власть эта призрачна, а мир существует только в его мечтах. И, окончательно преисполнясь смятения и горечи, Рембрандт стал гладить затейливо инкрустированную рукоять кривой сабли, жадно ощупывая каждый кусочек слоновой кости и перламутра.
Из раздумий его вывело звяканье дверного колокольчика. Но это был не Эйленбюрх – это был доктор, заметно постаревший за шесть лет. К удивлению Рембрандта, Тюльп радостно шагнул к нему и без всяких околичностей заключил его в объятия.
– Ваша карьера обеспечена, мой мальчик! – воскликнул наконец врач, слегка отстраняя художника. – Отныне весь мир в ваших руках.
И тут выяснилось нечто невероятное и в то же время безоговорочное и несомненное. Рембрандту предстоит сделать то, чего в его годы не делал еще ни один амстердамский художник, – написать групповой портрет для гильдии хирургов, одно из тех больших официальных полотен, которыми славится город, которые создали имя Николасу Элиасу и Томасу де Кейзеру, вещь, которая приведет к Рембрандту толпы бюргеров, жаждущих заказать ему свои портреты, а для начала сама будет превосходно оплачена. Картину заказывает гильдия хирургов, и вывешена она будет в зале собраний. Да, такой заказ не часто делают безвестному художнику, и коллег было нелегко убедить: они почти не знают работ Рембрандта ван Рейна, если не считать кое-каких вещиц, написанных им много лет назад. Впрочем, доктор Тюльп не склонен ломать комедию, утверждая, что у его коллег-врачей вкус не хуже, чем у него самого. Просто он – глава гильдии и может навязать другим свою волю, когда речь идет о том, чтобы защитить нечто, выходящее за рамки обыденного; вот он и навязал ее. Нет, нет, упрекать его потом никто не станет: теперь, когда врачи все-таки решились на этот шаг, они поздравляют друг друга с такой смелостью и хвастаются тем, что сделали ставку на новое имя.
– Надеюсь, вас не тошнит при виде трупов? Вам ведь придется писать меня во время вскрытия, а семь моих коллег будут стоять вокруг и восхищаться моим талантом. Лицо у меня, конечно, не Бог весть какая находка для художника, но найти пару рук лучше, чем мои, далеко не просто.
Тюльп вытянул руки. На солнце они действительно были великолепны – белые, как слоновая кость, сильные, с тщательно отделанными ногтями; но Рембрандту было сейчас не до них, ибо думал он лишь об одном – о том, что вырвался наконец из-под власти Адриана.
– Известно ли вам, почему эти вещи так хорошо оплачиваются? – продолжал врач. – Каждый, кто будет изображен на картине, заранее вносит свою долю, а я уж присмотрю за тем, чтобы никто не поскупился, воспользовавшись тем, что вы – новичок. Мне хочется, чтобы у вас получилось нечто получше обычных полотен такого рода. Скажем, «Урок анатомии доктора Экберта», написанный Артом Питерсом, безусловно, неплох, но врачи выглядят у него еще более мертвыми, чем сам труп; к тому же там слишком много лиц, повернутых в одну сторону, слишком много лысых голов, слишком много брыжей. У вас будет больше свободы, потому что нас всего восемь, причем ни один не разбирается в живописи настолько, чтобы оспаривать ваше мнение.
Но тут вернулся Эйленбюрх, и Тюльп умолк.
– Вы уже сказали ему? Все улажено? – осведомился торговец, ставя оплетенную паутиной бутылку на прилавок, загроможденный множеством других предметов.
– Все улажено, – ответил доктор и в первый раз после прихода сюда присел на один из трехногих табуретов. – Приступим к формальностям.
Рембрандт тоже сел, несмотря на то что ему хотелось двигаться, расхаживать по комнате, жестикулировать. Он уже плохо слышал, о чем говорят остальные двое, хотя беседовали они о предстоящей ему великолепной сделке. Эйленбюрх, взявший на себя роль комиссионера, рассуждал о сумме, контракте и сроках с напыщенностью, которая сильно смахивала на неуверенность – он никогда еще не вел такой сложной и грандиозной операции.
– Я немедленно подниму цены на остальные ваши картины, Рембрандт, – объявил он, – а вы сразу же везите мне все, что есть у вас в мастерской. Как только в городе узнают о заказе, коллекционеры валом повалят сюда, и нам грешно упускать такую возможность. Если вам угодно получить небольшой аванс, я буду рад открыть вам кредит – ну, скажем, на тысячу флоринов.
– На тысячу флоринов?
Огромность суммы испугала Рембрандта.
– Нет, не надо, – отказался он. – Но одну вещь я хотел бы взять у вас в долг. Вот этот ятаган.
– Он – ваш. Считайте его подарком от меня. Нет, нет, я вполне серьезно. Сегодня великий день не только для вас, но и для меня: в конце концов, ваши картины продаю я. Но что у вас есть дома? Сколько готовых полотен?
Раз уж Рембрандту так повезло, он просто обязан поступать благородно; поэтому он не станет продавать ни «Валаама и ангела», ни «Святого Петра в темнице».
– Я работаю над картиной «Отдых на пути в Египет». Закончу примерно через неделю.
– Чем скорее я получу ее, тем лучше. Только не подумайте, что я тороплю вас, – я помню, какое у вас горе.
Врач, который рассеянно играл лежавшей на прилавке шляпой Рембрандта, отшатнулся: он впервые заметил траурную ленту на тулье.
– Боже мой, ослеп я, что ли? – воскликнул он. – Кто у вас умер?
– Отец.
– Он, кажется, был мельник?
– Да, молол солод.
Эйленбюрх нагнулся и поправил пряжку на башмаке.
– А вот мой был крестьянином, – сказал врач. – Со временем ему удалось заработать кучу денег, но он никогда не боялся испачкать руки работой. Часть этих денег ушла на мое ученье. Наверно, так же поступил и ваш отец, иначе вы никогда не попали бы к Ластману. Он гордился бы вами, если бы знал, что сегодня здесь произошло, упокой, Господи, душу его!
– Упокой, Господи, душу его! – негромко повторил Эйленбюрх, и лицо его до корней волос залилось легким румянцем. Затем он разлил вино и, вспомнив о своей роли комиссионера, высказал ряд других соображений. Рембрандт всегда может остановиться у него – такой заказ потребует длительного пребывания художника в Амстердаме. Когда кончится двухмесячный траур, – такие обычаи следует уважать, – он, Эйленбюрх, устроит небольшой ужин для тех, кто пожелает познакомиться с новой знаменитостью. Ученики в Лейдене не сочтут себя обиженными, если их учитель несколько сократит время занятий с ними – он ведь еще окажет им впоследствии немалые услуги, но подписывать с ними контракт еще на год, вероятно, не стоит. Амстердам – вот где место знаменитому художнику, а если молодые люди не захотят последовать за Рембрандтом, пусть ищут себе другого учителя.
Амстердам – вот где место знаменитому художнику… Когда Рембрандт расстался с собеседниками и в одиночестве побрел обратно к Лейденским воротам, где собирался поесть холодного мяса и дождаться обратной лодки, он заметил, что фраза Эйленбюрха не выходит у него из головы. Знаменитый художник… Сердце у него было так переполнено, что ему захотелось сорвать пригоршню блестящих листьев с нависшей над головой ветви, и он не сделал этого лишь потому, что вспомнил: «Я в трауре». Вместо этого он сорвал листок с живой изгороди, украдкой сунул его в рот, начал жевать и нашел, что вкус у него одновременно и горький и сладкий.
* * *
Теперь, когда отец умер, а Геррит все чаще просил отнести ему ужин наверх, сидеть в кухне и слушать чтение Библии им приходилось всего лишь втроем. Сегодня читала мать, а слушали только он да Лисбет, и, когда Нелтье дошла до конца главы, Рембрандт увидел, что заходящее солнце окрасило страницу в розовый цвет, а руке, водившей по строчкам, придало оттенок красноватого золота.
Читая, мать запиналась, но Рембрандт довольно быстро заметил, что делает она это лишь для вида: она, вероятно, помнила отрывок по прежним чтениям и сегодня, оставшись дома одна, заранее отыскала его. Этим способом она как бы хотела сказать сыну: «Скрывай сколько хочешь, а я все равно знаю, что ты решил уехать. Я не стану ни связывать тебя, ни пробуждать в тебе угрызения совести. Иди преуспевай в своей новой жизни, будь благословен и не забывай Бога и меня».
Мать закрыла Библию и лукаво взглянула на сына поверх очков: она явно гордилась тем, что выбрала подходящий отрывок, и ждала, что сын похвалит ее за это, а главное, за бескорыстие. Рембрандт потянулся через стол и погладил ее морщинистую руку.
– Итак, ты отпускаешь меня, мать?
– Я же знаю: ты должен ехать.
– Думаю, что да. В последний раз, когда я ездил туда, мне заказали три портрета; об эскизах к групповому портрету для доктора Тюльпа я уж не говорю.
– А кроме того, ты и сам хочешь уехать, – сказала она, шутливо хлопнув сына по пальцам. – Да, да, не лги сам себе – хочешь.
Рембрандт обвел взглядом кухню – с детства знакомые тарелки в угловом буфете, котелок над очагом, последние тлеющие в золе угольки, чей розовый блеск едва различим в пятне закатного света. Взглянул он и на стул, на котором обычно сиживал отец, – ни один из них, даже Адриан, до сих пор не решался сесть на него.
– Я в самом деле хочу уехать, но только не думай, что я радуюсь отъезду. Надеюсь, ты понимаешь, что это разные вещи?
– Конечно, понимаю.
Лисбет, сидевшая чуть поодаль, на другом конце стола, принялась чистить ножи.
– Когда ты уедешь? – спросила мать.
– Через неделю-другую… Точно еще не знаю, но тянуть нельзя.
– Где ты остановишься?
– Сначала, наверно, у Эйленбюрха. Ван Флит едет со мной…
Лисбет удивленно и укоризненно посмотрела на него, и этот взгляд заставил Рембрандта призадуматься: а вдруг сестра еще не забыла давние разговоры Яна о том, что брат возьмет ее с собою и она станет его домоправительницей. Видимо, следовало добавить, что ван Флит понадобится ему в мастерской.
– А как ты будешь там жить? – спросила мать. – Я говорю, как управишься ты, холостяк, с едой, стиркой, глаженьем, пришиванием пуговиц?
– Эйленбюрх справляется. А в Амстердаме тысячи таких молодых людей, как он, – возразил Рембрандт, несколько смущенный недобрым огоньком, который засверкал в ее ярких маленьких глазах: мать, наверно, была бы рада увидеть его в плохо отглаженной рубашке с оторванными пуговицами.
– И как же они устраиваются? Нанимают прачку?
– Эйленбюрх, во всяком случае, нанимает.
– Но эти прачки ужасно все рвут. Вот увидишь, рубашек тебе и на год не хватит.
Разве так уж важно, сколько продержатся его рубашки, подумал Рембрандт. Дела пошли теперь так, что он может купить себе сколько угодно рубашек. Однако, взглянув на иссохшие, тонкие пальцы матери, он сообразил, что было бы жестокостью пренебрежительно отозваться о заботах, которыми мать столько лет окружала его.
– Конечно, никто не сделает для меня того же, что ты и Лисбет. Я и не жду, что там меня будут обхаживать так, как здесь, – сказал он.
Что-то зазвенело. Это сестра уронила нож на пол. Рембрандт нагнулся, поднял нож из-под стола и протянул Лисбет, но она не улыбнулась, не поблагодарила, а лишь пристально и умоляюще посмотрела брату в лицо.
– А не лучше ли тебе завести экономку? – спросила она.
– Экономку? Я уверен, что буду неплохо зарабатывать, но не столько, чтобы позволить себе держать постоянную прислугу.
– Ну а предположим, у тебя будет бесплатная экономка? Предположим, все получится, как мы когда-то мечтали? Если бы ты взял меня с собой, я бы делала для тебя все и ничего бы тебе не стоила – я ведь работы не боюсь.
– Прости меня, Лисбет, но ты сошла с ума, – сурово оборвала мать.
– Нет, – возразила девушка, понижая голос почти до шепота, – нет, я еще в здравом уме, хотя один Бог знает – почему.
– Как ты можешь думать о поездке в Амстердам? Это только доставит Рембрандту лишние хлопоты: ты же там все равно долго не пробудешь, потому что осенью выйдешь замуж.
Лисбет отбросила тряпку, которой чистила ножи, и вцепилась руками в край стола. Ее глаза, обычно водянистые и затуманенные, потемнели и уставились прямо в лицо матери.
– Я никогда не говорила, что осенью выйду замуж. Это говорили вы все, но не я.
– Если Хендрик до сих пор не попросил твоей руки, то лишь из-за траура. Я уверена, он…
– Я тоже уверена, мама, но дело не в нем. Остановка за малым: нужно, чтобы я сказала ему «да», а я этого не сделаю. И не смотри на меня так – не поможет.
– Ты хочешь сказать, что не выйдешь за него, хотя он столько сделал для нас?
– Вот именно, мама. Я не выношу его и не стану принуждать себя к тому, чего мне не вынести, не стану, даже если придется вековать в девушках.
– Но я думала, что все уже решено, что ты согласна…
– Я соглашалась только для того, чтобы порадовать отца.
– И ты порадовала бы его, дорогая.
– Вероятно. Но отца больше нет.
Не сговариваясь, обе женщины обернулись, взглянули на пустой стул и разрыдались. И Рембрандт, безмолвно и беспомощно переводя взгляд с одной на другую, понимал, что они оплакивают сейчас не только свою общую потерю. Мать плакала, потому что дочь не любила ее и она не любила дочь. А Лисбет в первый раз дала волю взрыву неистовой жалости к самой себе: ей ясно как день, что родные готовы выдать ее за любого дурака, который согласится взять ее в жены, что у них одна забота – поскорее сбыть ее с рук.
– Я знаю, отец любил Хендрика, – сказал наконец Рембрандт. – Но он не стал бы навязывать Лисбет свою волю, не заставил бы ее идти за человека, которого она не любит.
– Может, ты и прав, – отозвалась мать. – Но по-моему, она просто не понимает, что где угодно – и в Амстердаме, и в Лейдене – для женщины большое несчастье остаться одинокой. Жить без мужа, без детей, без дома, не иметь ничего своего – что в этом хорошего?
– Ты думаешь, я этого не знаю? – перебила Лисбет, гневно сверкнув светлыми глазами. – Я уже попробовала, что это такое.
– Так не лучше ли, пока не поздно, принять то, что в доброте своей посылает тебе Господь?
– Прости, мама, но я не в силах лечь в постель с тем, кого в доброте своей посылает мне Господь.
Мать поджала губы, решив не обращать внимания на нечестивые слова.
– Это еще не все. В браке есть и многое другое.
– Но если в нем нет этого, значит, нет и остального.
– Все зависит от женщины – от того, сумеет ли она смирить свое непокорное сердце.
Рембрандт глядел в открытое окно на красное небо в клочковатых пятнах золотистых облаков. Три месяца тому назад он тоже считал себя отвергнутым, забытым, обреченным на безвестность и все-таки не смирил свое непокорное сердце.
– Почем знать, как повернется жизнь Лисбет? Ей нет нужды идти на то, чего она не хочет, – сказал он.
– Но будет ли ей лучше у тебя в Амстердаме?
Рембрандт слегка вздрогнул. Он еще не успел отдать себе отчет, что для сестры существуют только два решения: либо брак с Хендриком Изаксом, либо жизнь с братом в Амстердаме. Ну что ж, в этом есть и свои отрицательные стороны, и преимущества. Он разом представил себе, как сестра в платье, отделанном собольим мехом – горностай ей уже не пойдет, – встречает его гостей и режет цыпленка на такие же тонкие ломтики, как когда-то Виченцо у Ластмана. К тому же он вскоре завяжет в Амстердаме такие знакомства, что сестра, пожалуй, найдет там себе партию получше, чем Хендрик Изакс.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































