Читать книгу "Рембрандт"
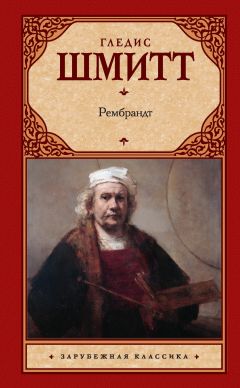
Автор книги: Гледис Шмитт
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
«Вот что значит слишком возомнить о себе», – думал Рембрандт, снова направляясь в зал, с ненавистью глядя на веерообразный лавр и канделябр, отождествившиеся теперь для него с лживыми обещаниями хозяев дома. Зал – вот единственное место, где он может скрыть от всех свое пылающее лицо. Задыхаясь, как пловец, выходящий из холодной воды, юноша лихорадочно обдумывал, как ему поступить. Ему хотелось повернуться и уйти на улицу, подставить лицо ветру, дать выход гневу, кипящему в груди, и слезам, жалящим глаза. Но это было бы трусостью и, кроме того, лишь усугубило бы его опалу.
Сегодня ночью под скошенным потолком мансарды господина Ластмана – Господи, до чего он ее ненавидит! – его сожители примутся хвастать своими успехами: Халдинген и Ливенс будут описывать девушек, с которыми они танцевали; Ларсен – принимать поздравления по поводу его песен под лютню; маленький Хесселс – восторгаться вкусным угощением и новыми знакомствами. А он? Он даже не танцевал, хотя в Лейдене считался отменным танцором. Погнавшись за большим, он лишил себя даже того малого, чем насладился здесь каждый болван, что получила здесь каждая посредственность. Конечно, он подождет, он просто должен подождать – уйти домой раньше остальных значит стать потом, в мансарде, предметом всеобщих насмешек, – пока не кончится пение, а потом найдет себе партнершу и примет участие в танцах.
Шагах в десяти от него, склонив головку набок, стояла девушка, которую он непременно пригласит. Такой девушкой можно будет похвастаться – она маленькая, пухленькая, хорошенькая; в волосы, золотыми волнами ниспадающие на плечи, вплетены лиловые ленты; на нежной шее и руках сверкают жемчуг и драгоценные камни, только вот какие – не определишь: в зале слишком неровный свет.
– Простите, могу я пригласить вас на очередной танец? – обратился к ней Рембрандт.
– На очередной танец? – переспросила она, взглянув на юношу, и ему показалось, что он ей понравился. – Нет, я уже приглашена.
– А на следующий за ним?
Взгляд девушки – глаза у нее небольшие, но хорошо посаженные и какого-то неопределенного цвета – не то с любопытством, не то с замешательством перешел с его лица на руки.
– Весьма сожалею, – сказала она с той изысканной и серьезной учтивостью, которой он был сегодня сыт по горло, – следующий танец я тоже обещала. По правде говоря, все мои танцы уже расписаны, даже последний. Какая досада, что вы не пригласили меня раньше! Я была бы рада потанцевать с вами.
Рембрандт ничего не ответил – второе унижение окончательно уничтожило его.
Из любезности – о, эта их лживая и ненавистная любезность! – девушка не уходила, хотя музыканты уже начали настраивать свои инструменты.
– Вы, наверно, соученик Алларта? Я его кузина.
И зачем он только, на свою беду, столкнулся еще с одной представительницей их породы?
– На следующем вечере я с удовольствием потанцую с вами, если, конечно, вам и тогда захочется меня пригласить.
На следующем вечере? С трудом подавив горький нервный смех, который рвался у него из горла, Рембрандт повернулся на каблуках и пошел обратно в переднюю. Где этот лакей, который принял его плащ? Следующего вечера не будет. Нет уж, скорее Нидерланды навеки исчезнут под илистыми водами, чем он еще раз поставит себя в такое положение! В передней не оказалось никого, с кем пришлось бы прощаться, – ни предателя Алларта, ни его затянутой в шелка мамаши, ни хозяина дома, чуждого им обоим, хотя он и кормил их. Оцепенев от гнева, юноша дал слуге набросить на него плащ и, даже не поблагодарив, вышел в пронизанный ветром мрак, изо всех сил хлопнув тяжелой дверью.
* * *
Питер Ластман мог сказать о лейденце только одно: этот парень, мягко выражаясь, достаточно смел, чтобы иметь собственное мнение, или, говоря без обиняков, достаточно нахален, чтобы обходиться без посторонней помощи. За два месяца, прошедшие после именин Алларта, некоторые влиятельные лица уже не раз проявляли необъяснимый интерес к этому мальчишке. Доктор Тюльп, например, в самый разгар очередной вспышки чумы заглянул как-то вечером в мастерскую только для того, чтобы посмотреть его рисунки. Мать Алларта, пригласив учителя на ужин, заявила за грогом, что отправить столь одаренного юношу в Италию не только похвально, но и приятно.
Такое неожиданное внимание к ван Рейну, естественно, повлияло на отношение к нему учителя, хотя мнения своего о нем Ластман отнюдь не переменил. В последнее время он стал с лейденцем терпимее, дружелюбнее, даже предупредительнее, несмотря на то что успех на именинах сделал его ученика лишь еще более одиноким, замкнутым и неподатливым, чем раньше: он редко разговаривал даже с Аллартом, хотя этот добросердечный дурачок по-прежнему ходит за ним по пятам и напрашивается на откровенность. Рембрандт и его приятель Ливенс – они оба всем недовольны – надели на себя трагическую маску: презирают свет и забывают отдавать в стирку белье; кто-то слышал, как они мрачно и единодушно утверждали, что их не волнуют большие групповые портреты в Стрелковой гильдии и разных богоугодных заведениях. Несмотря на ужасную погоду и чуму, из-за которой остальные чувствуют себя в безопасности, лишь сидя у камина – огонь поглощает миазмы, – они сразу после ужина уходят из дому и до поздней ночи бродят по сырым, зараженным улицам.
Но как бы ни был невыносим этот мальчишка, Питер Ластман вынужден был считаться с упорным, хоть и необъяснимым интересом к нему важных особ. Он даже немного расстроился, вспомнив, что за полгода, проведенные парнем у него в доме, ни разу не пригласил его к себе в приемную. Упущение свое художник исправил немедленно, сердечно пригласив ван Рейна зайти к нему побеседовать в эту же субботу. Он даже посоветовался с Виченцо, всегда знавшим вкусы каждого ученика, какое угощение лучше всего подать. Но на этот раз даже итальянец оказался бессилен – он никогда не видел, чтобы лейденец с восторгом встретил какое-нибудь из блюд, которыми по праву гордится кухня его милости господина Ластмана. Этот малый вечно поглощен собой и едва ли замечает, что́ ест; вероятно, он прекрасно мог бы довольствоваться селедкой, дешевым пивом и черным хлебом.
Тем не менее в приемной была приготовлена легкая закуска – блюдо хлеба, аккуратно намазанного маслом, деревянная тарелка с ломтиками телятины, миска с фигами и яблоками. В камине пылал огонь, шафранные занавеси были отдернуты, и в комнату проникал скудный зимний свет. Учитель явился в приемную за пятнадцать минут до встречи: мысль о предстоящем часовом разговоре была настолько неприятна ему, что он был просто не в силах заняться чем-нибудь другим. Он стоял у окна, глядя на унылый канал, где отражались черные нагие деревья, и злился: на душе и без того безотрадно, а тут еще пошел снег.
Внезапно из белого водоворота вынырнул лейденец. Ван Рейн шел по улице вдоль канала, шапки на нем не было, голову он откинул назад, словно ловя губами кружащиеся снежные хлопья, на губах играла блаженная улыбка, как будто этот враждебный мир, этот холодный непогожий день дарили ему какое-то тайное счастье. По каким бы делам он ни уходил, он обязан был вернуться раньше, заблаговременно, чтобы успеть привести в порядок одежду, причесаться и сменить промокшие башмаки. А он даже не поднялся к себе наверх и ввалился в приемную в том виде, в каком пришел с улицы, если не считать того, что у него все-таки хватило ума оставить плащ в прихожей.
– Входи, входи, – сказал Ластман, но не удержался и опасливо взглянул на персидский ковер, по которому ступал юноша, направляясь к камину. – Где ты был? Опять на аукционе?
– Нет, учитель. Просто гулял.
Ответ нельзя было назвать грубым, и все-таки в нем звучал вызов: человек вот так, не моргнув глазом, заявляет, что он без особой нужды разгуливал по улицам во время чумы!
– И куда же ты ходил?
– Собственно, никуда. Бродил взад и вперед по улочкам около рыбного рынка и пристани. Я часто хожу туда посмотреть на дома – некоторым из них самое меньшее лет триста.
Ластман, естественно, не проявил желания разделять восторги молодого человека: эти самые улочки и живописные старые дома – главный рассадник заразы. Он невольно отошел подальше от гостя, оставив его по другую сторону камина – пусть их разделяет целительный жар огня.
– А не слишком ли безрассудно ты рискуешь собой? – спросил художник, пытаясь подавить нотки раздражения в голосе. С самого начала вспышки чумы он целыми днями глотал лекарства и мылся так часто, что у него потрескалась кожа. Вот и сейчас ему стоило большого труда удержаться и не потрогать мешочек с горькими травами, висевший у него на груди под бельем. – Не понимаю, что за охота гулять в такую погоду, не говоря уж об опасности заразы. Чем больше снега, тем безобразнее все вокруг. Впрочем, снегопад, Бог даст, скоро прекратится.
– Надеюсь, нет. Пусть снег валит подольше. – Рембрандт посмотрел в окно, за которым медленно кружились хлопья, и лицо его приняло то же ликующее выражение, что и тогда, на улице. – Не знаю почему, но, когда идет снег, мне хочется рисовать все, что я вижу. В снежные дни, особенно поближе к ужину, бывает такое великолепное смешение света – свет с неба, отблеск костров, и сам снег как будто светится…
Ластман промолчал. Разговор вызывал в нем какую-то неловкость – может быть, потому, что слова Рембрандта противоречили собственному опыту художника. Он спрашивал себя, почему он сам не видит тех чудес, которые описывает лейденец, – то ли потому, что он, Ластман, глух и бесчувствен, то ли потому, что мальчишка просто-напросто выдумал все эти чудеса.
– Если уж говорить о свете, – начал он, подойдя к столу и накладывая на две тарелки куски хлеба и ломтики телятины, – я не верю, что мы, северяне, имеем о нем хотя бы отдаленное представление. Когда, приехав в Италию, я в первый раз проснулся утром, я не поверил своим глазам – какие белые, синие, пурпурные, зеленые тона, какое жидкое золото! Стоит один раз взглянуть на них, и человек понимает, что всю жизнь до этого прожил в погребе. Словом, дело обстоит так, – он передал Рембрандту одну из тарелок, – художник, который не побывал в Италии, не знает, что такое цвет. Клянусь, я никогда по-настоящему не видел солнца, до того как приехал в Рим.
– Значит, дела мои плохи, – отозвался молодой человек. – Похоже, что мне придется обходиться здешним тусклым цветом и скудным освещением.
Ластману потребовалось несколько секунд, прежде чем он убедился, что уши не обманули его. Оборвать первую же попытку учителя высказать свое мнение, посмеяться над его красноречием, представить в глупом виде его увлечение всем итальянским!.. Нет, это уже не просто дерзость, это наглость. Художнику удалось воздержаться от резкого ответа только благодаря тому, что он вспомнил, как беден его ученик. Свет и цвет Италии недоступны для него, вот он и пытается скрыть свою горечь.
– Не следует так безнадежно смотреть на вещи, – сказал Ластман, тщательно следя за своим голосом. – Со временем обстоятельства могут измениться, и в один прекрасный день ты, как и другие, отправишься путешествовать.
– Нет, учитель, вряд ли так будет.
– А не в слишком ли черном свете ты видишь все? Даже если ты не добудешь денег сам, их добудут для тебя друзья. Люди богатые и влиятельные… – Ластман оборвал фразу, пораженный вспышкой в холодных серых глазах.
Грубая рука опустила ломтик телятины на тарелку и вытерла пальцы о салфетку. Пилат, умывающий руки, и тот не мог бы яснее выразить все символическое значение этого жеста.
– Нет, учитель, – снова начал юноша, глядя прямо в лицо Ластману. – Даже если бы деньги на поездку дала мне сама супруга принца Оранского, – а этого никогда не случится, потому что работы мои – не из тех, какие нравятся в знатных домах, – я все равно не поехал бы в Италию.
Ластман невольно вспомнил, сколько пришлось попрошайничать ему самому в те годы, когда он был еще никому не известен. Да, это было самое откровенное попрошайничество: никакая госпожа ван Хорн не разглагольствовала о том, чтобы отправить его на юг, никакой доктор Тюльп не заходил посмотреть на несовершенные рисунки, которые он делал в мастерской своего учителя.
– Никто, – сказал он, избегая немигающих глаз юноши и с властным видом устремляя взор в промежуток между его рыжеватыми бровями, – решительно никто не может больше открыть мастерскую и преуспеть, прежде чем не проведет год или два в Италии.
– Значит, мне никогда не открыть мастерскую и не преуспеть. – Не важно, чем объясняется его наглость; важно, что она непростительна. Она тем более непростительна, что мальчишку от нее не удержали ни гостеприимно предложенное угощение, ни попытка учителя, пусть даже запоздалая, выступить в роли доброго советчика и друга.
– Ты молод, ты еще очень молод, – ответил он, не в силах больше сдерживаться, и в голосе его зазвучало холодное сознание своего превосходства. – Ты еще переменишь мнение о многих вещах.
– Вероятно, переменю, учитель, но только не об Италии.
Ластману удалось лишь пожать плечами и сухо усмехнуться: он – воспитанный человек и никогда не затеет ссору с тем, с кем делит хлеб и соль. Однако отступать он не вправе, иначе молодого человека окончательно захлестнет мутный поток сомнения.
– Клянусь спасением души, я не понимаю, что ты имеешь против несчастных итальянцев! – воскликнул он. – Конечно, они – католики, но они же не гонят тебя ни к обедне, ни к исповеди. К тому же, насколько я успел заметить, ты вовсе уж не такой ярый кальвинист. У тебя должны быть другие мотивы. Ты, наверно, восстаешь против их изысканности и непринужденности; тебе кажется, что раз они цивилизованны, значит, переживают упадок. Не думаю, что дело упирается для тебя в религию.
– Нет, в какой-то мере это действительно вопрос веры, хотя вы и правы, полагая, что кальвинизм тут почти ни при чем.
– Прости, но я не совсем тебя понимаю.
– Жаль. Это трудно объяснить. Всякий раз, когда я смотрю на итальянскую картину, мне кажется, что художник шел в ней своим путем, повернувшись спиной к действительности. Итальянцы не хотят иметь дело с тем, что подлинно существует. Они отвергают мир в том виде, каким его создал Бог, – вот что я хочу сказать.
– Отвергают мир в том виде, каким его создал Бог?
В голосе Ластмана прозвучало презрение к напыщенности фразы.
– Да, учитель, это единственные слова, которыми я могу выразить свою мысль. Итальянцы считают этот мир грубым, уродливым, уходят от него и создают свой собственный. Впрочем, вам, вероятно, это неинтересно, – спохватился Рембрандт и слегка отвернулся, так что профиль его вырисовался на фоне побелевшего от снега окна. – Мне думается, вы пригласили меня сюда, чтобы о чем-то поговорить?
– Нет-нет, я ничего такого не имел в виду. Просто у меня сложилось впечатление, что ты чем-то не удовлетворен, – произнес Ластман и сразу же пожалел о последних словах. С какой ему стати беспокоиться о том, удовлетворен или нет этот сын мельника из Лейдена?
– Вероятно, удовлетворить меня труднее, чем многих. Но если даже я не удовлетворен, то не по вашей вине.
Ластман опять заставил себя сдержаться: в словах ван Рейна звучит такое великодушие, от которого взбеситься можно.
– Я думал, тебе хочется поговорить со мной, Рембрандт.
– Честно говоря – да, учитель. Мне хотелось спросить, на что я могу надеяться, есть ли у меня талант и велик ли он?
Но ведь любой, кто задает подобный вопрос, просто глуп, да, глуп и надоедлив, как женщина, которая спрашивает: «Почему ты не любишь меня?» Ластман прошелся по комнате, встал спиной к ученику и лицом к огню; молодой человек последовал за ним и встал по другую сторону камина.
– Я не хочу, чтобы вы льстили мне, – сказал он, приглушая голос. – Я хочу слышать правду.
– Но ты же не пробыл у меня и полугода. Не слишком ли рано требовать от меня ответа?
– Не знаю. – Желтые отсветы пламени, которые озаряли напрягшееся лицо Рембрандта, придавали его чертам печальную суровость. – Я хочу сказать вот что: если бы я был очень плохим художником или, напротив, очень хорошим, вы распознали бы это чуть ли не с самого начала, не так ли?
– Ну а если ты ни то ни другое, а, как большинство из нас, нечто среднее между тем и другим?
– Вот это единственное, чем я не могу быть, учитель. Я не могу быть средним.
– Как это понимать?
– То, что я хочу и пытаюсь сделать, настолько выходит за рамки обычного, что я либо велик, либо смешон. Либо я новый Микеланджело, либо осел. Середины быть не может.
Новый Микеланджело? Ластман попытался придать лицу бесстрастное выражение, но это ему не удалось: насмешка – вот единственный ответ на столь нелепые притязания.
– Я никогда не считал тебя ни первым, ни вторым, – усмехнулся он. – Но если ты настаиваешь, скажу тебе откровенно: ты – осел.
– Так я и думал.
Рембрандт стоял неподвижно, и все в нем – каменное лицо, немигающие глаза – дышало неколебимым достоинством.
– А если ты сам так думал, то зачем спрашивал меня?
– Затем что должен был не думать, а знать. Без этого я не мог решить – уйти мне или оставаться.
Ластман почувствовал раздражение: он, его учитель, сам должен был при первом же удобном случае выбросить самонадеянного мальчишку из мастерской, а не оставлять за ним право выбора.
– И ты уже нашел другого учителя, который согласен поощрять твое ничем не оправданное самомнение?
– Нет. Я знаю одно – работать здесь я больше не в силах. Я многому научился у вас и мог бы научиться еще большему, но здесь я не останусь: я не стану открывать душу тому, кто не верит в мой талант.
– Долгонько же тебе придется искать мастера, который отвечал бы твоим требованиям!
– А я и не буду искать другого учителя. Я вернусь в Лейден и начну работать сам.
– Ливенс тоже поедет с тобой?
– Думаю, что да.
Ластман вздохнул и почувствовал, что злость его проходит. Почему он так расстроился? Что, собственно, он теряет? Оба недовольных ученика уедут одновременно, и долгая зима пройдет спокойно.
– В таком случае желаю удачи, хоть и считаю ваше решение неблагоразумным, – сказал он.
– Раз уж мы едем, сборы не будут долгими. Позвольте поэтому сказать вам до свиданья, учитель: потом я, вероятно, уже не успею это сделать. – И, ясно давая понять, что он не намерен докучать хозяину долгим прощанием, Рембрандт направился к двери в обход стола с едва початым угощением. – Не думайте, что я неблагодарен или не понимаю, сколь многому я научился у вас. Но уехать мне просто необходимо: я должен во всем разобраться сам. А вы о моем уходе не пожалеете – я же знаю, что был для вас лишь обузой.
Учитель растерялся. Почему он не в силах найти учтивые слова, которые сгладили бы неловкость этой минуты? Почему, несмотря на все свое прославленное изящество и непринужденность, он безмолвно стоит у камина? И как только за его бывшим учеником, первым, который сам ушел от него, закрылась дверь, Ластмана охватила сводящая с ума смесь веселья и гнева, чувства облегчения и досады. Он еще долго стоял, впитывая в себя целительный жар огня, прежде чем смог сойти с места, а когда наконец ему это удалось, он подошел к окну и сердито задернул занавесями свинцовые переплеты рам. Лучше уж сидеть в темноте, чем смотреть на эти снежные вихри.
* * *
На улицах намело целые сугробы, затем снегопад сменился дождем, за которым опять последовал снег. Слякоть то подмерзала, то снова таяла, окна затянуло льдом грязно-железного цвета. Толстый слой его, все более чернеющий от густого дыма – в Амстердаме отапливались торфом, – еще держался на стеклах, когда в один прекрасный вечер Николас Питерс, чаще именуемый доктором Тюльпом, явился к Питеру Ластману и нарушил покой, обретенный с недавних пор художником.
Доктор занимал в обществе такое положение, что друзья не могли не принимать его у себя, хотя Тюльп постоянно бывал как в больницах для чумных, так и в зараженных домах. И это было не просто легкомыслием с его стороны: Ластман, равно как многие их общие знакомые, давно заметил, что доктор испытывает какое-то дьявольское удовольствие, рассказывая хозяевам, где он сегодня побывал и что мог принести с собою.
– Шесть смертных случаев за день. Завтра, вероятно, будет больше, – объявил он, пробираясь между мольбертами в тот конец опустевшей полутемной мастерской, где стоял Ластман, который забрел туда от нечего делать и теперь выбирал какой-нибудь старинный горшок, чтобы посадить в него гиацинт. – Я принял ванну и окурил себя, но не обижусь, если вы не захотите пожать мне руку.
Вместо извинения хозяин указал глазами на драгоценную глиняную посудину позднеримского периода, бережно прижатую им к груди.
– Любуетесь своими древностями, Питер? – осведомился врач.
– Ошибаетесь. Госпожа ван Хорн подарила мне луковицу гиацинта, и я искал, куда бы ее посадить. – Ластман внезапно почувствовал, что он не в силах больше оставаться в мастерской, среди бумажек, усеявших пол, сиротливых мольбертов и незанятых табуретов. – Пройдем-ка лучше в приемную да выпьем по стаканчику – я уже кончил работать.
В приемной по крайней мере пылает всеочищающий огонь и не так заметна чернота ночи за окнами – занавеси давно задернуты.
– Нет, благодарю – я тороплюсь в больницу. А завернул я к вам по дороге только для того, чтобы повидать вашего ученика Рембрандта. Мне пришлось тут извлечь утробный плод, и я хочу, чтобы парень нарисовал мне его, пока тот еще не разложился.
– К сожалению, ван Рейна уже нет, – ответил Ластман, стараясь не думать о разлагающемся утробном плоде.
– Уже нет?
Вопрос прозвучал так мрачно, что Ластман сразу сообразил: сейчас, когда свирепствует чума, слова «уже нет» понимаются обычно в совершенно определенном смысле – в том, в каком их могут завтра сказать про любого амстердамца, не исключая его самого.
– Я хочу сказать, что он еще на прошлой неделе уехал в Лейден.
– Уехал в Лейден? – Худое строгое лицо врача дрогнуло, и Тюльп рассмеялся. – Выходит, он бросил вашу мастерскую и пошел своим путем?
– Выходит, что так: он, по-видимому, склонен открывать душу лишь тем, кто верит в его гений, как в истину, не требующую доказательств, а я отнесся к нему недостаточно восторженно. Но у меня есть другой ученик, Ларсен…
– Не надо. Другой меня не устраивает.
Значит, доктора интересовал не столько утробный плод, сколько встреча с сыном мельника?
– Поверьте, Николас, самонадеянности у него было больше, чем таланта.
– Несомненно. Но весь вопрос в другом – сколько у него таланта?
Ластман посмотрел в темноту и различил мольберт, за которым работал раньше лейденец. Надо будет убрать его, да поскорее.
– Мне трудно судить об этом, – ответил он. – Ван Рейн не пробыл у меня и полугода.
– У вас остались его работы – картины, рисунки?
Ну почему все они – и Тюльп, и госпожа ван Хорн, и Алларт, и маленький Хесселс – никак не выбросят из головы этого малого? Просто злость берет!
– Только клочки и обрывки – наброски вроде тех, что вы видели в прошлый раз. Кроме них – всего одна незаконченная картина.
– Я покупаю их. Да-да, я не шучу – я в самом деле покупаю их. Сколько они стоят? Два флорина? Три флорина? Назначайте цену.
– Я обману вас, если запрошу больше одного флорина.
– Вам виднее.
– Вы бы хоть раньше взглянули на них.
– Зачем? Если они похожи на то, что я уже видел, значит, они достаточно хороши. Велите Виченцо завернуть их, ладно? Я зайду за ними на обратном пути из больницы.
Перспектива не из приятных! Виченцо ушел в театр, служанки к тому времени уже лягут в постель. Если Ластману не удастся разбудить одну из них, он должен будет сам открыть дверь позднему гостю, а ведь на сей раз тот явится, не приняв ванну и не окурив себя.
– Стоит ли беспокоиться? Завтра я все пришлю вам с одним из учеников, – предложил художник.
– Нет, эти вещи нужны мне сегодня. У меня выдался тяжелый день, а вечер будет еще труднее. Вот я и хочу вознаградить себя, посмотрев перед сном работы ван Рейна.
– Извольте, я приготовлю.
– Не вздумайте дожидаться меня – это глупо. Заверните их и оставьте в вестибюле. Никто их там не возьмет – сейчас слишком темно.
Держа в одной руке глиняную посудину, а в другой свечу, Ластман проводил гостя до двери, и, когда она захлопнулась за доктором, преградив доступ в дом порывам колючего ветра, художник со вздохом поставил горшок на стул у входа – он вернется за ним позже, после того как покончит с предстоящим неприятным делом. Тогда уж он с особенным удовольствием займется своей луковицей.
Возвратясь в мастерскую, Ластман опустил свечу на каменную плиту для растирания красок и открыл большой венецианский сундук, почти доверху набитый ученическими работами, которые складывались в него на протяжении многих лет. Самые старые из них, те, что лежали на дне, уже неприятно припахивали плесенью. Вещи Рембрандта, равно как и Ливенса, лежали наверху, и художник вытащил их, не рассматривая, наугад – все равно при таком скудном освещении ничего толком не разглядишь.
Пока он заворачивал их, опять пошел мокрый снег: по черным окнам что-то резко застучало, в камине, стоявшем на другом конце комнаты, резко зазвучали холодные вздохи ветра. Когда Ластман перевязал наконец рисунки бечевкой, вихрь студеных хлопьев, низвергавшийся с неба, еще более усилился, и, открыв входную дверь, художник увидел, что вся пустынная улица уже покрыта льдом. На то, чтобы выставить пакет, у него ушло всего несколько секунд, после чего он опять очутился в доме и тут же поймал себя на том, что вытирает пальцы о бархат камзола с такой тщательностью, словно прикоснулся не к бумаге, а к руке доктора. Сам не понимая почему, он чувствовал, что вестибюль – удивительно подходящее место для последних работ лейденца, которые врач унесет с собою, возвращаясь домой после полуночных трудов. Эти грубые, нежеланные вещи оказались там, где им и надлежит быть, – в безотрадной и безлюдной темноте зимней ночи.









































