Текст книги "Рембрандт"
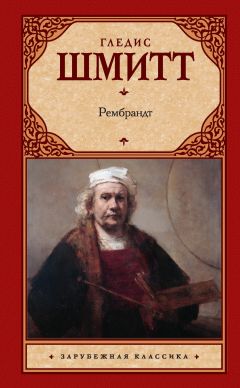
Автор книги: Гледис Шмитт
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Смею заверить, хуже ей у меня не будет. По крайней мере вокруг будут люди, да и дело для нее всегда найдется, – сказал он.
Оставив на столе груду неубранных ножей, Лисбет встала с таким видом, словно готова была тотчас же отправиться в путь, подошла к брату сзади и прижалась к его лицу щекой – бледной, распухшей и мокрой от слез щекой.
– Благослови тебя Господь! Вот увидишь – ты никогда не раскаешься в том, что сделал, – бросила она, поцеловала его в темя и выбежала из кухни, стараясь подавить странный полурыдающий, полусмеющийся звук, который рвался у нее из горла.
– Как мне тяжело расставаться с тобой, мать! Ты будешь так одинока, когда мы оба уедем.
– Ничего, не беспокойся обо мне. Здесь остается Геррит, сюда переберутся Адриан с Антье.
Геррит, Адриан, Антье! Бесспорно, она давно приучила себя отдавать им заслуженную и достаточную долю своей материнской любви. Она будет неизменно внимательна к ним, не доставит им особых хлопот, будет с гордостью рассказывать о них соседям. Но любовь, этот изобильный и живительный ключ, бьющий из скалы, поднималась из глубин ее сердца только ради отца и его самого; но теперь отец лежит в могиле, а сам он уезжает в чужой город.
– Может быть, тебе тоже не стоит оставаться здесь? – спросил он. – Почему бы тебе со временем не перебраться ко мне? Судя по тому, как обстоят мои дела сейчас, недалек тот день, когда я смогу купить себе дом в Амстердаме.
– А ты спроси меня, прежде чем покупать, и я тебе отсоветую. Дом в Амстердаме – это годится для богатых бюргеров и аристократов, а не для таких, как мы. Кроме того, – Нелтье взглянула на угловой буфет, сделанный руками ее мужа, и опустила ладонь на стертую, шершавую поверхность стола, – я живу в этом доме со дня свадьбы и не хочу уезжать отсюда.
Рембрандт глядел на неподвижную руку матери, лежавшую на изъеденных временем досках, и думал, что его намерение перевезти ее впоследствии к себе – только мечта, утешительная мечта. Его фантазия могла вызвать к жизни любой образ, лишь бы тот был правдив; именно поэтому он просто не мог представить себе, как его мать сидит в красивой гостиной, гуляет вдоль величественного канала или переходит людную улицу, лавируя между мчащимися каретами.
– Тогда я постараюсь почаще навещать тебя.
– Навещай, Рембрандт. Как сможешь, так и приезжай.
Он попробовал представить себе, как он будет наезжать домой, но эта новая попытка заглушить взаимную боль предстоящей разлуки оказалась такой же неудачной, как прежние. А затем, перестав хитрить с самим собой, Рембрандт остался один на один с правдой, нагой, как скелет: его лейденская жизнь закончилась, он расстается с обломками ее, он покидает здесь мать. И когда Нелтье протянула руку над истертыми досками, чтобы приласкать и утешить сына, он уткнулся в нее лицом и, перестав сдерживаться и стесняться, заплакал как ребенок, у которого что-то отняли.
Книга четвертая. 1632–1633
Лисбет ван Рейн – фамилию, которую мельник выводил когда-то карандашом на своих мешках, здесь, в Амстердаме, принимали за аристократическую, хоть и провинциальную, – вынула из кармана ключ и отперла свой маленький мирок на Бломграхт, где она говорила, делала и покупала все, что ей хотелось. Было три часа пополудни. До половины четвертого никто не явится и она успеет решить, что лучше подать к сдобным булочкам с изюмом, которые она принесла с собой, – горячий шоколад или вино, приправленное корицей. Она опасливо поднялась по темной лестнице – в подвале здания помещается склад фуража, того и гляди откуда-нибудь выскочит мышь, – добралась до верхней площадки и открыла дверь в большую, квадратную, залитую светом гостиную. «Здесь все в порядке!» – заметила она вслух: новая жизнь все еще доставляла ей такую острую радость, что выражать ее хотелось даже в одиночестве, а за те долгие часы, которые Рембрандт проводил на Новом рынке, рисуя труп и врачей, девушка приобрела привычку вслух восторгаться их новыми покупками – большим дубовым столом, темно-красными шелковыми занавесями и оливково-зелеными бархатными подушками.
За гостиной находились две спальни и кухня, а позади них мастерская, где Рембрандт писал и обучал. Сбросив свой палантин и бархатный капор на постель, Лисбет прошла в мастерскую и смахнула пыль со стула, на котором будет сидеть ее подруга Маргарета, позируя как Минерва: скорбная фигура, задрапированная плащом; голова и плечи наклонены вперед; бледные руки, хрупкие и веснушчатые, сложены вместе и покоятся на раскрытой древней книге. Маргарета всегда моет волосы перед сеансом, а волосы – главная, хоть и не единственная, как утверждает кое-кто, ее прелесть: они шелковистые, светло-рыжие, как новая медь, и такие мягкие, что их легко накрутить на палец, словно кудри ребенка. Сегодня они будут выглядеть особенно эффектно: к тому времени, когда Рембрандт вернется с Нового рынка, все пространство вокруг стула будет залито солнцем.
Пыль с маленького круглого столика Минервы Лисбет не смахнула, а сдула – там ничего нельзя трогать: ни глобус, ни книги, ни свитки, ни шарф, сложенный так, что каждая складка тщательно обдумана. Где еще брат найдет себе такую домоправительницу, которая изучила бы каждую его прихоть так же хорошо, как Лисбет? Кто еще, кроме нее, да, пожалуй, Маргареты ван Меер, стал бы обращаться с его древностями, палитрой и кистями так, как они того заслуживают?
Маргарета знала латынь, английский, французский и шведский, а испанским и итальянским не овладела только потому, что была набожной протестанткой и считала занятия ими греховным делом. Таких девушек, как Маргарета, Лисбет еще не встречала. Это была ученая женщина, и, когда шум на званых вечерах утихал, а красотки выдыхались и начинали зевать, Маргарета, все такая же прямая и спокойная, невозмутимо продолжала беседовать с каким-нибудь пастором о трудах Эразма или с врачом об иллюстрациях к Везалию.
Лисбет вернулась в гостиную, где принялась было расставлять тарелки и раскладывать салфетки, но услышала на лестнице долгожданные шаги и поспешила отворить дверь. Маргарета не побежала вверх по лестнице – она вообще никогда не бегала, – а лишь торопливо вытащила руку из шерстяной муфты, показывая этим, что ей не терпится поздороваться с подругой. На пороге, границе между темной площадкой и светлой гостиной, девушки обнялись так крепко и нежно, словно не виделись долгие недели, а не какие-нибудь три дня. Мягкие локоны и холодные губы коснулись щеки Лисбет, в лицо ей глянули глаза подруги, большие, серьезные, голубые и, пожалуй, на заурядный вкус, слишком выпуклые, но именно благодаря этому особенно искренние и яркие.
– Я не слишком рано, Лисбет? – спросила Маргарета.
– Когда бы ты ни пришла, я всегда рада тебе.
Лисбет взяла у гостьи плащ, дорогой, но поношенный, и аккуратно положила его на стул. Маргарета прошла через всю комнату и уселась на подоконник.
– Я рада, что твой брат не торопится. Мне нравится позировать: это позволяет хранить молчание и в то же время проявлять дружелюбие. Это единственный способ размышлять и в то же время не чувствовать себя одинокой.
Вот теперь Лисбет впервые усомнилась в том, что ее благородная подруга говорит правду. Разве стала бы она позировать любому другому художнику только ради удовольствия размышлять и в то же время не чувствовать себя одинокой? Согласилась ли бы она служить Рембрандту моделью, если бы с первой же минуты знакомства он не выказал известного внимания и нежности к спокойной рыжеволосой девушке, игравшей на флейте на музыкальном вечере у доктора Тюльпа? И почему она так охотно приходит сюда теперь, когда он с головой ушел в работу и ему нужно от Маргареты только одно – чтобы она дала запечатлеть себя на полотне? Только ли радости, которые приносят размышление, заставляют ее терпеливо и без жалоб просиживать здесь часы в почти полном молчании?
– Не знаю, что заставило тебя согласиться, но все равно рада, что ты позируешь, – рада и за Рембрандта, и за себя, – сказала Лисбет, усаживаясь рядом с гостьей. – Он пишет тебя так, как, бывало, писал дома: полностью отдаваясь работе и не заботясь о впечатлении, которое производит на модель.
– А кто позировал ему в Лейдене?
То, что, задав этот вопрос, Маргарета отвела глаза, обычно такие приветливые и открытые, навело Лисбет на мысль, не боится ли подруга, что с хранящихся в мастерской старых полотен – если она, конечно, решится когда-нибудь их просмотреть, – на нее глянет другое девичье лицо, менее характерное, но зато более красивое.
– Обычно наши: мать, отец, братья. Несколько раз я сама.
– А знакомые? – улыбнулась Маргарета, вероятно, для того, чтобы показать, что она смирилась и готова к худшему. Улыбка у нее прелестная: от нее медленно светлеют большие спокойные глаза и на щеках, почти у самого рта, образуются мягкие ямочки.
– Нет, знакомые не позировали, разве что ван Флит и Дау. Ван Флита ты видела, а Дау был его второй ученик. Старые картины, прислоненные к стене в мастерской, написаны большей частью на библейские сюжеты, но даже для них моделями служили обычно члены семьи. Рембрандт во многом напоминает мне тебя, Маргарета. Он так поглощен своей работой, так занят серьезными вещами, что у него не остается времени на пустяки вроде ухаживанья. Хочешь – верь, хочешь – нет, но за все то время, что мы с ним прожили здесь, я ни разу не слышала, чтобы он дважды упомянул имя одной и той же женщины.
Маргарета промолчала и лишь скрестила руки на складках темной юбки да чуть слышно вздохнула. Зато ее напрягшиеся узкие плечи снова опустились, в уголках рта возникла медленная улыбка, и Лисбет даже немного испугалась: не сказала ли она подруге лишнего. Но что общего между этой строгой молодой женщиной и ее необузданным братом? И разве можно делать какие-нибудь выводы только на том основании, что он редко вспоминает о девушках, на которых ему случайно довелось взглянуть?
– Правда, он почти никогда не рассказывает о своих делах, – добавила она.
Но эта оговорка уже не поправила того, что было сказано.
Лисбет почувствовала, что разговор сразу стал ей в тягость, и дальше уже старалась только протянуть время до прихода Рембрандта.
* * *
Сегодня, в первый раз после переселения в Амстердам, Рембрандту не хотелось возвращаться домой и приниматься за работу, хотя «Минерву» он писал с радостью и подъемом. Нынче он этого подъема не испытывал и, дойдя до своего квартала, уже совсем было решил послать к черту сеанс и завернуть в таверну «Бочка», где ван Флит и два его новых ученика, Флинк и Бол, вероятно, сидят и пьют с другими такими же учениками. Там после нескольких кружек пива, а то и чего-нибудь покрепче, он, пожалуй, отделается от тяжелых мыслей, которые не дают ему покоя последние три часа. Впрочем, нет, нельзя – Лисбет встревожится, Маргарета огорчится. Надо идти домой.
Ему никогда не приходило в голову, что работа с трупом может вывести его из равновесия. Неделю назад, когда доктор Тюльп прислал к нему слугу с известием, что труп наконец доставлен, Рембрандт не почувствовал ничего, кроме сильного возбуждения: его разуму страстно хотелось заглянуть внутрь того храма, который именуется человеческим телом, и воочию увидеть вены, мышцы, кости. Правда, он несколько опасался трупного смрада: его подташнивало даже от запахов мясного рынка, помещавшегося прямо под анатомическим театром, – от запахов крови и разделанной свинины, говядины и баранины. Но Тюльп уверил его, что не поскупится на уксус и ароматические травы, которые заглушат зловоние, и Рембрандт решил, что он не вправе быть щепетильнее в смысле обоняния, чем де Кейзер, Мирфельдт или Арт Питерс, писавшие сцены вскрытия в таком же отравленном воздухе.
Врачи наперебой объясняли ему, какой он счастливец: ему достали труп, он сможет писать с натуры, но это лишь расстраивало художника – не слишком приятно знать, что удачу тебе приносит казнь другого человека. Добывать трупы было нелегко: по закону к хирургической гильдии переходили только тела преступников, а казней теперь не бывало иногда по целому году. Адриан Адрианс, известный в уголовных анналах под кличкой «Младенец», был великолепно сложен: даже сейчас, на анатомическом столе, тело его, казалось, излучало силу. Подтянутый живот, высокая арка ребер и могучая, как колонна, шея все еще говорили о дерзости и мужестве, побуждавших покойника совершать свои злодеяния чуть ли не на глазах у правосудия, словно он старался превзойти своих предшественников, дьявола и самого себя. Надменная улыбка, которою он на суде доводил до белого каления бургомистров и синдиков, все еще приподнимала его верхнюю губу, обнажая блестящие белые зубы. Тело его, что с ним ни делай – тащи в одну сторону, толкай в другую, режь, рисуй, проклинай за вонь, – по-прежнему насмехалось над теми, кто суетился вокруг него, – полузакрытые глаза Адрианса как бы заявляли: «Плевать мне на то, что со мной будет!»
Иногда Рембрандту удавалось видеть в трупе только модель – белый клин, вбитый в овал мрака, косой луч света в самом центре темноты, нечто страшное, такое, что сразу прикует к себе глаза зрителей и не скоро даст им перевести взгляд на лица тех, кто теснится вокруг тела. Но сегодня так не получилось. Сегодня Рембрандт непрерывно спрашивал себя за работой, как выглядел «Младенец», когда был младенцем не только по кличке, в какой семье он родился, где жил и какой вовеки неповторимый мир угас вместе с ним в петле, накинутой палачом. И хотя Рембрандт сумел превосходно выписать вскрытую руку и найти для мускулов и крови такой красно-коричневый оттенок, который безошибочно гармонировал с красным скальпелем доктора Тюльпа, художник каждую секунду мучительно ощущал на себе хитрый взгляд и неугасимо презрительную улыбку покойника.
А тут еще врачи принялись отпускать всякие мрачные шуточки, и это лишь усугубило подавленность молодого человека. Доктор Хартманс, поддразнивая его, осведомился, долго ли он продержит их тут: ведь пока он их пишет, здоровые заболевают, хворым становится хуже, а те, кто серьезно болен, и вовсе умирают. Доктор Колкун посоветовал ему поторопиться, пока его модели не разбежались: в начале века Арт Питерс лишь с большим трудом закончил свою «Анатомию доктора Эгбертса», потому что большинство врачей были из-за чумы слишком заняты и не могли позировать, а кое-кто из первоначальных заказчиков сам сошел в могилу, так и не уплатив денег.
Рембрандт понимал, что взяться за «Минерву» сразу же после такого сеанса можно лишь ценой отчаянного напряжения воли, а ему не дадут мгновенно перескочить от одной работы к другой. Ему предстоят – он с раздражением вспомнил об этом в тот самый миг, когда увидел окна своей мастерской, позолоченные холодным зимним солнцем, – неизбежные полчаса светской беседы: его ждет не простая натурщица. Его ждут Лисбет и Маргарета, разговоры и приготовленная на столе закуска, а ему не хочется ни видеть людей, ни разговаривать, ни есть. И прежде чем Рембрандт заставил себя подняться по лестнице, он остановился перед большими железными воротами фуражного склада, которые выходили на канал, отломил с решетки длинную сосульку и долго сосал ее, словно влажный лед содержал в себе нечто очищающее.
Но наверху, в гостиной, все обошлось гораздо лучше, чем он ожидал. На столе, освещенном одной ранней свечой, не было ни кусочка мяса, только булочки, невинные, как просфора, да вино, которому корица придавала какую-то освежающую остроту. Правда, застенчивая, сдержанная Маргарета с ее стоячим воротником и тщательно обдуманными фразами была не из тех, чье общество приводит человека в хорошее расположение духа, но даже ее присутствие не вызвало у Рембрандта неприязненного чувства. На пустые разговоры, нередко сопровождавшие начало работы, времени тоже почти не ушло: Лисбет осталась в гостиной, а Маргарета, проследовав в мастерскую, приняла позу так быстро и точно, словно не вставала с прошлого сеанса. И все же сегодня что-то было не так – то ли изменилась сама модель, то ли Рембрандт по-другому видел ее: в Минерве – или Маргарете – было больше отзывчивости, больше достоинства, чем раньше. Лицо девушки, в общем, некрасивое и скрытое сейчас в густой тени – Маргарета повернулась так, чтобы солнце не падало на нее, – дышало нежностью и грустью, отвечавшими настроению художника, и в наклоне ее хрупких плеч он опять увидел тот же трогательный намек на преодолеваемую усталость, который привлек его внимание к ней на вечере у доктора Тюльпа, когда она играла на флейте. Поэтому, положив еще несколько мазков, чтобы передать влажную яркость ее волос, художник почувствовал потребность нарушить их обоюдное, хоть и невысказанное, решение молчать.
– Вы сегодня печальны. Что-нибудь случилось? – спросил он.
– Печальна? Что вы, нисколько! – В отличие от других моделей, с радостью пользовавшихся любым предлогом переменить позу, девушка сидела неподвижно; шевелились только ее тонкие бледные губы. – А если так кажется, то, наверно, потому, что я немножко беспокоюсь.
Он нанес на плащ мягкую полоску света и лишь потом спросил:
– О чем?
– О родителях, в особенности об отце. Несколько дней тому назад я получила от него письмо, и почерк показал мне, что отец стареет и уже мало на что годен.
– Но ведь теперь ему долго не придется работать. Лисбет говорит, что он привезет с собой из Швеции кругленькую сумму.
– Ах, кругленькая сумма!.. – Ее хрупкие руки, сложенные на древней книге, взметнулись в пренебрежительном жесте и тотчас же приняли прежнее положение. – Я, конечно, благодарна Богу за это. Но, во-первых, любая сумма всегда оказывается меньше, чем кажется на первый взгляд; а во-вторых, никаких денег навеки не хватит.
Это была истина, горькая и неопровержимая: Рембрандт сам уже спустил почти весь задаток, полученный под «Анатомию доктора Тюльпа», и давно бы залез в долги, если бы Эйленбюрх не достал ему столько заказов на портреты; но, несмотря на это, бывали месяцы, когда ему приходилось просить сестру припрятать последние деньги на плату за квартиру – иначе он истратит даже их на полотно Сегерса или Браувера.
Рембрандт вздохнул, положил палитру и кисть и принялся растирать внезапно онемевшую руку.
– Не закончим ли на сегодня? Вы, наверно, устали?
Странно, что эти вопросы задала она сама. Обычно модель начинала ерзать, вздыхать и украдкой вертеться задолго до того, как у него уставали пальцы. Маргарета же даже не шевельнулась с тех самых пор, как заняла свое место.
– Пожалуй, в самом деле закончим. Я сегодня долго работал на Новом рынке.
– Как подвигается дело?
– Отлично.
– Когда мне прийти на следующий сеанс? Как всегда, в среду?
Нет, в среду доктор де Витте дает званый ужин по случаю того, что закончен его портрет – первый из всей группы. Он снял большой зал в «Бочке» и наказал Рембрандту привести с собой сестру, учеников и всех, кого захочется. «Не пригласить ли ее?» – мелькнуло в голове у Рембрандта: он ведь знает, что развлечений у Маргареты немного и что на вечеринках она умеет не портить другим настроение, хотя сама и не веселится по-настоящему.
– К сожалению, в среду ничего не получится: мы идем к доктору де Витте. – Приглашать ее сейчас уже неудобно – выйдет слишком подчеркнуто. – Я полагаю, придется перенести сеанс на четверг или пятницу. Меня устраивает любой из этих дней.
– Тогда лучше в пятницу: по четвергам я вожу сестренку на уроки музыки.
– Ах да, я и забыл! – Легкое и ничем не оправданное раздражение шевельнулось в нем, когда он подумал о ее многочисленных скучных обязанностях. – Ну что ж, в пятницу так в пятницу. Благодарю вас, вы очень любезны.
Девушка отошла от столика и стояла теперь на солнце, но Рембрандт не мог подать ей руку – пальцы у него были в краске. Не проводил он ее и в гостиную, потому что был не расположен снова болтать с гостьей и Лисбет. Пока он промывал кисти, девушки обменялись еще несколькими словами и выпили по глотку вина; а затем он с сожалением услышал, как гостья прощается с Лисбет, и, когда за Маргаретой захлопнулась дверь, испытал чувство какой-то утраты.
* * *
Лисбет, стоявшая у окна гостиной, за которым нагие тополя гнулись то в одну, то в другую сторону под резкими порывами мартовского ветра, повернулась и прислушалась к тому, что происходило в мастерской.
– Я сказал тебе, что это надо упростить, – говорил ее брат с нотками раздражения в голосе. – Но упрощать не значит опошлять, понятно?
Разговаривает он, разумеется, с ван Флитом. Он никогда не позволил бы себе взять подобный тон с Болом или Флинком – по сравнению с этим неповоротливым лейденским сурком оба они кажутся настоящими аристократами. Терпение, с которым брат всегда относился к ван Флиту, равно как многие другие его достоинства, в последние дни явно подходило к концу. Рембрандт проматывал свои заработки, урезывал время, отведенное для занятий с учениками, не являлся на условленные свидания, а вчера, после полуночи, сунул под дверь Маргареты записку, чтобы она не приходила сегодня позировать.
И все это, даже отмененный сеанс с Маргаретой, объясняется одной причиной: Эйленбюрх со своей фрисландской кузиной, избалованной куклой, которую зовут не то Брискией, не то каким-то другим напыщенным именем, сегодня около двух часов дня окажут Рембрандту честь своим посещением. Кузина, приехавшая в город только вчера вечером, не в состоянии делать визиты с утра: у нее, видите ли, такое хрупкое телосложение, что она совершенно не переносит толчков кареты, а красота ее требует столь долгого сна, что она не встает с постели раньше полудня. Поэтому и потребовалось отказывать Маргарете, приводить гостиную в безукоризненный порядок, покупать имбирные пряники и апельсины, а самой Лисбет надевать платье, отделанное соболем, словно ей предстоит принять португальскую королеву. Нет, Лисбет раздражает не то, что ей пришлось делать лишнюю работу: она с радостью занималась бы любыми приготовлениями, будь это кузина доктора Тюльпа или круглолицего доброго каллиграфа Коппенола. Но Эйленбюрха она невзлюбила с первого же дня знакомства.
– У меня кончилась желтая охра, учитель, – раздался голос Фердинанда Бола. – Можно мне взять немного с вашей палитры?
– Нет, не сейчас. Через пятнадцать минут мы кончаем. Я жду гостей.
Вот так гость – Эйленбюрх! Тоже мне важная персона, чтобы из-за него отпускать учеников раньше времени! Жеманный дурак, который моет голову лимонной водой и полирует ногти порошком пемзы! Зато уж насчет собственной выгоды не промах: как только прослышал, что бургомистр ван Пелликорн выложил задаток за двойной портрет, так сразу прибежал просить взаймы тысячу флоринов. Сумма сама по себе несообразная, да еще неизвестно, вернет ли он долг. Он выезжает на Рембрандте еще более бесстыдно, чем Ян Ливенс, да к тому же с меньшим правом: у Яна был по крайней мере талант, а что есть у Эйленбюрха! Кучка знатных родственников – и только.
На письменном столе, за высоким стулом, лежало письмо из Лейдена: прибираясь в гостиной, Лисбет нарочно оставила его на виду, как упрек брату – пусть поменьше радуется своим гостям. Письмо писала Антье: у матери плохо гнутся пальцы, Адриан слишком занят, а Геррит болен. Но даже из доброжелательных фраз Антье можно понять, как плохи дома дела. Солод получается не тот, что при жизни отца, и они уже потеряли нескольких покупателей, правда, немногих – трех или четырех. Геррит почти не встает с постели: у него что-то случилось со спиной и теперь он старается поменьше ходить. К счастью, мать здорова, велела написать, чтобы Лисбет и Рембрандт не беспокоились о ней, и шлет им привет…
Письмо было невеселое, и, когда Рембрандт прочитал его вслух, Лисбет расплакалась; даже сейчас от одного взгляда на эти сложенные листки глаза ее наполняются слезами. У Адриана, конечно, вздорный характер, но этой тысяче флоринов он все-таки нашел бы лучшее применение, чем Хендрик Эйленбюрх, который до сих пор чуть ли не каждую неделю умудряется устраивать вечеринки с заморскими винами. И Лисбет считала, что станет форменной предательницей по отношению к семье, равно как и к своей подруге Маргарете, если будет слишком лебезить перед гостями.
Тем не менее Лисбет нервничала, когда компания поднималась по лестнице, была рассеянной и неловкой во время обмена приветствиями и представлениями и, прежде чем гости уселись на высокие стулья, которые любезно подал им Рембрандт, уже возненавидела себя за подобострастность. Нельзя было не признать, что кузина – звали ее, оказывается, Саскией, – была отнюдь не похожа на обычную провинциальную красавицу. В ней не было никакой тяжеловесности, которую заранее приписала ей Лисбет, – вероятно, потому, что Фрисландия славится своими сырами и маслом. Фигура у ней была хоть и округлая, но изящная и стройная: грудь и бедра скорее женственные, чем полные; талия в рюмочку, перехваченная кушаком из позолоченной кожи. Это соблазнительное тело завершалось маленькой головкой, круглой, как у херувима, и обрамленной короткими, но густыми кудрями цвета меда; рот, широко раскрытые темные глаза и маленький тупой носик, тоже как у херувимов, дышали какой-то невинной дерзостью. Но конечно, она не была простушкой и отлично соображала, как ей выгодней всего держать свою прелестную головку: она приподнимала ее и в то же время чуть-чуть склоняла набок, чтобы выставить напоказ круглую, белую, как сливки, шею и похвастаться тем, что со временем должно было стать изъяном, а сейчас казалось очаровательным, – легчайшим намеком на двойной подбородок. Она вся словно излучала сияние, которое исходило не только от колец, браслетов, цепочек и брошей, украшавших ее изумрудно-зеленое бархатное платье, но и от волос, глаз, зубов, а также маленьких влажных губ, находившихся в непрерывном движении.
Как только гостья уселась, она попыталась – и притом достаточно настойчиво – сломить сдержанность сестры художника, а потом перенесла все свое внимание на более интересный объект – самого Рембрандта. Устроившись на высоком стуле, который казался сейчас еще выше, потому что верхушка его резной спинки поднималась над сияющей головкой гостьи, Саския повела себя так непринужденно и весело, что натянутость первых минут вскоре рассеялась, а Лисбет почувствовала себя безнадежно тяжеловесной и скучной.
– Надеюсь, мне простят мою болтливость, – сказала фрисландка. – Я говорю так много лишь потому, что чувствую себя удивительно свободной. Честное слово, в Амстердаме даже воздух совсем другой, не то что у нас, где все пропахло кислым молоком. А тут еще Хендрик, – она наклонилась и положила руку в ямочках на колено двоюродного брата, – изо всех сил развлекает меня: вечера, концерты, театр! Знаете, что я делала бы из вечера в вечер, если бы жила сейчас дома? Играла бы в триктрак с сестрой, торчала в церкви да раз в месяц ходила на танцы, а они у нас куда как хороши: скрипачи играют не в лад, партнер обязательно наступает тебе на ногу.
Рембрандт пересек комнату и сел рядом с Лисбет на подоконник, но, конечно, не из братских чувств – он явно был недоволен ее молчанием и неловкостью, – а просто потому, что это была наиболее выгодная позиция для наблюдения за жестами и дерзкими гримасками гостьи.
– А где вы будете жить, пока находитесь в Амстердаме, Саския ван Эйленбюрх? У Хендрика? – спросил он.
Она ответила ему взрывом мелодичного смеха, иронического, но нисколько не оскорбительного.
– О нет, так далеко я заходить не осмеливаюсь, – отозвалась она, умудрясь изящно и в то же время совершенно невинно намекнуть на то, что перед ней открывается целый блестящий мир порочных возможностей. – По крайней мере мое местожительство не должно ни у кого вызывать подозрений. Я остановилась у дяди, а он пастор. Более того, и ему, и моей тетке уже за пятьдесят. И самое главное – это единственное облачко, омрачающее мне праздник, – они не ложатся спать, пока не упрячут меня в постель целой и невредимой.
Холодные серые глаза брата глянули на Лисбет, и девушка поняла, что пора подавать имбирные пряники и апельсины. Она взяла блюдо со стола и обнесла им гостей, сознавая, что проделывает это с тошнотворно-сладкой улыбкой.
– Ах, какая вы заботливая! – воскликнула Саския ван Эйленбюрх с преувеличенной восторженностью: это же были все-таки не жареные фазаны. – Нет, апельсинов не нужно, разве что перед самым уходом. Они такие липкие, что потом приходится принимать ванну. Но какие вкусные пряники!..
– Саскии не терпится познакомиться с нашими друзьями, так что скромный ужин, который я устраиваю по случаю окончания вашего «Урока анатомии», придется очень кстати, – сказал ван Эйленбюрх. – А коль скоро у нас будет такая гостья, почести придется разделить: первые две перемены блюд подадут в честь вашей картины, третью и четвертую – в честь приезжей.
– Счастлив слышать.
Лисбет снова опустилась на подоконник рядом с братом, не решаясь заглянуть ему в лицо, чтобы понять, только ли из галантности он произнес эту фразу. Рембрандт ничего не ел. Он заложил ногу на ногу и плотно охватил руками колени.
– Доктор Тюльп, доктор Колкун, Франс ван Пелликорн – племянник бургомистра, – вот, пожалуй, и весь список приглашенных, – продолжал Хендрик, очищая полированными ногтями дольку апельсина. – Вы, Лисбет, конечно, тоже. Но по всей видимости, дам у нас будет слишком мало. Не сможете ли вы привести с собой вашу ученую подругу Маргарету… э-э… Как ее фамилия?
– Ван Меер. Маргарета ван Меер. Если вы настаиваете, я, разумеется, приглашу ее, но сделать это надо заблаговременно – в последнее время она очень занята.
Бедная Маргарета!.. Рембрандт и ван Эйленбюрхи непринужденно болтали о представлениях, танцах и аукционах, а Лисбет сидела на подоконнике, рассеянно жевала пряник и пыталась решить, в какой мере обоснованны ее опасения. Список гостей, составленный Хендриком, несколько успокоил ее: для провинциальной любительницы рыбной ловли там есть добыча покрупнее Рембрандта. Доктору Колкуну, например, не откажешь в известном, хотя и мрачном, обаянии, а Франс ван Пелликорн просто красив, к тому же его привлекательность подкрепляется солидным состоянием. Саския, конечно, богатая наследница – об этом говорят и ее драгоценности, и в особенности ее манеры: только богатая наследница может быть такой благодушной, так неколебимо верить, что ей довольно улыбнуться или вскинуть головку, чтобы все, кто находится в комнате, сразу почувствовали себя счастливыми. Она, вероятно, не прочь пококетничать несколько вечеров с молодым художником, входящим в моду, но интерес ее к нему разом упадет, как только она увидит, что деньги летят у него за окно быстрее, чем входят в дверь. Что же до брата, то он человек своенравный, нерасчетливый и непривычный ко всяким условностям; он вряд ли способен на все те маневры, которые принято делать в таких случаях в обществе и без которых он не может встречаться с этой особой так, как встречается с Маргаретой.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































