Читать книгу "Рембрандт"
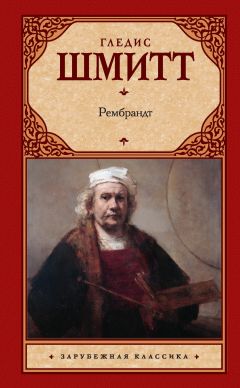
Автор книги: Гледис Шмитт
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Впрочем, все это выдумки, никто его не видит: лунный свет, падающий через большое высокое окно, что напротив его постели, едва достигает его ног. Справа лежит Ян Ливенс, но тому вряд ли придет в голову следить за соседом – у Яна своих огорчений довольно. Кровать Халдингена пустует: как всегда по средам, малый проскользнул мимо гостей учителя, сидевших за трубками и вином в большой гостиной, и удрал на свидание с соседской служанкой. Чуть дальше, за несмятой постелью Халдингена, смутно белеет в тени тело Ларсена – он спит голым поверх простыни. Конечно, это грубая и непристойная привычка, но что поделаешь: как ни умеренно нидерландское лето, для датчанина здесь все же слишком жарко – его долговязое, всегда исходящее потом тело даже во сне протестует против жары. Теперь, когда Алларт ночует дома, малыш Хесселс оставил прежнее свое место под скатом крыши и перебрался на постель слева от Рембрандта, чтобы не раздражать остальных – они недовольны тем, что во сне он хнычет и вспоминает о маме, Кати и Дордрехте. Но Рембрандта тоже злят его ночные тревоги – он и сам не чужд этой заразительной тоски по дому.
Когда вокруг столько чужих тел, поневоле будешь благодарен учителю за его фанатическую приверженность к чистоте. Мансарду постоянно проветривают, скребут, обметают; каждую неделю все принимают ванну, ежедневно моют лицо, руки и под мышками. Поэтому в комнате ничем не пахнет, если не считать аромата сухой лаванды, которой перекладывают простыни в комоде, да дразнящего запаха гуся – его жарят в кухне для гостей.
Мысль о шипящей на огне птице и взрывы смеха, доносившиеся сюда через смежные комнаты, лишь усугубляли гнетущее чувство одиночества. Сейчас, когда внизу, куда был закрыт доступ ученикам, кипело веселье, юноше казалось, что учитель особенно далек от него.
– Рембрандт, – шепотом окликнул его маленький Хесселс.
Юноша промолчал.
– Ты спишь, Рембрандт?
Голос у Хесселса все еще высокий и тонкий, как у девочки.
– Да, сплю. Зачем ты будишь меня? Почему не лежишь спокойно? Постарайся лучше уснуть.
– Я старался, но ничего не выходит.
– Август подходит к концу. Еще четыре месяца, и ты поедешь домой в Дордрехт на Рождество.
– Я не потому. Я не сплю оттого, что все думаю, не рассердился ли ты на меня.
– С какой мне стати на тебя сердиться?
Не успел Рембрандт произнести эти слова, как уже понял: он поставил слишком рискованный вопрос, которого никогда бы не задал, будь у него время подумать о том, что произошло в мастерской. Перед самым ужином, когда он освежал водой свои покрасневшие глаза, Ларсен шепнул ему, что учитель задабривает Хесселса, посулив глупому малышу имбирные пряники. А так как Хесселс еще ребенок, он того и гляди может честно ответить на заданный ему вопрос, может сказать во всеуслышание: «С той стати, что я предал тебя и помирился с ним ради несчастного сладкого к ужину».
С минуту в воздухе, омытом лунным светом, носилось что-то вроде этого невысказанного ответа, а затем маленький ученик опять нарушил молчание, сказав с трогательным и неожиданным тактом:
– Я рад, что ты на меня не сердишься. Мне что-то нехорошо. Лучше бы я не ел этих пряников.
– Неудивительно, что тебе нехорошо, – раздался обессиленный, словно замогильный голос Ларсена. – Иначе и быть не может – ты слишком набил себе живот. Просто неприлично так набрасываться на пряники, тем более что учитель явно подкупал тебя. Полдюжины имбирных пряников, и вот ты уже опять кроткий ягненок и любимчик Ластмана. Скажи, Рембрандт… – Долговязое белое тело внезапно ожило, Ларсен приподнялся и сел на постели. – Я хотел спросить, что он сказал тебе, перед тем как вернулся. Милейшая матушка Алларта бубнила так назойливо, что мы ничего не расслышали.
В вопросе не было ничего злопыхательского, одно лишь праздное любопытство. Ларсен мало интересовался живописью, а Ластманом – и подавно. Откуда ему знать, что эпизод в мастерской оставил болезненный след в сердце Рембрандта?
– Ничего особенного, – ответил юноша и почувствовал, что сейчас ему хочется одного – не продолжать. Но, понимая, что иначе он не сможет высоко держать голову перед товарищами, добавил: – Он сказал, что не собирался заставлять меня так долго тереть краску. Сказал, что сожалеет об этом, – он заговорился с госпожой ван Хорн и забыл обо мне.
– Может, оно и так, – отозвался Ларсен, с тяжелым вздохом вытирая простыней потную грудь. – Но только сегодня он явно придирался к тебе – не одно, так другое. И так было весь день: что ни сделает ангелочек Алларт – все хорошо, что ни сделаешь ты – все плохо.
Не столь уж важно, прав или не прав Ларсен – он вечно всем недоволен и часто усматривает обиду там, где ее нет и в помине; тяжело другое – сознавать, что случившееся стало предметом пересудов. Слова соученика глубоко уязвили Рембрандта, и он чуть было не брякнул: «Приятнее, когда к тебе придираются, чем когда тебя не замечают» – учитель почти не обращал внимания на Ларсена и Халдингена, отделываясь кивком головы, когда видел на их мольбертах что-нибудь сносное, и молчаливо пожимая плечами при грубых ошибках. Но юноша вовремя спохватился: Ларсен не столько злобен, сколько глуп и в какой-то мере даже привязан к нему за то, что Рембрандт взял на себя однажды труд объяснить ему законы перспективы.
– Я понимал, что делаю не то, чего он требует. И даже ожидал нотации, – добавил он.
– Да, но не такой! Он разговаривал с тобой так, словно в самом деле невзлюбил тебя.
«В самом деле невзлюбил тебя…» Слова эти не давали ему покоя до тех пор, пока Ян Ливенс, стряхнув с себя тупое оцепенение, не приподнялся на подушке. Он подпер рукой голову и откашлялся, чтобы привлечь к себе внимание.
– Ты слишком серьезно воспринимаешь всю эту историю, Ларсен, – начал он с напыщенностью, в которую все больше впадал, по мере того как учитель охладевал к нему. – Я живу здесь дольше вас всех и могу вас заверить – все это ерунда. Этого никогда бы не случилось, будь у нас другой натурщик. Просто учитель видел его не так, как Рембрандт, а они оба слишком упрямы, чтобы хоть чуточку уступить. Завтра все пойдет по-прежнему, словно ничего и не случилось. Учитель ничего не имеет против Рембрандта, ровным счетом ничего.
Как хочется в это верить! До сегодняшнего дня Рембрандту даже в голову не приходило, что учитель может быть недоброжелателен к нему. Какие бы чувства ни обуревали юношу в его теперешнем тоскливом одиночестве, он всегда с искренней симпатией думал об этом добродушном, умудренном жизнью человеке, который с таким изяществом и юмором носил свое ожиревшее тело, об этом изобретательном художнике, умевшем превращать повседневность в легенду и фантазию. Он еще может допустить, что Ластман не испытывает к нему сейчас особой любви, но предположить с его стороны враждебность решительно отказывается.
– Он был очень любезен с тобой за ужином, Рембрандт, – сказал маленький Хесселс.
– Совершенно верно, – согласился Ливенс. – А почему бы и нет? У него впервые такой талантливый ученик – он сам мне это говорил.
Как ни нуждался Рембрандт в утешении, разум подсказывал ему, что к словам Ливенса следует относиться осторожно. Ливенсу хочется, чтобы учитель считал Рембрандта талантливым: Ластман принял его в ученики по рекомендации Ливенса. Кроме того, Ян все больше совершенствуется в искусстве обманывать самого себя. Он умудряется закрывать глаза даже на то, что ясно каждому, – что дни, когда он был в фаворе, давно миновали, что учитель отверг его и приблизил к себе ван Хорна. По словам же Яна получается, что если учитель слишком долго задерживается у мольберта Алларта, посматривая то на холст, то на лицо ученика, то делает он это отнюдь не из интереса к юному художнику или его работе, а из естественного стремления выказать особое внимание единственному отпрыску семьи, которая настолько знатна, что на Рождество и на Пасху сам принц Оранский присылает ей красивые печатные поздравления.
– А натурщик-то был препаршивый старикан, – сказал Ларсен, откидываясь на подушку. – Разве нарисуешь человека, который все время трясется? Даже там, где стоял я, слышно было, как от него разит вином. Надеюсь, завтра нам дадут писать натюрморт – мне не по вкусу такие модели, как сегодняшняя.
– Завтра мы опять займемся живой натурой, – ответил Ливенс.
– Кто будет позировать? – спросил Хесселс.
– Разве угадаешь! – отозвался Ларсен. – Думаю, что хозяин пригласит первого, кто подвернется.
– А вот я случайно узнал, кто будет моделью, – объявил Ливенс. – К нам придет натурщица.
В последнее время Ян постоянно подчеркивал свою осведомленность: ему известно, что будет дальше и где возьмут то-то и то-то, но его самодовольный вид вызывал лишь жалость и раздражение, потому что напускал он его на себя с одной, ясной каждому целью – напомнить другим о своем превосходстве и поддержать свой падающий авторитет.
– Кто она, Ян? – полюбопытствовал Хесселс.
– Уж не думаешь ли ты, что это жена президента Английской компании? – усмехнулся Ларсен.
Стоило в присутствии его упомянуть о женщине, как он разражался язвительными тирадами. Халдинген, которому он по глупости доверился, разболтал, что у себя в Копенгагене датчанин был помолвлен с дочерью владельца рыболовной флотилии, а она изменила ему с французом-портным, и отец заставил ее выйти замуж за соблазнителя. Эта потеря так чувствительно отозвалась и на сердце Ларсена, и на его кармане, что родители, опасаясь, как бы он не повесился с горя, отослали его в Амстердам.
– Зря волнуетесь. Ничего особенного она собой не представляет. Наверно, какая-нибудь старая потаскуха, вроде той, которую он привел с улицы в прошлом году.
Рембрандт собирался было спросить, в самом ли деле прошлогодняя модель была просто уличной девкой, но потом промолчал: подобный вопрос лишь дал бы датчанину повод посквернословить и прочесть проповедь о том, что всякая особа, носящая юбку, как бы набожна и сладкоречива она ни была, в душе непременно шлюха.
– Ее зовут Ринске Доббелс, – сказал Ян. – И к вашему сведению, она не уличная девка, а прачка.
– Прачка или не прачка, – возразил Ларсен, – а только женщина она непорядочная, раз соглашается стоять голой перед шестью парнями, которые ее рисуют.
– Голой? Мы будем рисовать ее голой? – взвизгнул Хесселс – голос у него вдруг опять стал как у девчонки.
Рембрандт тоже растерялся: нежданная весть взволновала его не меньше, чем этого тринадцатилетнего мальчишку. Пытаясь унять тревожно забившееся сердце, он уставился на белеющий в темноте потолок.
– Повторяю, – настаивал Ян, словно от этого зависело мнение Ластмана о нем, – она совершенно порядочная женщина. А позировать ходит только ради заработка.
– А кто ей мешает взять больше стирки? – возразил Ларсен. – Но конечно, стирать труднее, чем стоять и показывать свои прелести всем, кому охота на них полюбоваться.
– Право, Ларсен, – вмешался Рембрандт, сумев наконец совладать с дрожью, мешавшей ему заговорить, – я не вижу причин, дающих тебе основание распускать язык.
– Верно, – поддержал земляка Ливенс. – Я тоже не вижу.
– Ах вот как! А ради кого я должен его придерживать? Ангелочек Алларт больше здесь не ночует.
– Алларт нет, а Хесселс да, – ответил Рембрандт, остро сознавая, что тон его отдает педантизмом.
– И ты туда же, – сказал Ларсен. – Видно, ты, как и Хесселс, никогда не видел голой женщины.
– Как будет стоять эта Ринске – лицом к нам или спиной? – полюбопытствовал маленький Хесселс, который все еще сидел на кровати, охватив руками лодыжки и упираясь подбородком в колени.
– Ну, завел! – ответил Ларсен. – Учитель наверняка поставит тебя позади нее – ты же еще такой молодой и невинный. Но думаю, ты успеешь забежать спереди и посмотреть. Только осторожней – не подходи слишком близко…
– А почему? Она обидится?
Никто не ответил. Дверь скрипнула, вошел Халдинген и остановился в ногах своей несмятой кровати, озаренный ярким пятном лунного света.
Досадно, что он вернулся так рано: еще немного, и остальные бы заснули, а теперь все они, даже надменный Ян, обязательно поднимутся с постели – надо же послушать, как он забавлялся с соседской служанкой. Лицо Халдингена, отчетливо различимое сейчас в потоке белого света, напоминало маску и способно было принимать лишь три выражения: притворно внимательное, преувеличенно суровое и мимолетно радостное, когда быстрая улыбка обнажала его зубы – мелкие, хищные белые зубы под аккуратно подстриженными светло-каштановыми усиками.
Все, что Халдинген сообщил о своих похождениях в сарайчике для садовых инструментов, произвело на Рембрандта тем более тошнотворное впечатление, что он знал эту девушку и часто видел, как она с корзинкой на руке стоит у ограды, оживленно разговаривая с Виченцо. Это была болезненная, худая, как палка, особа с тугим узлом темных волос на макушке, в жестко накрахмаленном фартуке с нагрудником, под которым не заметно было ни малейшего намека на грудь, бедра и живот.
Но даже тогда, когда Халдинген завершил наконец свое хвастливое повествование и разделся, когда Ян заснул тяжелым сном, маленький Хесселс улегся и натянул на себя простыню, а Ларсен повернулся лицом к стене и голой спиной к соседям, наступившая тишина не принесла Рембрандту никакого облегчения. Правда, непристойные разговоры сослужили ему хоть ту службу, что отвлекли его от мыслей об учителе. Но теперь, в полном безмолвии, тревога опять овладела юношей, подступая к горлу, словно тошнота. Холодный укоризненный голос, глаза, избегающие его взгляда, вымученная примирительная улыбка… «Можно подумать, что он невзлюбил тебя». Да, можно, но почему? Из-за тупого вульгарного носа? Из-за домотканой куртки? Из-за того, что он, Рембрандт, – сын простого мельника?
Теперь уже вся комната была омыта чистым прохладным лунным светом. Простыни и потолок поглощали его и светились им; кувшин и таз отбрасывали длинные тени в его воздушную белизну; влажные пятна света, похожие на маленькие озера, мерцали на натертом до блеска полу. Лунный свет, слишком непорочный и нежный для грубых людей, которые прелюбодействовали и вели грязные речи в его безмятежном сиянии, успокоил юношу, помог ему сосредоточиться и хотя бы про себя прочитать молитву. Но на середине «Отче наш» он ощутил на щеках по-змеиному холодный след двух медленно скатывавшихся вниз слез. Почему?.. Ведь не случилось ничего плохого, по крайней мере настолько плохого, чтобы плакать.
* * *
Ринске Доббелс оказалась всего лишь ширококостной прачкой с приплюснутым носом. Августовское солнце, струившее сквозь высокие окна знойные дрожащие лучи, безжалостно подчеркивало ее угловатую грубость.
– Сегодня, – начал учитель, который, несмотря на гуся, вино и ночное веселье, выглядел вполне сносно, – нам посчастливилось заполучить женскую модель, первую за много месяцев. Я не ошибусь, ван Хорн, ван Рейн и Хесселс, если скажу, что ни один из вас еще ни разу не работал с обнаженной женской натуры. Итак, carpe diem – употребим время с пользой. С Ринске нам повезло – она редкостная натурщица: хорошо сложена и терпелива до бесконечности…
Учитель, несомненно, хотел сделать ей комплимент, но намек прозвучал двусмысленно и отдавал дурным вкусом. Прачка стояла неподвижно, ее грязного цвета глаза тупо смотрели на пустой мольберт, лицо ничего не выражало. Напрасно Ластман улыбается ей – лучше бы уж он вел себя так, словно перед ним гипсовый слепок или статуя, с которыми можно вовсе не считаться.
– А теперь попробуем не просто нарисовать Ринске, не просто как-нибудь запечатлеть ее, – продолжал учитель, не обращая внимания на неизбежные ухмылки учеников. – Давайте поупражняем наше воображение. И на этот раз, – Ластман не глядел на Рембрандта, а лишь рассматривал свой массивный перстень с агатом, – постараемся все стремиться к одной цели. Пусть то, что мы делаем, будет эскизом к полотну на библейский сюжет, наброском к большой, пышной, красочной картине о Сусанне и старцах. Представим себе, что нагроможденные позади нее предметы, – Ластман указал пухлым пальцем на красиво расставленную группу античных вещей, – это стена древнего города. Пол вот здесь, – учитель подошел к модели и носком башмака провел черту вокруг ее ног, – мы будем считать сверкающим прудом. А вот тут, на переднем плане, – он сделал несколько шагов назад, чуть не натолкнувшись на мольберт Яна, – вот тут могут быть кусты, вода, трава, скамеечка, словом, все, что хотите. Итак, Ринске, теперь ты – Сусанна.
– Да, ваша милость, – сказала прачка, не поднимая глаз и не поворачивая головы.
– Разденься, пожалуйста.
Она равнодушно сбросила платье и стояла теперь нагая и дряблая. На бедрах ее, уже начинающих расплываться, остались красные полосы от подвязок; на животе, большом, твердом, грубо мускулистом, виднелись крестообразные следы шнуровки. Кожа на грудях натурщицы была крупнозернистая, словно кожура высыхающего апельсина, а соски поразили Рембрандта своим темно-коричневым цветом.
– Теперь, Ринске, нам нужна испуганная поза, стыдливый жест.
– Да, ваша милость.
– Старцы прокрались вслед за тобой и подсматривают. Знакомо тебе это место в Апокрифе?
– Нет, ваша милость. Извините, незнакомо.
– Не беда, я объясню. Старцы, три дурных старика, прокрались за тобой, чтобы подсмотреть, как ты купаешься, и ты неожиданно замечаешь, что они рядом, ты слышишь их голоса. Ну, Ринске, хватай платье! Ты испугана: ты – добродетельная супруга и тебя ужасает мысль, что посторонние увидят тебя нагой.
Наклонившись вперед, прижав к себе красное бархатное платье, так что край его оказался между тяжелыми грудями, Ринске убедительно прикрылась. Страх, несомненно, сидел у нее в крови и костях, хотя, по всей видимости, бояться она привыкла не подсматривания и нескромных ласк, а ругани и побоев.
Внимание юноши отвлек шум слева: Алларт, добрый малый по натуре, не забыв, вероятно, о вчерашней постыдной сцене и желая показать, что она ни в коей мере не умалила его расположения к своему сотоварищу из Лейдена, придвигал свой мольберт поближе к Рембрандту.
– Если не возражаешь, – сказал он, поворачивая к новому соседу чистое, еще ребяческое лицо, – я посмотрю, что ты делаешь: у тебя ведь всегда получается не как у остальных. И потом, мне отсюда лучше видно.
Рембрандт был бы счастлив ответить на такую деликатность какой-нибудь изысканной фразой, которая выразила бы всю его радость и признательность Алларту. Но он не нашелся что сказать и только буркнул:
– С какой стати я буду возражать?
– Если у вас останется время, – закончил учитель, – неплохо будет набросать и старцев. Скажем, вот здесь, и здесь, и вон там, у городской стены. – Показывая, как должны располагаться фигуры, Ластман удивительно быстро и легко переходил с места на место. – Они похотливы, они в самом деле скверные старики и в эту минуту сгорают от вожделения.
– Несчастные старцы! – прошептал Алларт, скорчив унылую гримасу. – До чего у них скучная жизнь, если даже такая особа внушает им вожделение!
Услышь Рембрандт эти слова от Халдингена, Ларсена или Ливенса, он даже не обратил бы на них внимания, но в устах скромного Алларта ван Хорна такая шутка была и неожиданной, и знаменательной. Она могла означать лишь одно – Алларт делает новую попытку сгладить вчерашнее. Ван Хорн уважает его, быть может, даже любит; он готов на все, вплоть до вольных речей, лишь бы спасти их пошатнувшуюся дружбу.
– Да уж, к такой я не воспылаю. Мне нужно что-нибудь получше, – отозвался Рембрандт, поворачивая мольберт так, чтобы Алларту было лучше видно.
– Мне тоже.
Учитель отошел в сторону, послушный Алларт взялся за работу, и Рембрандту осталось лишь последовать его примеру. Сегодня он будет настороже и не повторит вчерашней ошибки: зачем навлекать на себя обвинения в тупости и своеволии, пренебрегая советами учителя, если они открывают такие соблазнительные возможности? Раз от него требуют, чтобы он увидел в натурщице Сусанну, значит, он и должен видеть в ней одну из тех изящных, легких на ногу девушек, которых он вместе с остальными учениками-плебеями встретит на именинах Алларта. Он устремил взгляд не на Ринске Доббелс, а на фестон розовой камки, драпировавшей потолочные балки, и ему удалось, несмотря на свою подавленность, мысленно представить себе лицо Сусанны: большие испуганные черные глаза, смотрящие поверх скомканного платья, округлый лоб, по которому струится вода, густые, насквозь мокрые волосы. Но когда он нанес все это на раздражающе яркую белизну бумаги, ему все-таки пришлось перевести взгляд на модель – без нее не сделаешь остального; и, едва начав рисовать тело, он уже знал, что вынужден будет стереть все сделанное раньше: грубая подлинность тела, на которое он глядел, опровергала выдуманное им лицо.
С каждой минутой натура все больше увлекала, даже захватывала его. Конечно, не как предмет вожделения: неудержимо нанося на бумагу одну резкую линию за другой, он делал это лишь потому, что собственная его плоть была зачеркнута и подавлена как тем, что он видел перед собой, так и тяжелой усталостью, неизбежным следствием вчерашнего дня. Тело Ринске было летописью всей ее жизни, летописью, читать которую было тем легче, что эта плоть не была утончена разумом или прикрыта обманчивой красотой. Усталая, согнутая спина говорила о привычке терпеть боль, лишения, тупое горе; обвисшие груди – о том, что они не раз набухали от молока, которое не понадобилось; огрубевшие соски – о том, что их безжалостно сосало Бог знает сколько нежеланных младенцев. Спина, живот и бедра были мускулисты, но в них не чувствовалось упругости, здоровья и молодости: это была сила окостеневшая, негибкая, развитая бесконечным повторением одних и тех же изнуряющих движений – Ринске слишком много и долго сгибалась над корытом, терла щеткой, выжимала белье. Руки ее стали шершавыми от мыла и воды, ноги – от ежедневного многочасового стояния – такими же мозолистыми и негнущимися, как у клячи.
– Не забывайте, что Сусанна – изящная молодая дама и добродетельная супруга, любящая и любимая, – напомнил учитель со своей античной мраморной скамьи.
Любящая и любимая? Рембрандт негромко фыркнул. Эта женщина, захватанная руками пьяных матросов и канатных мастеров в дешевых тавернах, насилуемая хозяином или его сынком на черной лестнице за те пять-шесть пенни, которые ей так часто сулят и так редко дают, – изящная молодая дама?
Алларт робко придвинулся к нему. Рембрандт повернул голову, посмотрел через плечо, и в глазах его сверкнула такая неуемная лихорадочная одержимость, что – он сразу же понял это – его дикий взгляд испугал кроткого бюргера.
– Что тебе, Алларт?
– Ничего… Я просто хотел посмотреть, что у тебя вышло. Да это же замечательно! Понимаешь, она у тебя подлиннее, чем в жизни. Но не лучше ли немного… э-э… смягчить ее, раз предполагается, что она Сусанна?
Но Рембрандту было уже не до Сусанны. Глядя на контуры выдуманного им образа, все еще проступавшие на бумаге, он чувствовал, что, не уничтожив их, совершит предательство по отношению к новому лицу, к той честной в своем безобразии голове, которую он нарисовал теперь. Он провел по мольберту рукавом грубой ворсистой куртки и начисто стер неясные линии.
– Да, пожалуй, смягчу, – согласился он, хотя понимал, что его слова не вяжутся с полубезумным видом и звучат глупо. – Понемногу я все приведу в порядок, – добавил он, продолжая рисовать точно так же, как прежде.
Затем, – вероятно, потому что, еще приступая к работе, он был уже вконец обессилен и поддерживала его лишь неистовая увлеченность своим открытием, – Рембрандт ощутил внезапную усталость. Он положил сангину на край мольберта, вздохнул и закрыл глаза. А когда он снова открыл их, ему почудилось, что мастерская стала какой-то незнакомой, словно он глядел на нее сквозь толщу воды: оттого что он так долго и возбужденно всматривался в модель, да еще выслушал благожелательное предостережение Алларта, глаза его заволокло влагой. Он еще раз взглянул на свой рисунок через эту мерцающую пелену. Смягчить его? В том смысле, в каком предлагает Алларт, – конечно, нет; но кое-что изменить все-таки нужно, особенно в лице. Как он ни подавлен сознанием своей грубости, как ни уязвило его неудовольствие учителя, его сердце и разум могут сказать больше, чем страдальчески говорит у него эта Ринске Доббелс. Могут сказать и скажут. Он снова схватил сангину и начал отделывать усталый рот, тяжелые веки, бесцветные водянистые глаза.
Где-то на колокольне раздался бой часов, но Рембрандт даже не остановился, чтобы сосчитать удары: он сейчас слишком занят вот этой вздувшейся на виске веной. Железный звон гулко разносился в тишине жаркого августовского полдня. Натурщики никогда не позировали больше часа, и время Ринске, несомненно, уже подходило к концу. Спина и шея ее согнулись еще больше, чем вначале, шершавые ягодицы начали нервно подергиваться, терпеливое лицо окончательно окаменело. Отерев рукавом вспотевший лоб, Рембрандт отступил на шаг, посмотрел на мольберт и понял. Одно из двух: этот рисунок либо шедевр, которого еще не видывала мастерская Ластмана, либо мерзкая, безвкусная и жестокая пакость. Смягчить его? Смягчить решительные линии, высветлить причудливое плетение растрепавшихся волос, стереть следы, оставленные на теле подвязками и шнуровкой? Нет, ничто, даже огорченные серо-голубые глаза Алларта, не заставит его пойти на это. И потом уже поздно: учитель, подавляя зевок, говорит:
– Хорошо, Ринске, теперь можешь одеться. Деньги получишь у Виченцо. Благодарю за услугу.
Запахнувшись в непривычно роскошное для нее алое платье, Ринске направилась к двери. Когда она проходила мимо его мольберта, Рембрандт встал перед ним и непроизвольно заслонил свой рисунок. Зачем ей видеть себя такой, какой ее увидел он? Зачем ей, склонясь над корытом или растянувшись измученным телом на постели в час милосердного сна, вспоминать все это уродство и опустошенность? У дверей она на мгновение задержалась, взглянула на красивую знатную женщину, которую сделал из нее Ян Ливенс, расплылась в бессмысленной и фальшивой улыбке, и Рембрандт с ноющей грустью подумал, что любое убожество, даже мазня, красующаяся на мольбертах Ларсена и Халдингена, понравится ей больше, чем то, что с таким трудом и с такой безмерной жалостью создали его сердце и разум.
– Что с тобой? – спросил, подбегая к нему, маленький Хесселс, чье грушеобразное личико было густо выпачкано кирпично-красной сангиной. – Почему ты прячешь рисунок? Неужели не дашь посмотреть?
– На, смотри. Только, по-моему, тебе не понравится.
– Почему не понравится? Почему?
– Потому что это никому не понравится.
В душе Рембрандт, разумеется, не верил своим словам: будь на самом деле так, он бы взял веревку, пошел в подвал, где Виченцо хранит вино, и повесился. Но когда так говоришь, становится легче – надо же дать какой-то выход переполняющим тебя чувствам.
– А почему это должно нравиться? – спросил он, вызывающе глянув через плечо на смятенное лицо сотоварища, ходившего в любимчиках у учителя. – Человек такая тварь, которая редко любит правду.
* * *
Питер Ластман встал с мраморной скамьи и медленно подошел к ученикам. Ему не хотелось давать оценку их «Сусаннам» – эта минута, которая могла бы достойно завершить для него утро, минута, предвкушение которой преисполняло его грузное тело и пробуждало отупевший мозг, минута, когда он надеялся наконец увидеть, что Алларт ван Хорн способен сделать из обнаженной женской фигуры, была для него заранее омрачена. Изящный юный бюргер, повинуясь порыву своего доброго сердца, придвинул мольберт так близко к мольберту лейденца, что на его рисунок нельзя смотреть, не портя себе все удовольствие созерцанием наброска его соседа. Как бы там ни было, думал Питер Ластман, ощущая во рту кислый вкус выпитого ночью вина, он постарается подальше оттянуть эту минуту. И он прошел мимо Хесселса, стоявшего так близко от места, где позировала натурщица, что густой августовский воздух был там, казалось, пропитан запахом женского тела.
Рисунок Хесселса, хотя и выполненный широкими размашистыми штрихами, как советовал учитель, был неумел и до смешного лишен каких бы то ни было пропорций – не женщина, а сплошные ягодицы и груди. Явная растерянность мальчика помогла Ластману удержаться от смеха: нет сомнения, что бедный малыш в первый раз увидел сегодня голую женщину. До чего же он трогателен. Сколько надежд он, вероятно, возлагал на обещанное зрелище и сколько оскверненных, расслабляющих ночей придется ему пережить, прежде чем он поймет, что женщины совсем не такие, какими он их себе представлял! А проявить внимание к Хесселсу совсем нетрудно – нужно только обнять рукой его хрупкие плечи и, не вдаваясь в подлинно серьезные разговоры о преувеличениях в рисунке, взять мел и самому исправить ошибки.
Несколькими легкими штрихами, без тени насмешки, Ластман исправил явные несообразности и привел рисунок в относительный порядок.
– Вот теперь сразу стало лучше. Всякий раз, когда мы даем себе волю, мы, естественно, заходим слишком далеко, – сказал он, с улыбкой глядя на грушевидное личико мальчугана.
Ларсен и Халдинген работали рядом, и учитель одновременно занялся обоими. Несмотря на посредственные способности, они все-таки могли бы достичь известного мастерства, если бы не были такими инертными: и, вспомнив, как Эльсхеймар поднял его самого от мастерства до подлинного величия, Ластман настолько энергично, насколько это позволял плохо переваренный вчерашний гусь, прочел им нотацию насчет вялости их рисунка. Сегодня в лице Ринске Доббелс им была предоставлена отличная возможность блеснуть, а что они сделали? Он прошелся сангиной по их невыразительным линиям. Вот как надо, вот так, вот так! Подлинный мастер своего дела, будь то даже простой резчик торфа, трепальщик пеньки или горшечник, никогда не позволит себе работать так плохо!.. Когда Ластман отошел от них, у него потеплело на душе от сознания выполненного долга. Теперь он опять может много дней не окунаться в мертвенную атмосферу, царящую вокруг их мольбертов, – всем ясно, что он не столько пренебрегает ими, сколько презирает их, и что виноваты в этом лишь они сами.
Но оставался еще Ян Ливенс, который столь же нетерпеливо, как и раньше, ожидал, когда учитель взглянет на его мольберт. Обойти Ливенса было нельзя, и Ластман заранее упрекал себя за чувства, которые испытывал к своему старшему ученику, вернее, за то, что не испытывал к нему никаких чувств. Обвинять Ливенса в назойливости он был не вправе: молодой человек уже давно отказался от попыток привлечь к себе внимание учителя. Осуждать чрезмерную пышность его живописной манеры он тоже не мог – это значило бы осудить самого себя: манера Ливенса была лишь несовершенной копией его собственной. Но вести себя так, словно то, что умерло в нем, еще живо, он тоже был не в силах: время научит Ливенса хоронить своих мертвых, как научило когда-то его самого. Только время идет медленно, а Ян жадно смотрел на учителя, и тому осталось одно – замереть в притворном восхищении перед работой, которая и вполовину не была так хороша, как можно было предположить по выражению его лица.









































