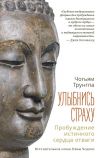Текст книги "Улыбнись нам, Господи"

Автор книги: Григорий Канович
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Только теперь Дануту осенило, на кого он похож, ну, конечно же, на пана Чеслава Скальского, безглазого, с руками-щупальцами и кнутом вместо стека.
Это он догнал ее в этой корчме, это он настиг ее этой сгустившейся жемайтийской ночью, опоил, как отравой, шампанским и заставил – Эзра! Эзра! – лечь в постель.
Ничего не изменилось с той сморгоньской поры. Ничего. Разве что цена стала иной.
Пан Крапивников-Скальский заплатит ей не усадьбой на берегу Окены, не домом напротив православной церкви, не зеркалами, забранными в позолоченные рамы, не гагачьим пухом, а свободой Эзры.
Свечи оплывали и гасли. Только лампа-упырь излучала скудное панихидное сияние, и от этого ощущение призрачности, сна, опустевшего балагана только усиливалось.
Юдл Крапивников наклонился к Дануте и попробовал поцеловать в губы.
Данута не противилась. Она и к этому отнеслась не как к горькой яви, а как к греховному сну с шампанским, свечами и – непременно! – с изменами.
– Не надо, – взмолилась она только тогда, когда его движения стали еще настойчивей.
– Ваш медведь отправился в берлогу спать. Так что вам нечего бояться… А Хесид? Хесиду можно заплатить за молчание, – как ни в чем не бывало продолжал Крапивников.
Как ни пытался он расшевелить Дануту, она по-прежнему держалась, словно на панихиде. То и впрямь была панихида по дорогам, по которым они кочевали с Эзрой, по Эзре, которого она недолюбила, по счастливому-несчастливому рабству, в которое она попала три года тому назад у разрушенного моста через Окену.
– Ради бога, не будьте печальной, – сказал Юдл. – Признаюсь вам, панна Данута, я мечтаю жить в стране, где слышно было бы только молчание. Никаких колоколов, никаких криков, никаких слез. В стране, где молча рождаются, молча живут и молча умирают. И чтобы в каждом городе, в каждом местечке выращивали молчание, и чтобы его можно было по дешевке купить.
– Хесид берет дорого? – внезапно сказала она.
– Меньше, чем за шампанское… Давайте, панна Данута, выпьем за страну молчания, где растут фиалки, которые срывают круглый год: весной и летом, осенью и зимой.
Он налил две рюмки.
– Прозит, панна Данута… Вы спрашиваете, сколько Хесид берет за молчание? Примерно столько, сколько за овес для лошади. Полтинник, два… Чем выше человек, тем его молчание дороже. У нас в уезде дороже всего стоит слово и молчание исправника Нуйкина. Только с ним лучше не связываться. Обязательно, бестия, обманет: заплатишь за слово, а он промолчит, дашь за молчание, а он всем выболтает.
– А мне?
– Что вам?
– Сколько вы заплатите?
– Как можно, панна Данута!.. Если вам нужны деньги… если вы нуждаетесь, то я всегда пожалуйста… только скажите, сколько?
Сон, сон, уверяла она себя. Стоит ей сегодня пересилить свое отвращение к этому Крапивникову-Скальскому, согрешить, как завтра Эзра снимет с себя медвежью шкуру, пойдет к доктору, встретится со своим отцом Эфраимом, со своими братьями Шахной и Гиршем, со своей настоящей, не кочевой, а оседлой еврейской жизнью, и эта жизнь исцелит его от всех напастей, среди которых самая страшная – ее… его… их… любовь…
У каждого своя жизнь, подумала Данута. Кто идет на виселицу, как Гирш, а кто среди жемайтийской ночи – в чужую постель. И еще неизвестно, чья казнь хуже.
Данута вдруг поймала себя на мысли, что своим грехом может скорее погубить Эзру, чем спасти, и первым ее желанием было встать, отхлестать Крапивникова по щекам, вылить ему в глотку оба штофа водки и оставить одного за этим столом, в этой темени, в которой, как и в стране молчания, не слышно ни колоколов, ни крика, ни слез.
– Панна Данута! Если бы медведь хотел вас видеть, он бы вернулся, – с бесцеремонностью победителя сказал Юдл Крапивников.
В самом деле – если бы хотел видеть, вернулся бы, не бросил, не оставил ее наедине с этим… двойником Скальского.
Порыв ее погас, и вместо желания мстить и глумиться пришла безболезненная, всеобъемлющая пустота, которая обволакивала, как сумрак. В этой сумрачной пустоте уже не было ни одной преграды, не горело ни одной свечи, только упырь раскачивался под потолком.
– Приходи, – сказал Юдл Крапивников, впервые обращаясь к ней на «ты». – Я буду тебя ждать.
– Панну Дануту в любую минуту? – хмыкнула она и, стараясь не скрипеть дверью, вошла в свою комнату.
Эзра спал, не удосужившись снять тулуп. От него пахло гарью и водкой.
Данута не собиралась его будить, ждала, когда он, услышав ее шаги, сам проснется, и сон со свечами, шампанским и изменой рассеется, исчезнет; Эзра обнимет ее, накроет опальным тулупом, и они, как всегда, сольются, как сливаются две речки по весне, страсть к слиянию которых так чиста и бескорыстна; Данута прижмется к нему, и он сквозь упругую стенку ее упругого живота услышит, как прорастает его семя.
Но Эзра не проснулся.
– Спишь? – спросила она.
Ни звука.
Данута пыталась растормошить его, но Эзра, пьяно и беспамятливо дыша, что-то бормотал спросонья.
Мрак обступил ее со всех сторон – даже звездочки не было видно.
Не зная, что делать, она принялась разуваться.
Сняла ботинки.
Чулки.
– Данута! – послышалось за дверью.
Юдл Крапивников царапал ногтями иссохшиеся доски.
– Данута!
– Господи! – выдохнула она и неожиданно, как в детстве, упала на колени.
– Данута!
– Если это правда, что ты такой сильный, такой могучий, то почему ты не можешь сделать нас счастливыми? Разве тебе несчастные более угодны? Чем несчастнее, тем угоднее?
Хмель улетучился. Дануту трясло, плечи ее дрожали в зыбкой ночной мгле.
– Если это не так, останови меня. Вот тебе моя рука! – Данута протянула руку; рука не тонула – темнота выталкивала ее на поверхность.
– Данута!
– Господи! Неужели кобель за дверью сильней тебя?
– Данута, – шепот Крапивникова сверлил дверь, как древоточец.
– Иду, – не то кобелю, не то Господу сказала Данута.
Встала, сняла с себя платье, бросила на кровать, обхватила руками голые груди.
– Иду!
Выскользнула за дверь.
И ослепила Юдла Крапивникова.
Когда она под утро вернулась, Эзры в комнате уже не было.
Данута опустилась на пустую кровать, накинула на себя вывернутый наизнанку тулуп, сглотнула тошноту, но горло сдавило, словно тисками, и через минуту из него хлынули балык и тетушка Стефания, шампанское и мельник Ниссон Гольдшмидт, икра и пан Чеслав Скальский.
Каждый должен изблевать свой грех, подумала Данута.
Но только не ребенка… дитя… помни, что летом фиалок уж нет…
II
Следствие по делу государственного преступника Гирша Дудака продолжалось. Ратмир Павлович Князев допрашивал его то в жандармском управлении, то в 14-м номере, куда неизменно ездил со своим толмачом, братом обвиняемого, Семеном Ефремовичем Дудаковым. Хотя долгие, длившиеся порой с утра до позднего вечера допросы ничего существенного к первоначальной картине преступления не прибавляли, Ратмир Павлович неукоснительно проводил их каждый день, не столько из казенных, сколько из каких-то личных соображений.
Шахна не понимал настойчивости своего начальника, злился на Князева, сочувствовал брату Гиршу, который по нескольку раз вынужден был отвечать на один и тот же вопрос, как будто от количества ответов зависело установление истины.
– Мы живем, Семен Ефремович, в одной стране, – сказал Ратмир Павлович после очередного допроса. – И, наверно, долго еще будем жить вместе. Из этого, ласковый ты мой (и откуда только он выкопал такое странное, неподобающее жандарму, обращение!), следует, что задача следователя не только обнаружить нить преступления, но и понять его причины. Почему вы, евреи, ласковый ты мой, первые бунтовщики в империи? Скажешь: обижают, но и нас обижают. И с нас, прошу прощения за вольность, снимают портки.
– Но нас, ваше высокоблагородие, секут и тогда, когда мы ни в чем не повинны.
– Нас! Нас! А русских, что, по головке гладят? Мир – если подойти к нему по-философски – тюрьма для всех.
– Но, согласитесь, ваше высокоблагородие, самые ужасные камеры в ней отведены для нас.
– Не спорю… Ваша камера не из лучших. Но разве дело в камере, в притеснениях?
– А в чем же?
– Такие, как твой брат, страшны не потому, что стреляют в генерал-губернаторов – генерал-губернаторов на Руси еще на десять столетий хватит! – а потому, что разрушают свой дом. Понимаешь, дом! – распалялся Ратмир Павлович. – В отличие от вас, мы, русские, бунтуем ради бунта, нам порой даже не интересно, чем он кончится, а у вас, у вас все расчет и выгода. Наши бунтари – мученики, а ваши – дельцы!
Семен Ефремович терпеливо выслушивал тирады Князева в надежде на то, что тот чем-нибудь поможет Гиршу.
– Не зли ты его, – упрашивал он арестованного Гирша, когда они ненадолго оставались одни в кабинете Ратмира Павловича.
Шахна был готов забыть все обиды, даже простить Князеву его нелепую шутку с заточением в 14-й номер – Семена Ефремовича бросало в жар, когда он вспоминал о бессонных ночах, проведенных в тюрьме под надзором неусыпного, как совесть, Митрича. При одном воспоминании о 14-м номере у него от ужаса по-кошачьи выгибалась спина, и по ней начинали ползать мурашки. Но он, Шахна, согласен был и не такое стерпеть, только бы спасти брата от виселицы.
Семен Ефремович нисколько не сомневался, что, несмотря на все требования двора в Петербурге и генерал-губернаторского дворца в Вильно как можно скорее закончить дело Гирша Дудака и передать его в суд, Ратмир Павлович намеренно затягивает следствие, пытаясь склонить Гирша, если не на свою сторону, то хотя бы к даче таких показаний, которые облегчили бы во время судебного слушания его участь.
– Полагаю своим долгом украшать отечество не виселицами, а всепобеждающей мыслью.
Вообще-то Шахна не задумывался, о какой такой всепобеждающей мысли говорит Князев и из каких побуждений он тянет волынку – то ли из простого человеколюбия, то ли из похвальной приверженности к истине, то ли из чувства мести генерал-губернатору (Ратмир Павлович считал его спесивцем и ничтожеством). Но и не задумываясь над этим или задумываясь мимолетно, Семен Ефремович испытывал к своему начальнику искреннюю благодарность, которую старался внушить и брату.
– Он лучше других, – сказал он однажды Гиршу.
– Жандармов не бывает ни лучше, ни хуже. Жандармы есть жандармы.
Больше всего Шахну поражала в Гирше не его непримиримость, не безжалостность к себе и к своим близким – отцу Эфраиму, жене Мире, ждущей ребенка, к Шахне, которого он, не колеблясь, назвал жандармским прихвостнем, – а отсутствие каких бы то ни было сомнений.
– Жандарм тоже человек, – отстаивал свою правоту Шахна. – Бог создал разных людей и перемешал в них глупость, ум, добро и зло, как перемешаны в земле дерьмо и золото. Отсюда, брат, все беды.
– Оттого, что перемешал?
– Оттого, что и они, и вы не считаете друг друга людьми. А когда другого не считаешь человеком, то никогда никакой вины за собой не чувствуешь.
– Вины за что?
– За то, что казнишь, стреляешь, сжигаешь на костре – ведь перед тобой не живое мясо, а только мишень. Мишени не жалко.
Может, потому, что Шахна видел в Князеве не только мишень, но и живого человека, он уповал на его помощь, и Ратмир Павлович, казалось, оправдывал его надежды. Полковник делился с ним сокровенным, даже признался ему, что сочиняет стихи (скажи Гиршу, что Князев – стихотворец, и брат поднимет тебя на смех!). Чем дальше, тем доверительнее становились их отношения. Дело доходило до того, что Ратмир Павлович иногда даже поручал Шахне вести за него допрос.
– Порасспрашивай его малость, – говорил, бывало, Ратмир Павлович. – А я, ласковый ты мой, сбегаю на примерку.
В такие минуты Шахна с опустошительным нетерпением ждал, когда Ратмир Павлович вернется, молил Бога, чтобы портной скорей примерил на него шинель или выходной костюм (Князев обожал менять наряды).
– Ну, чего молчишь? – подтрунивал над ним Гирш. – Спрашивай, господин жандарм!
– О чем?
Молчать бывало еще трудней, чем спрашивать.
– Спрашивай, где достал пистолет?
– Действительно, где?
– Ты что – стреляться надумал?
Шахна покорно, даже с какой-то тихой радостью сносил его насмешки, чувствовал в них не только презрение, но и скрытую любовь. Возможно, никакой любви не было, а была только жалость или жалостливая зависть, которая еще больше усиливала желание Семена Ефремовича помочь брату.
Не очень-то рассчитывая на свои силы, Шахна решил обратиться за помощью к какому-нибудь адвокату – желательно с именем. Семен Ефремович не сомневался, что его начальник знает всех присяжных поверенных наперечет и что Ратмиру Павловичу не составит никакого труда свести его с одним из них.
– Кого же тебе присоветовать? – задумался Князев, когда Семен Ефремович обратился к нему с просьбой. – Все они продувные бестии. Погоди, погоди, сейчас кого-нибудь вспомню.
Князев был знаком со всеми судьями города, знавал и присяжных, но никогда ни с кем из них не встречался в публичных местах, предпочитая ломберные столики и загородные дачи. Ничего не поделаешь. Какова служба, таков и удел – видеть всех и оставаться невидимым, слышать всех и оставаться неслышным.
– Лучший присяжный в Вильно, пожалуй, Эльяшев, – все еще о чем-то раздумывая, ответил Ратмир Павлович.
– Наверно, дорого берет… – опечалился Семен Ефремович.
– Кто берет дешево, тот не защитник… Может, с помощью Эльяшева твоего братца еще удастся спасти. Только бы он перестал твердить как попугай: «Я хотел его убить! Я хотел его убить!». Ну ничего, Эльяшев – тертый калач, он подучит его, собьет с него геройскую спесь. Где это слыхано? Из-за того, что казаки задницу расписали – на виселицу? Сходил бы в баню, попарил бы исполосованное место и грех бы с России снял. – Ратмир Павлович смахнул прилипшую к мундиру белую нитку. – Блондинка… Пусть твой братец-герой твердит: «Я не помнил себя… не помнил себя… не помнил себя…» Понял?
– Понял.
– Невменяемых суд щадит. Верку Засулич даже помиловали.
В тот же день Шахна разыскал в городской адресной книге фамилию присяжного поверенного Эльяшева. Эльяшев жил на Ягеллонской улице в собственном двухэтажном доме. «Кто дешево берет, тот не защитник», – вспомнил Семен Ефремович.
Прихорашиваясь на ходу, Семен Ефремович позвонил. Дверь открыла горничная в легком кружевном чепце. Она была похожа на бабочку, угодившую в сачок – только крылышки, только пыльца, только трепет.
– Мне бы господина Эльяшева.
Шахна ни минуты не сомневался, что она ответит: «Господина Эльяшева нет»; она так и ответила, но он был к такому ответу готов – еще бы, не пускать же каждого голодранца! – и принялся втолковывать горничной, кто его прислал.
– Князев, Князев, – повторяла она за ним, пытаясь вырваться из сачка и упорхнуть.
– Полковник Князев, – объяснил ей Шахна.
– Вы – полковник Князев? – спросила горничная.
– Нет, нет.
И Семен Ефремович начал объяснять ей все сначала: он не полковник, он служит у полковника, полковник посоветовал ему обратиться только к господину Эльяшеву. Только!
– Подождите минутку, – сказала она и упорхнула.
Черта с два принял бы он меня, с досадой подумал Шахна, приди я к нему без рекомендации, хотя Ратмир Павлович и уверял, что отец у присяжного поверенного – обыкновенный столяр. Неплохого сынка смастерил! Ничего не скажешь.
– Михаил Давыдович, – вернувшись, прошелестела бабочка, – согласился принять вас, но ненадолго. Проходите.
Присяжный поверенный Эльяшев сидел за дубовым столом и курил большую, прокопченную трубку. У ног его лежала крупная, как теленок, собака – пятнистый лопоухий дог. Он смотрел на Эльяшева глазами влюбленного фавна.
– Не бойтесь, – сказал присяжный поверенный. – В этом доме кусается только хозяин.
При этих словах Эльяшев встал из-за стола и, постукивая себя мундштуком трубки по лбу, спросил:
– Чем могу быть полезен?
– Прошу прощения, – пробормотал Семен Ефремович, оглядывая стены, увешанные яркими персидскими коврами и охотничьими трофеями (Эльяшев, видно, был страстный охотник). – Я не представился. Дудак… Шахна…
– Как вы сказали?
– Дудак.
– Не брат ли вы того… несчастного рабочего, который…
– Брат.
– А Князев тут при чем?
Шахна почувствовал, что от его ответа зависит многое, если не все.
– Князев порекомендовал мне вас… Я служу у его высокоблагородия переводчиком. Перевожу с родного языка на русский и с русского на родной.
– Так, так, – Эльяшев постукивал себя трубкой по лбу, словно будил прикорнувшую мысль.
Дог подошел к Шахне и обнюхал его, как подстреленную дичь.
– Ваш брат не только его высокопревосходительству генерал-губернатору испортил настроение, – сообщил Эльяшев. – В тот вечер и я был в цирке. Цирк – моя слабость, а Мадзини – мой кумир.
Эльяшев говорил о чем угодно, только не о деле Гирша, прочистил и набил свежим табаком трубку, потрепал собаку за уши; дог ткнулся мордой в пах хозяина, сладострастно повел ноздрями и снова улегся у его ног.
– Мне ужасно нравятся канатоходцы. Они чем-то напоминают нас, присяжных. Разве суд не тот же канат, по которому защитник ведет подсудимого через пропасть? С виселицы ли, с каторги ли.
Дог царапнул лапой его замшевый ботинок.
– Рекс! – прикрикнул на него Эльяшев. – Я знаю, зачем вы пришли, – обратился он к Шахне. – Но я, увы, сейчас занят, очень занят – веду через пропасть других: корчмаря Ешуа Манделя и его мнимых сообщников. Слыхали небось?
– Россиенский навет?
– Да. Дело длится уже два года. Мой друг и коллега присяжный поверенный Мирон Александрович Дорский даже успел за это время умереть в суде. Боюсь, что и я могу в один прекрасный день сорваться с каната, и прощай Рекс, прощай истина, прощай справедливость!
– Да продлит Господь ваши дни, – искренне сказал Шахна. У него, наверно, кроме Рекса и бабочки в сачке, никого нет, подумал он. Каждому Бог чего-то недодает – даже присяжному поверенному.
Семен Ефремович понимал всю бессмысленность своего положения, но не спешил уходить. Дог-фавн пялил на просителя свои водянистые, преданные глаза мужеложца и тихо поскуливал; незатейливо и обреченно, как и его, Шахны, мысль, из трубки вился табачный дымок.
Шахна думал о доге, о турецком табаке и никак не мог заставить себя сдвинуться с места.
Какое-то странное оцепенение охватило его; не хотелось никуда идти, не хотелось возвращаться ни на Большую, ни в жандармское управление; хотелось висеть на стене картиной, лежать у чьих-то ног догом; трепыхаться, как бабочка в сачке, попеременно представлять себя то охотником с ягдташем, то окровавленным лосем, только не быть тем, кем он, Семен Ефремович, на самом деле был.
– Не скрою, – смягчился Эльяшев, – мне доставляет большое удовольствие выигрывать у смерти… я попытался бы выиграть у нее и Гирша Дудака, я правильно говорю: Гирша Дудака?
– По-вашему, его еще можно выиграть? – с надеждой спросил Шахна.
– Можно, – подтвердил тот.
– Господин Эльяшев, – взволнованно произнес Шахна. – Я могу вам дать расписку.
– В чем?
– В том, что выплачу вам все деньги… буду жить впроголодь… буду по ночам переписывать Тору… я умею…
– Я не нуждаюсь в деньгах, – сказал Эльяшев и продолжал: – Вашего Гирша можно выиграть у смерти, если вы и ваш начальник не будете слишком подыгрывать ей.
– Мы, господин Эльяшев, разные люди.
– С кем?
Семен Ефремович старался закрепить в сознании Эльяшева его обещание, но отмолчаться он не мог; вопрос присяжного поверенного требовал ответа.
– С его высокоблагородием Ратмиром Павловичем Князевым, – не смалодушничал Шахна.
– Люди вы, быть может, разные, но служите одному делу.
В наступившей тишине даже теплое дыхание дога казалось грозовым.
– Вы ошибаетесь, – горячо возразил Шахна, обиженный непониманием.
Тут нужны были другие слова, другие доводы, но их, как назло, не было; Семен Ефремович почувствовал противную слабость сперва в ногах, потом в груди; гостиная как бы исказилась, и теперь стрелки на картине приняли облик Ратмира Павловича, надзирателя Митрича, Крюкова, а в падающем на бегу лосе он увидел себя.
Семен Ефремович даже притронулся к отяжелевшей голове – нет ли на ней следов крови.
– Каторжников и мертвецов поставляю не я, – твердо сказал Эльяшев, совершенно не заботясь о том, как встретит его слова гость.
– По-вашему, я их поставляю?
– В известном смысле – да.
– Побойтесь бога! – воскликнул Шахна.
Он тяжело дышал.
Князев, Митрич и Крюков двигались с ружьями прямо на него, и не было ни одного кустика, ни одной воронки, куда можно было бы от них скрыться.
– Ванда! – крикнул Эльяшев.
Господи! Неужели он уйдет ни с чем? Неужели Эльяшев откажет ему только за то, что он служит в жандармском управлении? Но Гирш Дудак, Гирш Дудак нигде не служит.
Он так и сказал Эльяшеву:
– Мой брат нигде не служит. Он простой сапожник.
– С судебной и нравственной точки зрения он – убийца, которому не удалось осуществить свой замысел или удалось осуществить только частично. Признаюсь вам честно, господин Дудак, мне глубоко противны любые убийцы, а евреи – особенно. Мы народ книги – ам сефер… Библия – наше отечество. Вы, полагаю, лучше меня знаете все заповеди. Недаром там сказано: «Не убий!»
Появилась Ванда и, к удивлению Шахны, не выпроводила его, а принесла апельсиновый сок и сыр, поставила на маленький отполированный столик и бесшумно исчезла.
– Угощайтесь! – сказал Эльяшев.
Запах апельсина дразнил ноздри, но Семен Ефремович не отваживался первым притронуться к соку. Слабость у него прошла, и стрелки на картине в высоких ботфортах и широкополых шляпах уже не походили на жандармов.
– Угощайтесь!.. – настойчиво предлагал хозяин, и Шахна отпил глоток.
– Я могу взяться за защиту вашего брата только в том случае, если россиенское дело пошлют в Петербург на доследование и если… – Эльяшев откусил кусочек сыра.
– Если… – поторопил его Семен Ефремович.
– Если ваш брат на время суда станет моей тенью. Сейчас поясню свою мысль.
Эльяшев отломил еще один кусочек сыра и протянул догу.
– Ваш брат должен – хоть на время суда – отказаться от своих убеждений.
– На это он не пойдет.
– Я же не сказал: «на все время». Я сказал: «на время суда». После суда он сможет снова проповедовать свои идеи, а на суде пусть кается и клянется, что больше никогда не поднимет руку на власть предержащих.
– Вы плохо знаете моего брата.
– Зато я хорошо знаю русское судопроизводство. Мы можем, господин Дудак, выжить только так.
– Как?
– Отказавшись от своих убеждений. Оставим их до лучших времен, когда у нас будет собственный дом, собственный суд и собственные губернаторы.
Семен Ефремович был уже не рад, что послушался Князева и из всей виленской адвокатской братии выбрал Эльяшева. Он, Шахна, пришел сюда не для того, чтобы выслушивать его оскорбления. «Поставщик каторжников и мертвецов!» Ничего себе тавро! Да если он, Эльяшев, хочет знать, Шахна и служит там только для того, чтобы мертвецов и каторжников было меньше! Разве не его заслуга в том, что избежал каторги этот Кремер или Кример, которого поймали с ворохом подметных листков? И потом, не всем же быть присяжными поверенными, кто-то должен и другим делом заниматься; заниматься, стиснув зубы, мучаясь и страдая. Может, Господу Богу страдания человека более угодны, чем его занятия?
В душу Семена Ефремовича вдруг закралось подозрение, что своими высокопарными рассуждениями Эльяшев пытается прикрыть свое нежелание защищать Гирша, что за всем этим кроется простой расчет, что единственным убеждением Михаила Давыдовича была выгода. Что значат для него жалкая расписка, бумажное обязательство? Деньги на бочку – до суда или после. Хорошо и до, и после.
Эльяшев больше ни о чем его не спрашивал, помешивал ложечкой апельсиновый сок, облизывал ее, как ребенок, морщился, похрустывал сухим деревенским сыром, задумчиво молчал, и Семен Ефремович понял, что время его истекло. Он встал, поклонился и направился к двери.
– Постойте! – остановил его Эльяшев.
Дог, знавший назубок все команды хозяина, преградил Семену Ефремовичу дорогу.
– Постарайтесь уговорить брата, – промолвил Эльяшев.
– Это невозможно.
– В жизни все возможно. Рекс, на место! – крикнул Эльяшев.
Дог походкой сожителя вернулся к столику, за которым сидел хозяин.
– Виселицу сколачивают из тех же досок, что и стул. Пока топор и доски в руках вашего брата, – сказал он после некоторого размышления.
– Он скорее пойдет на смерть, чем изменит себе, – отрезал Шахна.
– У него есть жена… дети? – неожиданно спросил Эльяшев.
– Жена… беременная…
– Человек, который сознательно может сделать сиротой своего ребенка, вряд ли достоин защиты.
– Господь велит защищать всех.
– Но у него только один голос.
– Не понимаю.
– Я говорю: в суде решает не голос Бога, а голоса присяжных. Обдумайте, господин Дудак, мое предложение. Вы же видите брата каждый день?
– Каждый.
– Объясните ему, что все мы… и я., и вы… и даже барон Ротшильд должны уповать только на одну защиту – на собственное унижение… Ванда, проводите господина Дудака.
Бабочка выпорхнула из сачка, замахала крылышками и, осыпая Семена Ефремовича пыльцой, увлекла за собой к выходу.
Молиться Шахна, как и прежде, ходил в синагогу ломовых извозчиков. С тех пор как он покинул раввинское училище, она была для него вторым домом. Иногда Семен Ефремович ловил себя на мысли, что другого дома у него и нет. Разве назовешь родным домом тесную сырую квартирку на Конской? Или ту, куда он, отдав половину своего месячного жалованья, переехал после поступления на службу в жандармское управление.
В синагоге ломовых извозчиков Семен Ефремович чувствовал себя не Дудаковым, а Дудаком, Шахной, сыном каменотеса Эфраима. Ему нравилось сидеть в ней и слушать, как певчие в камилавках, в черных сюртуках с белыми накрахмаленными воротниками поют какой-нибудь псалом, как кантор Исерл своими руладами забирается на снежные вершины Хермона и даже выше, к самому вседержителю. Шахну приводило в трепет не только пение, но и праздничное, волнующее сияние свечей, высветлявших его далекое детство, мать Гинде в парике и чистом переднике, в кармане которого умещалась вся сладость мира – два-три как бы светящихся сквозь ситец леденца.
Синагога ломовых извозчиков нравилась ему и тем, что сюда приходили молиться и его бывшие наставники – рабби Акива и рабби Элиагу.
Пусть знают: он, Шахна, не отрекся от своего Бога, от своего племени, от тягучих и заунывных молитв, от которых душа выпархивает из груди, как птица из железной клетки, чтобы, покружив над землей, обратно вернуться в свой застенок.
Ни Мама-Ротшильд, завсегдатай молельни, ни почтенные старцы рабби Элиагу и рабби Акива никогда не спрашивали, на что же променял он раввинское училище, где служит, да и он считал за благо не распространяться об этом (Ратмир Павлович просил до поры до времени не разглашать этой тайны), – ежемесячно жертвуя на благотворительные цели, он и сейчас собирался вручить синагогальному старосте Хаиму полновесный червонец, отмахивался от благодарных слов, впитывал взамен и в награду запечную мудрость притч и иносказаний, хлестких пословиц и поговорок, не допуская и мысли, что его тайна когда-нибудь откроется, – ведь на службу он старался приходить ни свет ни заря, когда Вильно еще спит, а уходить оттуда за полночь.
Шагая по Ягеллонской вверх, Шахна все еще не мог отделаться от горького, саднящего чувства, оставшегося после разговора с Эльяшевым. У Семена Ефремовича было такое впечатление, как будто он полдня блуждал по темному дремучему лесу, где каждое дерево изрыгало на него проклятия и каждая стежка вела к погибели. Шахна вдруг вспомнил притчу, которую почтенный рабби Элиагу рассказал ему еще тогда, когда он пасся на невянущих лугах священной Торы.
– Что мне делать, – спросил у него Шахна. – Почему в течение тех часов, которые я посвящаю занятиям и молитвам, я чувствую жизнь и свет. А когда прекращаю, все уходит?
– Представь себе, сын мой, темный, дремучий лес. По нему ночью идет человек. Вдруг он встречает другого с лампой в руке. Некоторое время они идут вместе, на перекрестке расстаются, и первый должен продолжить путь в одиночку. Если человек несет свет с собой, он не побежит за лампой, ему нечего бояться, – ответил рабби Элиагу.
Воскрешая в памяти разговор с присяжным поверенным Эльяшевым, Шахна представлял Михаила Давыдовича тем, кто идет через лес с лампой, в то время как себя он отождествлял с тем, кто продолжает путь в одиночку и несет свой невидимый свет с собой.
Все несчастье Гирша, подумал он со щемящей, покалывающей лицо жалостью, все его несчастье заключается в том, что путь его ведет только до перекрестка. Там, на перекрестке, он остановится: его лампа светит только тем, кто с ним заодно.
И все же… Все же он попытается поговорить с братом, убедить его. А вдруг случится чудо! Вдруг Гирш пожалеет и себя, и своего будущего ребенка, и отца Эфраима, и его, Шахну. Ведь мир без жалости, что без света.
Завтра, когда его привезут на допрос, Шахна улучит удобный момент и обсудит с ним предложение Эльяшева. Это, конечно, гнусно, но для того, чтобы ощутить в себе свет, надо погрузиться во мрак и захлебнуться им.
Первым, кого Шахна увидел в молельне, был его старый знакомый Мама-Ротшильд.
При виде Мамы-Ротшильда Шахна вспомнил, как еще совсем недавно он спал вместе с ним на жесткой синагогальной лавке, мыл тусклые – не свечной ли воск застыл в них? – окна, дощатый пол, который по-зимнему хрустел под ногами, вспомнил, как в его горячечные, греховные сны приходила дочь антиквара Юлиана Гавронская, как он бредил ее именем, как Мама-Ротшильд тормошил его и испуганно приговаривал: «Нашего Бога зовут не Юлианой, а Элохим… Элогейну…»
Семен Ефремович еще издали улыбнулся нищему, но тот, видно, не заметил его улыбки; сидел, скорчившись, подогнув усталые ноги, и что-то чуть слышно шептал. Шахна знал: Мама-Ротшильд повторяет ту же молитву, что и в прошлом году, что и в позапрошлом, что и десять лет тому назад. То были не слова из Священного Писания, а собственный псалом Мамы-Ротшильда, сочинил он его, видно, когда еще был молодым. Никто из богомольцев не ведал о содержании его молитвы. Как только кто-нибудь приближался к Маме-Ротшильду, он тут же замолкал или пристраивался к общей молитве. Кантор Исерл и синагогальный староста Хаим уверяли, что Мама-Ротшильд не молится, а по-русски материт всех: и бога, и околоточного, и раввина.
Кроме Мамы-Ротшильда в синагоге ломовых извозчиков никого не было. До вечерней молитвы было еще далеко; богомольцы соберутся только через полчаса. И Шахна даже обрадовался, что никто не будет приставать к нему с расспросами.
Поначалу Шахна подумал, что Мама-Ротшильд не узнал его: как же, сбрил пейсы, ходит, как немец, в чесучовом пиджаке и шляпе, в модных ботинках, носки которых смахивают на утиные клювы.
– Здравствуй, Мама-Ротшильд, – поприветствовал его Семен Ефремович. – Ты что, не узнаешь меня?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!