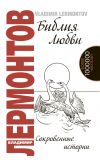Текст книги "Муж, жена и сатана"

Автор книги: Григорий Ряжский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Череп, услышав грохот, метнулся на коврик и, сомкнув веки, сжался в новом страхе. Уши его мелко подрагивали, хвост намертво вдавился в щель между задними лапами, шумерский нос моментально стал сухим и горячим. Весь вид его вещал о том, что животное серьезно нездорово и будет справедливым пока оставить его в неприкосновенности.
Это была суповая кастрюля, наибольшая по диаметру из всех гуглицких кастрюль. Она стояла на дальней по высоте открытой полке, нависавшей над плитой, поскольку потребность в ней была минимальной. В таких количествах мало когда приходилось готовить, и Прасковья убрала ее подальше от остальной, нужной для кухни посуды.
– Ну смотри, Ад, – Лёва задумчиво почесал бороду и уставился на перевернутую кастрюлю, – чтоб такую дуру оттуда скинуть, нужно как минимум туда взобраться. А чтоб взобраться, надо, по крайней мере, или стул подставить, или же длинное что-нибудь иметь. А где оно, длинное? – Лёва окинул взором кухню в поисках подходящего длинномера.
– Или самому таким быть. Длинным, – подхватила его мысль Аделина.
– Иль диаволом, – осмелилась вставить и свое слово совершенно угнетенная произошедшим Прасковья, – демоном насущным, чертом. А командует всеми ими сатана, иначе как бы они столько нашего наломали да попортили. И рук им не надо, ни длинных, ни каких, они это с лету творят, безо всяких конечностей. А как натворят, так смеются после, чего, мол, наделали. – Кряхтя, она нагнулась, подняла кастрюлю с пола, повертела в руках и поставила на стол. – Я в ей теперь суп варить не стану, как хотите. Про́клятая она теперь и заразная, они ж ее собой касались.
– Как же касались, если, сама говоришь, без рук? – удивился Лёва. – А даже если и касались, что ж нам теперь с голоду всем подыхать? Завтра он сковородку свалит, потом сервиз чайный перебьет, а после за холодильник примется! Продукты таскать начнет! – Он соорудил на лице театрально-серьезную мину и, напустив на себя игривую важность, отдал распоряжение: – Значит, так, давай-ка завтра грибной суп приготовь, в этой самой кастрюле. Из принципа. Навари на всю неделю, в ответ на их агрессию. Да и не ели давно, охота мне грибного чего-то, со сметанкой.
Прасковья ничего не ответила, молча развернулась и пошла к себе переживать услышанное. Надо было еще осмыслить, чего ей сказал хозяин, об чем. Понять слова можно было и так, и этак. И нужно было угадать и не ошибиться – на кону стоял выбор: послушание или ж смерть от руки нечистого. И там уж неважно от какой – от длинной иль от короткой.
– Ну зачем ты так с ней, Лёв? – Ада подняла на мужа глаза. – Она же все за чистую монету принимает. Она же теперь спать не будет из-за твоей кастрюли.
Гуглицкий и сам не понимал, для чего он избрал этот дурацкий тон. На душе было не то чтоб совсем уж пакостно, но как-то все же неспокойно. Тревога, зародившаяся в его кишках в тот момент, когда он услышал звук падения тяжелого предмета, была настоящей и по делу. Выходит, рано они с Адкой радовались переменам в жизни. И тот, кто все это осуществлял, определенно хотел этим что-то доказать. Или дать понять. Только что? И кому – ему? Адке? Обоим? Лёва знал и, несмотря на весь присущий ему по жизни оптимизм, все теми же кишками чуял, что тревога эта вот-вот перерастет в реальный, а не придуманный или бутафорский ужас. Он реально не мог понять, чего от них хочет этот черт. Разве что месть? Ну Адке, с ее ангельским характером, обходительными манерами, высоконравственным образом жизни и подвижническим типом личности – просто не за что, ни по какому, откуда ни посмотри, исключено абсолютно. Ну не могла она нарваться, при всем желании. Да и про себя, в общем-то, особенно вспомнить и нечего, если речь о серьезном вести, о реальной, скажем, подлянке в реальный адрес. Ну разве что, лет восемь тому назад кидняк случился, в Барнауле было дело, недалеко там. Сразу после путча, когда жрать было нечего – почти как сейчас, но намного хуже. С Мишкой туда ездил, со Шварцманом. В пополаме вещь брали, так им было на ту пору спокойней, обоим. Он, конечно, тот еще перец, Мишаня, но дело знает. Сам ушлый и дико обаятельный, и это его преимущество так же работало на обоих. Мишка, зная такую свою интересную особенность, предложил сорок на шестьдесят, не в Лёвкину пользу, конечно же. Типа его заслуги в деле больше. Только Лёвка на это не повелся и остался неколебим в изначальном равновесии сторон. И Мишке пришлось пойти напополам, но все равно получалось хорошо. А главное, что в итоге не они кинули, а их, на четвертак зелени. Те предъявили оригинал, а при передаче всучили фуфел. А Лёвка с Мишкой, два пронзительно-клинических идиота, оба из первейшего списка московских коллекционеров, лоханулись как пацаны: не стали упаковку разворачивать, в голову не пришло, не принято в их среде такое. Да только люди те не из среды оказались, а подставой еще одних людей, других, промежуточных. И исчезли с концами на просторах СНГ. А призрак несуществующей мести, на который теперь он, Лёва, стоя на диавольской кухне, грешил, так и остался призраком, поскольку отомстить за то негодяйство удалось лишь Мишке, а не обоим им. Шварцман не поленился, людей тех нашел, потратив на это полразмера нехорошего долга, и потому такая же половина, из возвращенных, стала теперь по праву принадлежать одному ему, а не обоим. Лёвка не возражал против такого расклада, а только порадовался за Мишку и за его удачу. Но людям тем, знал, сделали плохо. Может, даже совсем-совсем нехорошо сделали. Так о чем речь? А о том, что корил себя после за то, что за Мишку порадовался. Нельзя радоваться было, нельзя и все тут. Даже если все по справедливости для Мишки вышло. Сам он, Гуглицкий, конечно же, абсолютно тут ни при чем. Но осадок, как говорится, остался. Так, может, о нем теперь и речь, но только не впрямую, а через эту кастрюлю и все остальное, с пишущей машинкой, ковшиком для яиц, с занавесками, тапком и Гоголевой клеткой? За осадок тот? За него и платят они с Адкой?
Другого ничего, как ни крутил, на ум не пришло. В остальном все было безупречно, если брать по работе и откинуть тему удачи – неудачи: но это как повезет, без захода в область нравственных сомнений. Прочее же вообще не имело смысла проворачивать в голове: не было там ни антикварного оружия, ни предметов старинного быта, ни невозврата долгов – так на что грешить будем, господа?
Внезапно Лёва очнулся от мемуарного настроя и резко сменил тему:
– Так покупаем Интернет или как?
– Разумеется, Лёвочка, что за вопрос? – Ада тоже уже успела обдумать старания непрошеного квартиранта. – Для начала пройдусь по сети, поищу способы борьбы с барабашками.
Через неделю после кастрюли пришел спец из районного сервиса и установил модем. Всю эту неделю, пока его ждали, как назло стояла мертвая тишина. Лёва опять не знал, что и думать. Ничего не падало, не задиралось на подоконник, не ломалось по электрической части и не отражалось на работе нового компьютера. Призрак снова будто исчез, не проявляя ни малейших признаков обитания в домашнем пространстве. Гоголь, ощутив новое положение дел, молчал, взяв, по-видимому, перерыв санаторного типа. Череп вел себя так, словно жизнь его удалась изначально и продолжает складываться наилучшим образом, хотя мало кто в это мог поверить. Эти двое в отличие от двуногих каким-то отдельным чутьем безошибочно распознавали наличие или отсутствие в доме посторонних сил. И если ничто или никто, затаившийся в воздухе их жилища, пускай не видимый глазу, не источающий запахов, не издающий при перемещении в пространстве мало-мальски слышимого звука, не грозил им очередной подлой неизвестностью, то настроение зверей чувствительно подымалось. Как если, к примеру, кормили бы шумерского зверя собачьими консервами, долго, очень долго, затем резко перешли бы на похлебку из мухоморов и, подержав на ней до той поры, когда корм перестал бы иметь значение уже совсем, вернули бы ему человечий стол, дав, скажем, для начала кусок сервелата, дополнительно обжаренного в барбекю.
Сравнительно такими были последние ощущения Черепа и близко к тому – Гоголя. А вообще, эта подозрительно затянувшаяся в доме тишина постепенно размораживала единую нервную систему, спаянную неудобствами и невысказанными проклятиями в адрес чертовой неизвестности. Она же пропаривала коллективную дыхалку, освобождая потерпевших от тугого и колючего диавольского кома, примостившегося внутри всех домашних. Ну и, дополнительно успокаивая, массировала виски – тем из них, у кого они имелись.
Кроме Прасковьи. Та уже ничего не ждала от жизни, кроме самой смерти. Хотела, чтобы кончина ее, если случится до срока, была непременно мгновенной, и чтобы черт об этом обязательно узнал, дабы за смерть эту ему стало совестно и непокойно, как и за все то проклятущее, что этот окаянный с ними творил.
А еще через день Гуглицким включили домашнюю сеть, и она заработала нормально. Ада позвонила пареньку в дырявых штанах с нитками, он снова пришел и бесплатно помог зарегистрировать адрес электронной почты [email protected], растолковав, как надо отправлять и получать письма, а также выискивать в сети нужные для жизни сведения про все на земле.
10
11 июня 1894 года, когда двадцатидевятилетний Алексей Александрович Бахрушин, собрав друзей, впервые продемонстрировал им то, что ему удалось собрать к этому дню, мало кто был удивлен, как Алексей и ожидал. Многие из близкого окружения знали, сколь жаркой сделалась страсть его к собирательству и как горел их ближний друг все последние годы.
А заразил его двоюродный брат, Алексей Петрович. Будучи страстным собирателем, тот и сам не уставал, сочетая дело и влечение, изыскивать отовсюду разные предметы, могущие составить коллекцию общеисторическую или же по более узким интересам, каковые к тому времени точно для себя еще не определил. В доме у них бывали всякие лица: что деловые компаньоны отца и дядьев, что прочий московский люд, многие из которых также имели немалые коллекционерские интересы. С деньгами, какими гости дома Бахрушина могли распоряжаться весьма и весьма вольготно, с их возможностями от многочисленных связей в кругах богатых, известных и порой самых знаменитых персон, такое увлечение нередко переходило в занятие, берущее уже немало времени и средств. Впрочем, кто-то из них интерес свой регулировал, ограничивая себя тем лишь, что обставлял собственный быт диковинками, пришедшими в руки случайно. Другие тратились просто так, забавы ради и глядя на первых. Третьи же, какие больше по купеческому уклону, обходились без особенных умствований, как и без искусств, и догоняли вторых лишь из чистого соперничества, не желая уступать в наличии интересной особенности, могущей привлечь вниманье прекрасных дам. Иными словами, и так бывало, и эдак. Однако домашние разговоры, всякий раз начинаясь одним и другим, наталкивались в ходе застолья на излюбленную тему, сделавшуюся со временем чуть не первейшей.
Так или иначе, коллекционерские интересы лиц, бывавших в доме, передались и Алексею Петровичу. Он тоже захотел собирать: что, почему, как – безразлично, важнее было успокоить в себе утробную тягу к созданию серьезного интереса в жизни.
Завсегдатаем в доме у двоюродного брата числился и другой Алексей – сын Александра Алексеевича, среднего из тройки братьев – мануфактурщиков и благотворителей в знаменитой династии. И коллекционировать он начал, как уже было сказано, под влиянием хозяина дома, Алексея Петровича.
Изначально Алексей Александрович увлекся было восточными редкостями. С превеликим интересом окунулся поначалу в этот далекий от себя мир, но делом этим вскорости переболел. Все ж таки ужасно чужеродным оказалось, далеким от родного, своего. Хотелось другого. Чего – в те годы лишь нащупывалось, определялось, выстраивалось.
Другой попыткой отойти в сторону от культуры своего отечества явился прыжок в направлении французском – история Наполеона Первого. Съездил с отцом в Париж. Тот делами больше отвлекался, Алексей же, находясь в ту пору в состоянии незрелости и избыточного воодушевления, унырнул в поиски исторических чудес в материальном их воплощении. Задумал, как ни странно, отыскать вещи, в которых могли бы отразиться времена Первой республики. Связь того малого, но насыщенного событиями промежутка времени, со многими из его характерностей – политических, вольнодумских, эстетических – с самой вещью, с ее физическим воплощением – это и станет, казалось ему, предметом его изысканий. Исходил торговлю всякую, придавая больше интереса малой форме, сокрытой от глаз. Рынки облазил, лавки, людей разных донимал. Архив посетил, полистал нужное.
Когда обратно с отцом возвращались, еще в дороге сказал, мол, нет, отец, снова не мое, не наше это все, чужое. О своем теперь больше думать стану, об отечественном. Своя культура всегда останется нашей, потому что прикипели мы к ней всей душою и хотим ее же изучать, исследовать, обогащать.
Из разговора того с отцом явственно вытекало, что продолжение дела, ради которого любознательный сын сопроводил его в Париж, последует непременно и без отложения на долгий срок. Однако тогда Александр Алексеевич не посчитал еще, что время пришло и что пора открыться сыну и передать ему то, что было приготовлено для него еще за годы до рождения Алексея. Ту самую вещь. Драгоценную. Уникальную для любого собирателя и деятеля культуры. Но пока сын его таким человеком не сделался, он был только лишь на пути к подобному становлению. И отец ждал, когда придет верный срок. Ждал – однако опасался не успеть. А что срок придет, в том не сомневался. Только какой первым из сроков наступит, тот иль этот, знать не мог. Годов ему к моменту их французского вояжа исполнилось шестьдесят семь – шел 1890 год – и, кто б знал, в какой из дней Господь милосердный призовет его к себе.
Парижская неудача огорчила Алексея; правда, огорчение вышло недолгим. В том же году купец Николай Куприянов, двоюродный брат по материнской линии, – он же не только родня, а еще и страстный собиратель со стажем, немалый знаток и любитель старины, к тому же добрый друг семейства Бахрушиных – вернул настроение обратно и даже воодушевил, предложив спор. А поспорили купцы о том, кто из них за год соберет больше театральных раритетов. Сам Куприянов, побившись об заклад, разговору тому случайному особенного значения не придал, подумал: двадцать пять лет брату, молодой еще в деле их серьезничать, не выдюжит, сдастся прежде, чем истечет назначенный спором срок. Однако же не угадал. Спор этот был им проигран, да с треском. Алексей собрал больше. Гораздо больше, нежели можно было себе предположить.
С этого и началось по большому счету. Новому увлечению Алексей отдался с жаром, всем своим изобильным сердцем и на редкость не ленивой головой. Окунувшись, понесся вскачь. За последующие четыре года собирал неутомимо: понял, что нашел себе единственно верное призвание – театральное собирательство.
Каждое воскресенье ездил на Сухаревку. Там ждали его удивительные находки. Здесь он сделал первое свое приобретение, положившее начало коллекции. В лавочке грошового антиквария за пятьдесят рублей приобрел двадцать два грязных, запыленных маленьких портрета. На них были изображены люди в театральных костюмах. Отдал реставрировать. После реставрации стали они неузнаваемыми, приобрели нарядный, музейный вид, и это сильно добавило Алексею энергии в его делах. Вскоре граф Петр Шереметев прислал еще несколько портретов.
Ну а потом в дом стали стремительно стекаться афиши, программы спектаклей, фотографии актеров в ролях, эскизы костюмов, личные вещи артистов, книги о театральном искусстве, многое другое, на чем, как оказалось, никто из коллекционеров ранее не задерживал пристального взгляда.
На миг остановившись, решил он, что пришло время для первых смотрин. Впервые Алексей Александрович Бахрушин показал свою коллекцию друзьям именно в тот самый день, 11 июня 1894 года. И даже когда уже выставленные им для ознакомления экспонаты будущей коллекции не оставляли сомнений в серьезности намерений их обладателя, кто-то еще продолжал принимать его страсть за забаву. Но все же большинство друзей увлечение одобрило. Отца его в тот день с ними не было, и он не мог оценить того, к чему привели старания сына сделаться настоящим коллекционером, избрав путь собственный, особый, не выигрышный и потому не простой.
Однако чуть позднее, в конце октября того же года Бахрушин организовал в родительском доме в Кожевниках выставку для всех желающих. Этот день он стал считать для себя официальной датой основания своего будущего музея.
Там, на этом показе, отец Александр Алексеевич уже присутствовал. Внимательно осмотрев коллекцию, теперь уже в полной версии, не составленную, как прежде, из случайно добытых предметов и обрывочно вставленных кусков, а доведенную до ума, выстроенную по законам музейным, с уклоном в историю развития русского театра, с воистину ценными приобретениями и на самом деле с интереснейшей и разнообразной атрибутикой, он поразился тому, как за столь краткий срок сыну его удалось достичь такого поразительного результата. Именно тогда, в тот самый день, он, дождавшись, пока гости уйдут, решил, что время, которого он так долго ждал, теперь пришло. И то, что задумал когда-то, он сделает теперь же.
Он подошел к сыну, но не стал его обнимать. Просто положил Алексею руку на плечо, как сделал это тогда, в храме, в день, когда получил милостивейшее разрешение на обустройство семейного склепа Бахрушиных, и сказал:
– Сядем давай-ка, Алеша, сядем и потолкуем, сынок. Есть у меня беседа, какую оттягивал я до нынешней поры. Но нынче скажу тебе, что именно предназначил я в подарок твоей чудесной коллекции. Только прошу тебя, сделай одолжение, не удивляйся, а просто прими это как дар, полученный не от меня. От небес – так нам обоим будет проще.
Алексей присел на расшитый шелком гобеленовый диванчик, недоуменно улыбнулся, поднял на родителя глаза.
– Ты о чем, отец? Сюрприз к открытию? А что ж к концу, не к началу?
Бахрушин опустился рядом, откинул тело на мягкую спинку, забросил за голову руки, обняв ими шею сзади, и пожевал край усов, в сотый раз обдумывая, как правильней повести свой непростой разговор. И начал издалека, не сразу.
– Знаешь, Алексей, мне тогда было столько годков, как тебе теперь, ровно двадцать девять. Я еще поразмыслил третьего дня, что не по случайности, мол, так совместилось. Есть в том знамение господне, определенно водится такое, из-за чего привел он меня к тебе в те же лета, в какие меня привел к его могиле. Привел и указал сделать. Я и сделал. И не дрогнула рука.
– К какой могиле? – не понял Алексей. – О чем указал?
– Забрать. Только до сих пор сомненья одолевают. Так и не убежден я – Господь мне все ж указал на то иль черт рогатый. А то и сатана безрогий. Только я все одно забрал. И маюсь, скажу тебе, по сию пору: то ли грех на мне лежит великий, то ль благо это для людей, несмотря, что не окончательно по-христиански вышло-то оно.
– Да что вышло-то, папа? – Улыбка уже сошла с сынова лица, сменившись выражением удивления. – О чем ты толкуешь, скажи, наконец. А то я уже начинаю тревожиться. Со здоровьем что-то? О какой могиле речь твоя, скажи мне, а?
– О той, из коей взял. И с собой унес. И сейчас имею, до сей поры. – Внезапно поднялся. – Пойдем-ка. – И, не оборачиваясь, направился к боковой лестнице, ведущей в нижнее пространство под большим домом Бахрушиных.
Полуподвалом, куда они спустились, пространство не ограничивалось: еще одна неприметная лесенка, довольно узкая, дублирующая спуск в подвал от двора, также имелась и тоже сбоку от основной лестницы – чтобы, если понадобится вдруг, зайти туда, в самый подвальный низ, не выходя на улицу.
К ней нетвердым шагом отец и двинулся. Обычно уверенный в себе Александр Алексеевич на этот раз спускался в полутьме по шатким ступеням, неуверенно держась за поручень, и раздумывал, не совершает ли он главную в своей жизни ошибку, втягивая сына, любимого и, между прочим, единственного, в то, во что когда-то много лет назад втянул себя самого. Однако закончилась лестница, и вместе с последней ее ступенькой окончились сомнения, надо было решать. И он решил бесповоротно.
Не более чем через минуту они оказались в самом узком месте подвала, в дальней от спуска точке, в полутемном тупичке, заваленном отслужившим свой век и уже непригодным старьем. Начало тупика было перегорожено ободранным шкапом времен еще Елизаветы Петровны, наверное.
– Ну-ка… – Бахрушин приложился к нему плечом, надавил, и тот, издав неприятный скрежет, сдвинулся с места и отошел в сторону. Александр Алексеевич прошел дальше: теперь ничто не мешало ему, оставив шкап у стены, перешагнуть через два старых стула, перебраться через сложенную там же на полу кучу старых каретных рессор, пригнувшись вслед за тем под низко нависающей от пола брусчатой балкой, и добраться до тупиковой стены, после которой продвигаться далее уже было некуда.
– Я им зачитывался, с ребячьих лет еще. Бабушка твоя покойница, Наталья Ивановна, – не оборачиваясь, сказал он Алексею, проделавшему с ним весь этот путь до подвального тупика, – почитать приносила, у подушки клала. Я тогда еще сам мальчик был, недозрелый, в гимназию ходил, лет так мне было с тринадцать, считаю, когда первую книжку его постиг. А остальные после сами уж понеслись, без какой даже остановки… – Отец извлек из кармана увесистый ключ и, вытянув вперед руку с подсвечником, слабым светом горящей свечи осветил пространство перед собой. Квадратная дверца, которую теперь увидал Алексей, размещалась по центру стены, прямо перед ними. – Так вот и говорю, – продолжил Бахрушин, – проглотил все, что успели к той поре выпустить. Глотал и слезы проливал, глотал и потешался, сынок. А после как унималось во мне это все, утихомиривалось, так, помню, снова как ревел. Никому не объяснялся, ни единой душе, даже бабушке твоей. Отживал читанное, терпел в себе и снова вбирал любое слово: дальше, дальше, дальше… Они, видно, во мне по-особому отдавались как-то, за душу цепляли и обратно не просились. Тропку свою с умыслом нащупывали, чтоб сердце волновалось и трепетало во мне больней и счастливей. Как получалось такое, сам не вижу. Но и, правду сказать, то один из них жалился мне, невозможно как, хоть и был не живой – измышленный. А то другому голову сам же я и грезил оторвать за негодяйство, какое об нем писано было. – Александр Алексеевич вставил ключ в замочную скважину, повернул его два раза против часовой стрелки и потянул дверку на себя. Открылась ниша. Отец осветил ее уже изнутри, и Алексей, всмотревшись в глубину пространства, увидел саквояж. Вгляделся получше. Старый кожаный, местами изрядно потертый саквояж на манер медицинского. В таком обычно доктора носят свой инструментарий. Бахрушин старший протянул руку, зацепил ручку и вытащил саквояж наружу. Поставил на пол. И только сейчас младший Бахрушин обнаружил то, что скрывала за собой отворенная дверца. И то, что загораживал собою саквояж. Это был необычной прямоугольной формы, деревянного изготовления ларь. Ларец. Весьма объемистый по форме, и, судя по виду, довольно тяжелый из-за крепкой породы дерева. Задвинутый в самый конец ниши, этот странный ларец стоял, обративши заднюю стенку навстречу ко входу. Отец притянул его ближе к краю ниши и обернулся к сыну лицом.
– А потом был «Нос», когда остальное иссякло.
– Что? – не понял Алексей. – Нос? Какой нос, отец? При чем тут нос?
– Нос коллежского асессора маиора Ковалева, – ответил родитель, – который отделился от него и стал сам по себе. Тогда я, еще подростком, подумал, а отчего голова не может отъединиться от тела и тоже стать самой по себе. Туловище остается, а голова существует в отдельности.
– И что? – Сын никак не мог ухватить суть произносимых отцом слов. – И дальше что, папа?
– А дальше вот. – С этими словами Александр Алексеевич повернул ларец лицевой стороной к ним, и Алексей замер. Через стеклянное оконце, вставленное в лицевую дверку, в тусклом свете свечи он увидел нечто такое, что заставило его вздрогнуть от неожиданности. Из глубины ларца на Алексея Бахрушина темными дырами пустых глазниц уставился череп. Он был жестко закреплен на самодельной подставке, с тем, наверное, чтобы не касаться внутренних поверхностей ларца. На череп был надет венец, металлический, похожий на серебряный. Снизу, на дне ларца лежали локоны иссохших седых длинных волос.
– Дальше я раздобыл то, что мечтал заполучить, начиная с тех самых младых лет. Мечтал как одержимый. Не знаю вот только, Господом или ж бесом. А только получил. Как – дело третье, и пускай это останется со мной. Да это не так существенно – доброму вору, как говорится, все впору. Главное, он сопровождал меня все эти годы, вплоть до нынешнего дня, череп этот, и я все время чувствовал его рядом, всем существом ощущал, головою, животом, кожею. Ну не сам череп, не кость эту, а того, кому он принадлежал. Дух его. Иль душу, не знаю. И руку его… и слово… и взгляд из ниоткуда…
– Так это… – притянув руку к подбородку, пробормотал Алексей.
– Да… – согласился с его догадкой отец. – Николай Васильевич. И плоть его перед тобой. Череп Гоголя, гения русской словесности. Мой талисман. Отныне станет и твой. И будет он самый драгоценный экземпляр в твоей коллекции, сынок. Я ожидал этого дня, и я его дождался. Я желал передать его только в надежные и верные руки, и такие руки сыскались. И я счастлив безмерно, Алеша, что это руки моего сына, Бахрушина-младшего, будущего владетеля крупнейшего собрания русского театрального искусства. Кому как не тебе обладать им отныне и находиться подле него, величайшего изо всех великих словесников наших. И успехи семьи нашей, я сполна уверен, оттого так стоящи и так ладны, что есть у нас такой оберег. И все он зрит, и все обо всех ведает, обо всей жизни нашей, я это знаю наверное. И потому не даст никого из нас в оскорбление. – Приподняв веки, Александр Алексеевич мечтательно повел головой, словно рисуя приятную себе мысленную картину. – Я, сынок, дабы не слукавить, частенько сюда наведываюсь, один, конечно ж. И нет на свете души единой, какая б об этом ведала. Всего – ты и я. Даже матери твоей полслова не сказал об нем, – он кивнул на палисандровый ларец. – Знаешь, мыслить обожаю я подле него, представлять. Случается, приду сюда, прокрадусь к нему ближе и додумываю… Как, к примеру, глядел он на всех остальных людей, как волос свой от пробора на бок закидывал, размышляя, какие мы есть, все прочие, не сродственные ему. Как понюшку табаку в длинный нос свой закладывал, как насмешничал и над собою тоже, чему печалился, мысля об себе и об нас. И как, наверно, изображал в своей голове, в этой вот самой, в гениальной, – он снова указал глазами на череп, – какой из нас городничему его родственным сделается, а какой в трубу вылетит на черте верхом, иль кто бездыханные души торговать станет, уповая на лукавый случай. И кто он, к слову сказать, Акакий Акакиевич этот, из какой материи сработан, отчего маленький мир этот, что наглухо, не имея выхода, замкнулся вокруг него, так бездарен, так бессмыслен и так нелеп? Отчего жил он, подобно тому, как существуют прирученные черепахи, не противясь всякому злу и всяческому униженью?
Алексей, все еще с трудом веря в происходящее, продолжал, однако, неотрывно слушать, о чем говорил ему этот высокий пожилой мужчина с усами и в пенсне, держащий в подрагивающей руке подсвечник с догорающей свечой. Ему почудилось вдруг, что это не он, не Алексей Бахрушин, стоит сейчас в полутемном, заваленном ненужным скарбом подвале их семейного дома на Кожевниках, вглядываясь в коронованный серебряным венком череп с глазницами из темных дыр, будто пронзающих его насквозь невидными жгучими лучами. А стоит на его месте некто иной, чужой ему, непохожий на него человек его же лет и наружности, и просит, нет, настаивает, чтобы он, истинный Алексей, внял теперь отцовскому слову, внял и подчинился. Да только не отец был перед ним сейчас, не тот родной и добрый ему человек – это он с отчаянной обреченностью успел-таки осознать, – а неизвестно кто еще: незнакомый, чужой, властный.
Он вздрогнул и вернулся.
– А там что? – спросил он, указывая рукой на саквояж на полу.
– Там? – Александр Алексеевич махнул рукой, довольно равнодушно. – Там еще один череп, из той же могилы, безвестный. Можно сказать, случайный. Обретался по соседству, так и достался заодно с нашим. Ты его, Алексей, тоже для собранья своего сохрани, может, сгодится по какому случаю. Если, допускаю, Гамлета станешь представлять, к примеру, со всей его атрибутикой. Или же просто для антуражу. Главное не он, главное – вот! – Бахрушин с нескрываемой гордостью указал рукой в сторону палисандрового ларя. – Это есть твое главное наследство, а не капитал и даже не славная фамилия. Просто продолжай делать свое благое дело, Алеша, как ты его делаешь теперь, а дальше он всегда тебе посодействует, и в жизни, и в удаче. Так и запомни мои слова, сынок…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?