Текст книги "Птица разрыва"
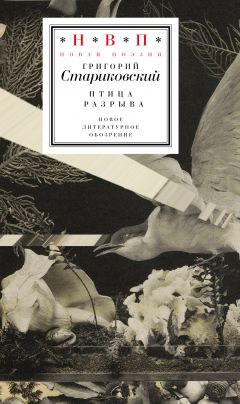
Автор книги: Григорий Стариковский
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Григорий Стариковский
Птица разрыва
© Г. Стариковский, 2022
© И. Машинская, предисловие, 2022
© И. Дик, дизайн обложки, 2022
© М. Стариковская, фото, 2022
© ООО «Новое литературное обозрение», 2022
* * *

Шерсть, проталина, асфальт. (По)дробный мир Григория Стариковского
Открывающей эту книгу читатель попадает в тихое пространство – и не только потому, что оно основано на understatements и лишено аффектов, но и в прямом смысле: предстающий пред нами мир почти беззвучен. Всю работу по организации высказывания берет на себя зрение. Поверхности, образы, тени приближены к глазам непривычной, тревожащей крупнозернистостью, подробной дискретностью, как в цифровой фотографии. Есть и другое: в этих стихах, увидит читатель, все расползается по швам, раскалывается, покрывается трещинами, срезами: обрывки растительной жизни, щербатый асфальт, ветвь, яблоко, человек. Осыпается штукатурка, летит италийский вулканический пепел (воспоминания – самого ли автора, «истории» ли, ландшафта), лоскут тумана говорит с другим лоскутом. Мир-ветошь, обноски мировой округи. Тотальная фрагментация распространяется и на место нахождения автора: «я» у Стариковского – «это то, что случилось в мире», «это пробное тело», «трещина». Настойчиво повторяется «о» – как значок, метка, символ – и тем подтверждает основное впечатление: перед нами мир, основанный на главенстве зияний, провалов и пробелов – пустот и лакун – как изображаемого, так и изображающего; на фрагментарности архитектуры самого стихотворения, строящегося сразу как руины.
Но зияние не означает непременно потерю, и разорванность мира не оплакивается автором, а дается так, как если бы это состояние было естественным и единственно возможным. Это не апокалиптический историзм наподобие «Сталкера» или Бредбери, хотя именно такие пейзажи предстают внутреннему зрению читателя. Птица разрыва летит уже давно – кажется, всегда – и зависла в этом парении. И все же образ Зоны трудно забыть или не учитывать, как невозможно не вспомнить мандельштамовского «Ламарка»: «Он сказал: природа вся в разломах, / Зренья нет – ты зришь в последний раз».
И, конечно, так же трудно отмахнуться от опыта чтения постмодернистских текстов, с присущим им намеренным зиянием или размытостью лирического субъекта. Существует в поэзии последних пятидесяти лет целый спектр зияния в точке, где подразумевается «я», от концептуально явленного или подразумеваемого до более сложного: лирического в своей основе взгляда, голоса, пытающегося себя потушить или не учитывать – примером тому многие стихи Григория Дашевского, пожалуй, первым в нашей поэзии этот метод обосновавшего. Лейтмотив его поздних стихов – «…как будто ты уже отсутствуешь», но и в самой этой строчке отсутствие снимается не только словами «как будто» (произносящий это – не может не присутствовать), но и характером длящегося звука, перемещенным в конец полуударением: протяжное «-ешь» вытягивается за словом, как тень, которая все равно никак не может оторваться. Полуприсутствие, мерцание «я» Стариковского ближе к этому второму полюсу. Голос его естественно негромок, но как бы ни старалось автор не проявляться, не заявлять свое эго и навязывать себя, от «я» поэту освободиться едва ли возможно: ведь именно оно, «я», вольно переводит взгляд с одного на другое, а зрение Стариковского очень пристально и очень подвижно.
В своей статье об авторе как лакуне[1]1
Ямпольский М. Зияние (вместо) Я: культура и меланхолия // Новое литературное обозрение. 2021. № 168.
[Закрыть] Михаил Ямпольский приводит любопытную параллель с театром. Но и двумя важными амплуа в нем: ваки, безымянного повествователя, и кокэнов (приносящих реквизит ассистентов). Смысл подобных ролей в том, что персонажи присутствуют на сцене физически, но их как бы и нет, и требуется особенное мастерство для того, чтобы воплотить это отсутствие. Эта аналогия кажется здесь особенно уместной, потому что Григорий Стариковский – чрезвычайно активно и ярко работающий переводчик античных текстов: во-первых, авторская позиция переводчика в самой своей основе – двоякая, мерцающая; во-вторых, автор этих стихов оказывается хорошим учеником Гомера, Софокла, Еврипида – он перенял искусство оставаться в стороне, не навязывая читателю, зрителю себя и своего взгляда на вещи.
Мерцание, колебание наполненности точки высказывания – в основе поэтики Стариковского. Несомненность присутствия «я» автора этой книги в первую очередь – в принятии как данности раздробленности и разорванности мира; в том, что фрагментарность пространства, провал, который, по Мандельштаму, сильнее наших сил, да и саму глухоту паучью, он дает как парадоксальную цельность его закона, его основания.
Есть в поэзии эгоцентрический путь, условно говоря – Птолемея, а есть путь Коперника. Стариковский идет путем Коперника, путем, обратным лирическому эгоцентризму и тем более нарциссизму. Необычна скромность автора, почти невесомо мерцающее его присутствие, но при этом постоянно ощущение личности, стержня. От противоположного полюса, от постмодернистской самоаннигиляции автора осталось эгалитарное отсутствие заглавных. Изображаемый мир совершенно лишен иерархичности – каждый фрагмент пространства, каждый лоскут его поверхностей, независимо от их положения и роли, выписан с подробностью, невозможной в поэтике птолемеева лирика. Взгляд этот подвижен, или размножен по разным точкам – лункам – картины мира, его бескрайнего плато.
Бестелесную и подвижную точку зрения подробно описал Фуко, анализируя в начале книги «Слова и вещи» полотно Веласкеса «Менины». А Валерий Подорога в своем тексте об этой книге показал, как язык заполняет лакуны изображения, как покрывается именами все видимое пространство. Помимо того, что видит нас и что видим мы, в изображении присутствует и «глаз-бельмо». «Глаз-бельмо, точка ослепления всего зрительного поля картины… должен быть понят как разрыв, дыра, пропуск, как некая пустота визуального, где появляется язык, где впервые становится возможным рассказ, развитие плана повествования»[2]2
Подорога В. Навязчивость взгляда: М. Фуко и живопись // Фуко М. Это не трубка. М.: Художественный журнал, 1999. С. 109.
[Закрыть].
Любое живое стихотворение – это, как на картине Веласкеса, зеркало, в котором отражен художник. Многие строфы и целые стихотворения Стариковского – зеркало без рамы, у него рваные и порой как бы случайные края, а отражение художника почти незаметно, будто он уже отсутствует. Но разрывы в стихах, часто приходящиеся на пробелы между строфами, там, где резко меняется угол зрения, и камера попадает в другую полупустую точку, напоминают вот эти точки ослепления. Лакуны-лунки будто сами собой заполняются повествованием, видимое становится видимостью, а слово, строфа – полупрозрачной пленкой, накинутой на изображаемое.
Недалеко от мест, где живет Стариковский, на Гудзоне, есть Дудлтаун, заброшенный поселок, просуществовавший двести лет, с середины восемнадцатого века до 1960-х. Сейчас это просто склон горы, и на нем, в нем – осколки, знаки: вдруг появляющиеся из земли ступени, проплешины – тут был рынок, там школа и кладбище. Четкие формы руин скрепляют, или: на них накинуты заросли нетребовательного боярышника с пурпурными молодыми побегами, с кроваво-красными ягодами, с их кажущимся аморфным множеством. Это – естественная земная реставрация, в которой ретуши уже больше, чем изначального рисунка, и где теперь фрагменты поселка кажутся лакунами в связующем языке зелени, синтаксисе красных мазков, в поэме горы. И, как в одном удивительном стихотворении этой книги, вороньи гнезда висят, как глиняные чаши.
Деятельность реставратора, то есть человека, работающего с по определению разбитой на фрагменты или протертой вещью, сходна с деятельностью переводчика. Теоретик реставрации Чезаре Бранди писал о двух моделях: rifacimento, сознательного заполнения лакун, и консервации, дающей картину as is[3]3
В статье: Сандомирская И. От составителя [Предисловие к блоку текстов «Лакуна: утрата, зияние, отсутствие»] // Новое литературное обозрение. 2021. № 168.
[Закрыть]. Стариковский работает в обеих: как переводчик он оживляет Софокла и Гомера, его герои говорят современной – и разнообразной по регистру и ритму – речью; то есть его метод в отношении неизбежных при расстоянии без малого трех тысяч лет лакун – растушевка, ретушь; а как поэт он консерватор, и дает, не вмешиваясь в нее, картину мира как он видит его: руины, ветошь пейзажа, человеческого и природного – его объект и его реквизит.
Это не утраченный мир, а скорее траченный. Трещинки, щербатость, как в японской культуре ваби-саби определяют уникальность вещи и ее эстетическую ценность. К тому же зияние не всегда потеря – им может оказаться и незавершенное. В стихах Стариковского незавершенность – человека или вещи – постоянный мотив. Так в древнегреческих перечислениях законченное, например, полотно, отделяется от полувытканного и недовязанного. В этой книге вообще очень много лоскутов, тканей, особенно шерсти (erion), самого распространенного материала в Древней Греции. Уже в первом стихотворении читатель столкнется с шерстью и мотивом оборачивания пустоты (этим пустым часто оказывается горло). Стариковский одевает мир – или его двойника, каким он предстает современному человеку – во всякие ткани. Только в одних стихотворениях он ткет, в других – распускает. То тут, то там – недосказанное, недовязанное: торчит то крыло, то фонарь-культя.
Есть, по Фрейду, печаль – и есть меланхолия. Печаль знает, о чем она печалится, о какой именно утрате (или трате). Предмет утраты меланхолика условен. Тысячи стихотворных строк написаны меланхоликами. Автор этих стихов – печальник, и тоже необычный. Он облекает свой мир не в то, чего нет, а в то, что есть. Он не то чтобы потерял или ищет – он как будто ждет.
Порой – в самых пристальных, засматривающихся стихотворениях – он кажется вернувшимся Одиссеем, но, в отличие от Одиссея, он никуда и не уходил. Его возращение – скорее попытка возвращения цельности миру, возвращения формы, пластичной связанности мира-континуума, каким он еще видится в светописи столетней давности.
В поэзии такая форма в большой степени утрачена (и это не имеет никакого отношения к искусственному противопоставлению верлибра и «традиционного», или «формального», русского стиха – корни бесформенности глубже, но об этом следует говорить отдельно). Есть поэты, распада будто и не заметившие, они проехали эту станцию ночью. Стариковский к ним не относится: совершенно очевидно, что он потерю формы не только сознает, но и пытается преодолеть изнутри – изнутри самой этой потери, может быть, интуитивно, и точно что искренне: взгляд его и его высказывание организуют бесформенное и раздробленное как есть, дробность мира парадоксальным образом становится ее связующим принципом, законом, прообразом формы, ее нарождающимся звуком.
Ирина Машинская
Часть первая
«говорить на кровельном, пригородном, с накипью…»
говорить на кровельном, пригородном, с накипью
ржавчины, одноярусном, снегоуборочном, –
тусклым наклоном лестницы,
легкостью алюминия.
речь – это бедная вещь шерстяная,
носи её вместо варежек, шапочки
лыжной, обмотай свое горло
словом дальнего следования.
«так голоса плывут…»
так голоса плывут,
как тишина в ведре,
и серый день скользит
по ободу его.
по образу его
над бельевой доской,
здесь тоже всюду жизнь,
и рукава чадят.
здесь тоже мятый воск
пустых воротников,
а пена – это песнь,
и боратынский – бог,
и нет других богов,
которые себя
вместили бы в себе
и выстояли над
зрачком слепой воды,
как этот талый снег,
выслаиваясь вслух
и вечерея вдаль.
«ловец шагов, глодатель холодов…»
ловец шагов, глодатель холодов,
обозреватель кровель, клочьев дыма,
автомобилей, льющих ближний свет
по дождевым обочинам, по стенам,
асфальт, асфальт, ты мой щербатый брат,
я тоже в трещинах лежу и вижу
кривую шляпу мусорного бака,
сутулое, как над пустым столом,
склонившееся небо и ржаной
февральский воздух, хоть ножом отрежь
или культей фонарной.
«где утром черный снег лежал…»
где утром черный снег лежал,
там хлюпает вода земли,
как незаконченное что-то,
а мне законченной не надо,
я шерсть люблю и запах шерсти,
и напряженное вниманье
питомицы, скулящей вверх,
где между влажными ветвями
висят, как глиняные чаши,
вороньи гнезда.
«голос птицы, порхнувшей насквозь…»
голос птицы, порхнувшей насквозь,
легкие звенья, пытливые линзы льда,
шепот подошв, всходит нá гору ржавчина
одноколейки. лестница, только держись,
злая собака летит по ступеням, –
отпрянуть, взобраться на замшелый валун,
человек – это то, что не рвется,
пока не порвется совсем. хорошо
и неветренно здесь, подвывает весна,
и на рыхлом снегу, шелудивая, пустит
слюну, и качается солнце, как вальс № 2,
до слезы пробивая тебя, до слезы.
«я в лес вошел, и был он внятен…»
я в лес вошел, и был он внятен,
и барбарис прозрачно-строг,
я злые ягоды заметил,
алеющие на восток.
нетронутая паутина
легко рвалась, велосипед
проехал мимо, над камнями
висел, как выдох, водопад.
я сам листаю эту осень
с мучнистым солнцем вдалеке,
и мне не нужно встречных жизней
с собачками на поводке.
«за штакетником начинается немота…»
за штакетником начинается немота,
трется брюхом о мерзлый грунт,
голосит губами, стертыми в сизый мох,
точит мертвые трещинки поручней.
я умею сказать только «о» сказать,
изобразить застывший неточно звук
и повесить его на гвоздь, на крюк,
этот бедный овечий летучий клок.
«солнце выгорит дочиста…»
солнце выгорит дочиста,
но припомнится запах,
тонкий воздух пунктирный,
простреленный птицей случайной.
доски снегом облеплены, но
нарушилось важное что-то;
бриз, его толстогубый порыв
отдает хрусталем или хрустом.
замечательно всё, что не мы,
а другое, делимое взглядом
на белесую пеночку льда
и скупое свеченье проталин.
«как туман туману видится…»
как туман туману видится, –
белой тенью, лошадиной мордой,
шерстяною вещью на снегу?
ветошь смотрит ветоши в лицо,
в скулы лодок перевернутых,
в выпуклость облезлых днищ.
мы идем сквозь персть молочную,
трогаем губами вещество
общего дыхания, скажи мне,
как тебя теперь зовут, родная,
невидимка, стертая как будто
тряпкой плюсовых температур?
«не надо, чтоб этот дым входил…»
не надо, чтоб этот дым входил
в голодную дверь зимы,
облизывал стены и долгую ночь
сладким узлом вязал.
ты такая даль, что на рукаве
аква крови, как моль звезды,
так соломенный малларме
режет фразу, делит ее на две.
o rus, кто кого перестоит на одной ноге,
вымолчит на одной губе
неопалимую ветку «э»,
дохлую укву «ы».
ночь густа, как гречишный мед,
мокрый летит по диагонали снег,
дай еще побыть, не уйти под лед,
почини голубиный свет.
«на развилке возня муравьиная…»
на развилке возня муравьиная,
зализы, приливы точечной жизни,
комар подпевает, трудится, тянет
кровь, насыщается мной.
высокое дерево с гладким
стволом, кроме гарри-и-мэри,
ножичком вырезал гарри,
он любит мэри, теперь
каждый скользящий по склону
знает, что гарри-и-мэри
пишутся слитно, они вживлены
в горькое мясо ствола.
спой мне, куколка-мэри,
о чем-нибудь прочном,
светящемся тканью древесной, –
под комариную жажду,
сквозь картавое имя свое.
«вот куст, и он неотделим…»
вот куст, и он неотделим
от обруча воскресших губ,
необрываемого «о», –
о куст, о в горле веток ком,
о боратынский бедный опыт,
обглоданное «о» куста,
о камень, я хотел быть камнем,
чтобы сказали, это – камень,
лежит державиным, но я –
одна из этих мокрых веток,
кривых, облупленных, ненужных,
и разве что весной несрочной
усядется здесь птица фет
и запоет.
«ленивый снег в каком-то пёсьем виде…»
ленивый снег в каком-то пёсьем виде
зализан на загривке и боках,
следы ботинок – сладкие зевки,
остановись, порыв исчезновенья.
дай лапу мне, непрожитое поле,
и распахни, как звенья скулежа,
ряды деревьев, но что там на самом деле,
на горизонте, лес или межа,
или фаланга фермерского сада
и дом с венком омелы на стене,
или кладбищенский забор, отсюда
не разглядеть, да и не надо мне.
Часть вторая
«лежит земля, которая – восток…»
лежит земля, которая – восток,
скорее тихий жест, чем долгий лес
на карте окружной, чем зоркий свист
и павший лист, его осенний хруст.
переезжая реку, говорю
воде, как я ее люблю,
стекающую с темных гор,
простой плацкарт ее и разговор,
и берега стоят – скупая весть
о вереске; тумана сизый воск
висит между амбаров и берез,
которые придумал роберт фрост.
здесь фростом стынет мутная природа,
гравийный путь и ржавые ворота,
надлом холма и близкое болото –
всё тихое имущество рассвета.
фрост
такое здесь чужое, что – своё,
я повторяю, – как игре на скрипке,
учился он латыни, – луч сквозь ветви
легчайший шевелится «ла-ла-ли»,
и яблоки ударных гласных все на месте,
висят, свободные, я не могу смахнуть
нелепость эту с глаз, – так было
в начале сказано, но сдохло на родном
дыхании, как та «земля», в которой
ни режущего свойства нет, ни сдвига
к прозрачности, зачем такая мне?
«подарю тебе к осени…»
подарю тебе к осени
голову камня на подносе озера,
темную в промывах лишайника,
кто-то плакал и превратился
в дачника, на серой воде женился,
на изгибе ее, о еще потанцуй, пожалуйста.
в сером утре отвесном
лодки идут, как невесты,
след рубцуется прочерком,
не доплыть мне в сентябрьском сиротчестве
до ольшаника в лиственной внятности,
до наглядности, честности, частности.
«бегущая на плечá камней вода…»
бегущая на плечá камней вода –
вчера еще – темный, ленивый лед,
дохлый табор, сегодня ты – плёская шаль,
звон червонцев и злые глаза камней,
и заглавия острых, по кромке летящих троп,
восклицательный зуд комаров, слепней.
прозревает песнь, пьется слаще кровь,
над затылком земли неживая сосна растет
под углом, как неправильно вбитый гвоздь.
тресковый мыс
мелкое место в двух минутах
велосипедных, над заболоченным берегом
чаячий хохот катится.
серая, долгая кровля,
обшитые дранкой стены, море моё на отливе
держит камушек за щекой.
демосфен воды, научи говорить прямо,
не выкручивать полотенце, не собирать мидий
в разрисованное ведро.
научи розоветь лопнувшей кожурой
перевернутых лодок, тростником разбалтывать
птичий, веселый воздух.
«от подстанции склон каменист…»
от подстанции склон каменист,
бурый тростник и шиповник,
птичьего голоса бы,
воробьиного «чирк»… человечий,
охотничий, пепельный шепот.
ветер вплетается в
решетчатых вышек пустóты,
и деревья сквозные
втиснуты в стылое мясо земли, –
время отстрела оленей,
время в оранжевой куртке ходить
по ничейному лесу,
греть озябшие руки
над рваным костром,
хрусткий бег на прицеле держать.
«один (смотрит в окно)…»
один (смотрит в окно):
стекло, оно тоже в наморднике
ржавого солнца, многие вещи
умеют сморкаться и кашлять;
светофор поет канарейкой –
будьте внимательны
при переходе проезжей части.
другой (готовит обед):
морская фигура города,
ты проснешься когда-нибудь?
влажный, разношенный воздух,
где он теперь? не хочу
пить кисельную жалость,
пахнуть чернилами.
третий (прислонился к стене):
это уже не земля, это –
кроличья шкурка отваги,
ходишь, будто тебя здесь нет,
ходишь, и звук получается,
полый, облупленный звук.
«не спрашивай, знать немыслимо…»
tu ne quaesieris…
Гораций, Оды 1.11
не спрашивай, знать немыслимо,
чем это всё для тебя, для меня закончится,
забудь свои графики и прогнозы;
что будет, то и вынесем, много ли весен
достанется, или в последний раз
эта, цветущая, гнет океанские волны
береговым базальтом;
будь умницей, разливай вино,
не думай, что будет длинен
отрезок недолгий.
пока мы беседуем, время
завидует нам и скользит отсюда,
крепко сожми этот день, а дальше –
не надо туда смотреть и верить.
мотель
ночь обещает быть с нами долго,
льется под кожу, врастает в тебя,
отражается в мутном зеркале
над умывальником, шампунем, бритвой,
растекается бледной подсветкой –
от окна и кремовой занавески,
прикрывшей вид на склизкие фуры,
летящие вдоль воды… ты лежала на одеяле
и перелистывала книгу, которую
держат здесь в ящике, и говорила,
а я отвернулся к зеркалу и смотрел,
на твоих губах слова ничего не весили,
голые, как будто раздвинулось море,
дно искрошилось – остался воздух,
отдающий хлоркой, и жужжала муха
над разрезанным яблоком на тарелке.
«крапины света…»
крапины света
на водонапорной башне,
в этой пепельной азбуке морзе
есть что-то легкое, жалкое,
очень родное.
ткань заходящего солнца изношена,
как я этого раньше не видел?
всё, что из ветоши, трется о свет,
обмирает, уходит в небо,
дым, это тоже от ветоши.
жгут прошлогодние листья,
их хрупкие вороха, змеиные гнезда
заливают бензином; там, под камнем,
вьется зеленая в крапину кожица,
дым густо пахнет
можжевеловой срезанной веткой,
вестью о времени года. в сумерках
предметы, сближаясь, становятся
больше, чем близкими, – башня и дым,
тени и норы, где мертвые змейки живут.
«сначала не было никого…»
сначала не было никого,
потом появилась машина, двое
вылезли на гравий, немолодые, вытащили рюкзаки –
однодневки, зафиксировали походные палки.
он высок, взгляд его – в никуда,
как лесной воздух провалами сквозь деревья.
если спросить, – человек, как тебя зовут?
он не сумеет ответить внятно.
она приземиста, в лыжной шапочке с луной и солнцем,
в синей ветровке с капюшоном на две головы;
пока он согревается, отпивает чай или кофе
из пластмассового стаканчика, она ждет и смотрит
на забранное льдистой корочкой озеро,
на склоны, где ветер трет свою спину кабанью
о камни, коросту коры; на игольчатый свет,
шевельнувшийся снова под сердцем.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































