Текст книги "Люди среди деревьев"
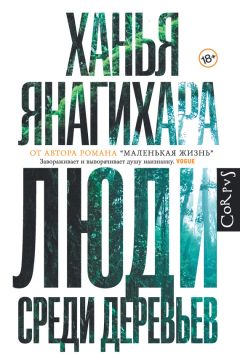
Автор книги: Ханья Янагихара
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Джунгли продолжались и продолжались, такие постоянные в своем изобилии, что я в конце концов утратил всякую чувствительность к ним. Существо с темно-малахитовой чешуйчатой спиной пробегало у меня под ногами, призрачная мартышка испускала крик с верхушки дерева, и я не останавливался, не спрашивал Уву или Таллента, что это за животные. Вокруг было так много тонов и оттенков змеисто-зеленого, личиночного, грушевого, изумрудного, морского, травяного, нефритового, шпинатного, желчного, соснового, гусеничного, огуречного, настоянно-чайного, свеже-чайного – как беден наш цветовой словарь! – что я боялся утратить способность различать все остальные цвета. Ярко-алая набедренная повязка Фа’а жгла мне глаза, но я вглядывался в нее столько, сколько мог терпеть, словно пытаясь запечатлеть в мозгу ее красный цвет, прежде чем глаз снова станет воспринимать его как оттенок зеленого. По ночам мне снилась зелень, огромные плавучие кляксы, которые медленно переливались из одного оттенка в другой, и утром я просыпался разбитым и вымотанным. В течение дня мои мысли крутились вокруг видений пустыни, городов, твердых поверхностей – стекла, асфальта, кусков слюды, блестевших на заасфальтированных мостовых.
И проблема Таллента тоже все еще не отступала – на него я едва мог смотреть, рядом с ним старался говорить свободнее и меньше мямлить. По вечерам он долго не ложился, писал что-то в записной книжке, и со своей циновки я смотрел на него, пока темнота заполняла пространство, как стая летучих мышей. Он никогда не использовал фонарь без необходимости – например, чтобы оправиться, – и даже когда свет полностью уходил, он продолжал писать, а я лежал на своем месте, стараясь не издавать ни звука, и слушал, как его ручка шуршит по листу; почему-то для меня это был красивый образ – Таллент пишет в полной темноте, – и когда мы продолжали путь, я иногда закрывал глаза и вызывал его в памяти, наслаждался им, как конфетой. Во время длинных переходов я старался высказывать ему – и порой мне это удавалось – интересные замечания, но каждый раз, когда это происходило, Эсме оказывалась рядом, готовая предложить собственное мнение по любому вопросу.
Эсме, конечно, представляла собой затруднение совсем другого рода. Помимо ее начальственных замашек, самодовольства и собственнического отношения к Талленту (меня мучило, что я по-прежнему не мог понять, замечает он это или нет, а если замечает – безразлично ему это или нет) имел место еще один простой факт: на нее было неприятно смотреть. С каждым днем ее волосы отрастали все беспорядочнее и неподатливее, пока не покрыли лунной тенью все распухшее лицо, а кожа, как я уже говорил, покрылась практически непроходящей сыпью. Это не должно было беспокоить меня, но беспокоило.
Были и более серьезные проблемы, связанные с Эсме. Однажды глубокой ночью я пошел к ручью, тому же, который уже упоминал, – его источник, видимо, находился где-то высоко в горах, куда мы направлялись, – и увидел на лесной почве смятый бутон. На темном фоне он сиял невероятной белизной, как чистый лист бумаги, и в центре его распускалась клякса насыщенного бургундского цвета. Здешние цветы были точно восковые, непохожие на цветы: на месте тычинок таращились непристойно призывные пластиковые губы, и на них садились отдохнуть насекомые; на месте листьев – агрессивные, топорщащиеся плоскости. Но этот белый цветок напомнил мне те бутоны, среди которых я вырос, – сахаристые пионы с гофрированными оборками, словно балетные пачки, полупрозрачные кусты астр. Казалось, я уже много дней не видел ничего столь очаровательного, и я стоял, уставившись на этот узор.
Но, продираясь ближе к ручью, я увидел, что цветок этот – вовсе не цветок, а скомканная ткань с размазанной по ней кровью. Я испытал что-то вроде негодования: во-первых, справедливое чувство злости на Эсме, которая так небрежно избавляется от своего мусора, а во-вторых (я признаю, что это труднее оправдать), раздражение из-за того, что она испортила мне такую умиротворяющую картину.
Вернувшись к циновке, я растолкал ее.
– Впредь поосторожнее, – сказал я.
Она заспанно посмотрела на меня из-под растрепанных волос.
– Ты о чем? – спросила она.
– Отбросы твои, – сказал я. – Я чуть на них не наступил.
– Отстань, Перина, – сказала она и перекувырнулась на другой бок.
– Эсме! – прошипел я. – Эсме!
Но она уже притворилась спящей, а я не решался повышать голос, опасаясь разбудить Таллента.
– Эсме!
Я потряс ее за плечо, и почувствовал, как отвратительна под рубашкой ее плоть, дрожащее бланманже, покрытое каплями пота.
На следующее утро мы завтракали (снова «Спам», выгребаемый из жестянки тонкими ломтями жесткого желтого, похожего на папайю плода, который нашел и нарезал для нас Фа’а) в молчании – Таллент писал в своем блокноте, и даже Эсме нехарактерно притихла. Я не смотрел в ее сторону, но как будто чувствовал вокруг нее тошнотворный запах менструальной крови, жестяной женский дух, такой отвратительный, что когда мы снова пошли наверх, когда он наконец медленно растворился в аромате джунглей, я испытал облегчение. И с тех пор я не мог взглянуть на нее, не подумав о сочащихся жидкостях, густых и тяжелых, как мед, но гнилых, истекающих из каждого ее спрятанного отверстия.
Прошло сколько-то дней (увы, точная продолжительность ускользает от меня сейчас, как и тогда; может быть, пять дней, может быть, пятнадцать), и ближе к вечеру мы вошли в другой пейзаж. Я не могу это лучше описать, могу только сказать, что сам воздух, казалось, переменился: за нами остались знакомые джунгли, влажные, стелющиеся, наполненные тайнами, как в сказке, а перед нами лежало что-то другое. Внезапно воздух стал суше, деревья – менее подавляющими, солнце – солнце! – заметным, и оно отбрасывало пологие, неровные параллелограммы света на покрытую разными папоротниками и ветвями землю. Надо мной виднелась паутинная сетка, натянутая между двумя деревьями, которая сверкала, словно связка алмазных ожерелий.
Фа’а что-то быстро и возбужденно сказал Талленту, а тот в свою очередь сообщил нам, что мы в дне с чем-то пути от места, где Фа’а видел тех людей. Он отметил то место большим крестом на коре некоего дерева, которое называется манама. Кора манамы растет ячейками, сказал Таллент, и если ее проткнуть, она выпускает липкий сок, который затвердевает коркой наростов: когда мы это увидим – не ошибемся.
Но теперь, объявил он, надо отдохнуть, и мы все вшестером немедленно сбросили свою поклажу. Было хорошо и странно лежать там, думать, что мы пережили опасности джунглей (хотя позже мне пришлось признать, что в джунглях никакой настоящей опасности не было, что на самом деле пугаться надо было теперь), чувствовать, как солнечный свет ползет по нашим лицам, слышать первые слабые птичьи крики; эта музыка казалась сказочной, такой она была странной и красивой, такой внемирной.
Потом мы заснули, все, даже проводники, и когда я проснулся и увидел неподвижные тела остальных, я на мгновение решил, что они умерли и я остался один в этом странном, залитом солнцем месте, окруженный деревьями, названий которых я не знал, и птицами, которых слышал, но не видел, и что никто никогда не узнает, что я был здесь, не вспомнит, что я когда-то существовал, не найдет меня. Чувство это было мимолетным, но я запомнил, как быстро, за один вдох, я перешел от отчаяния к смирению, как хорошо человеческий разум оснащен для приспособления к реальности, к усмирению самых глубоких своих страхов. А потом я, пожалуй, испытал гордость за собственную человеческую природу и на миг почувствовал себя непобедимым, уверенным, что следующий день не принесет ничего, что я не смогу выдержать.
Я шел в направлении ручья, который, как ни странно, становился шире и мощнее по мере нашего продвижения вверх, шел к ясному, быстрому рукаву холодной воды, чей вкус, как ни странно, был сильнее насыщен морем, чем в низине. Попив воды, я сел на берегу, глядя, как ручей передвигает гальку, любуясь каймой мелких оранжевых цветочков по обеим сторонам потока. И в этот самый миг, сонный, мечтая о чем-то праздном, я увидел, как что-то движется из-под валуна, лежащего на дне: темное очертание, не более того, как тень от облака, проносящегося над морем. Но когда оно приблизилось и стало обретать форму, я понял, что это черепаха, чей острый костяной хребет выступает над поверхностью воды. И я сразу же догадался, кто передо мной.
– Опа’иву’экэ! Опа’иву’экэ! – кричал я и слышал, как остальные бегут в мою сторону.
Я сказал, что узнал опа’иву’экэ, но только потому, что мы находились на его земле; вообще же это животное, по крайней мере на первый взгляд, не представляло собой ничего особенного. Оно оказалось, пожалуй, немного меньше, чем я ожидал, – размером примерно с диск автомобильного колеса, – и ноги его, что неудивительно, больше походили на плавники морской черепахи, чем я воображал[25]25
Опа’иву’экэ остается единственной известной черепахой, которая может длительное время проводить как в пресной, так и в соленой воде.
[Закрыть]. Потом я посмотрел на него внимательнее – опа’иву’экэ перестал плыть вниз по течению и остановился на месте, медленно перебирая ногами, чтобы поток его не снес, – и разглядел его панцирь, горбатый, как спина верблюда, яркого, жучиного зеленого цвета, зеленого почти до черноты, разделенный на аккуратные квадраты с так ясно размеченными границами, как будто их отчеканили по металлу. Но задуматься всерьез заставила меня его голова, маленькая, причудливой формы неровного ореха, на длинной, телескопической шее. До того момента я никогда не был склонен наделять животных человеческими чертами или разумом, но опа’иву’экэ смутил меня своей выразительностью, иначе, пожалуй, и не скажешь. Я посмотрел в его янтарные глаза, окруженные мешковатой и обвисшей кожей, и почувствовал, пусть и ненадолго, что история, рассказанная Таллентом, правдива, что это создание наделено мудростью и силой, а мы его гости и уж никак не высшие существа. За моей спиной трое провожатых что-то хором шептали на у’ивском, это был низкий, песенный шум, похожий на звук сверчков, и через несколько мгновений, пока мы все молчали, животное моргнуло нам и почти высокомерно продолжило свой путь по ручью, по-прежнему высоко держа голову и разделяя воду своими ногами-плавниками на ровные борозды.
Мы, не двигаясь, провожали опа’иву’экэ взглядом, но когда он скрылся, трое проводников быстро заговорили, и на их лицах я прочел и восторг, и страх.
– Они впервые в жизни увидели опа’иву’экэ, – тихо сказал мне и Эсме Таллент, и мы стали дальше смотреть, как трое мужчин обсуждают увиденное столь торопливо, будто стараются избавиться от воспоминания, а не закрепить его.
Мы втроем – даже Эсме – наблюдали за ними молча, и хотя в тот момент я счел их почти паническое поведение забавным, позже я понял, в чем дело: боги существуют в преданиях, на небесах и в других измерениях, люди не должны их видеть. Но когда мы вторгаемся в их мир, когда видим то, чего видеть не должны, что может последовать за этим, кроме катастрофы?
Это было странное время – несколько часов похода после встречи с черепахой. Наши проводники и так не казались мне особенно общительными – вообще-то они часто уходили так далеко вперед во время наших ежедневных переходов, что я, к своему стыду, едва о них вспоминал, – но сегодня они шли с нами, почти вплотную, как будто нуждались в нашей заботе и защите (от чего становилось довольно тревожно, потому что мы – за исключением, может, разве что Таллента – вряд ли могли защитить их от чего бы то ни было), и их тишина была не столько спокойная, сколько совершенно беззвучная. В отличие от нас, они не пыхтели, продвигаясь вперед, не останавливались, чтобы вытереть капли пота со лба; казалось, что им нужно меньше воздуха, чем нам, что они не подвержены лесной духоте. Но в тот день я наконец понял, что производимые ими звуки – тихий ответный писк, обращенный к невидимым насекомым, жужжащим и пиликающим в небесах, легкий свист, которым они указывали друг другу свое местоположение, – это все-таки часть фонограммы джунглей.
И вот в этой тишине с неба упало что-то влажное и тяжелое, приземлившись с сочным, многообещающим хлопком, как ломоть сырого мяса, который падает на другой такой же ломоть с огромной высоты. Проводники, оживившись, снова заговорили (боюсь, я мог вскрикнуть) и собрались вокруг упавшего предмета, который оказался плодом, хотя и не похожим на любые виденные мною до сих пор плоды. Он был отвратительно приапический, дюймов восемнадцать в длину, толстый, как баклажан, того особенного сахарно-новорожденного розового цвета, какой можно увидеть только в красках тропического заката. Но примечательнее всего было то, что он двигался – что-то заставляло раздуваться небольшими комками его тонкую однотонную кожуру, а потом снова сдуваться, и эти волны проходили по всей длине плода. Проводники снова одновременно и возбужденно заговорили, и подоспевший Таллент присоединился к их хору.
– Это плод манамы, – объяснил он. – Они растут только на этой высоте. Значит, мы близко.
Потом он взял плод из рук Фа’а и взрезал его посредине перочинным ножом. Из надреза высыпалась огромная копошащаяся масса личинок, размером и цветом походивших на мышат; они упали с плода на землю и начали расползаться, как кусочки мясного фарша, внезапно ожившие и устремившиеся по поверхности мха к чему-то спасительному. (Эсме, кажется, тошнило. Мне не стыдно признаться, что и меня тоже подташнивало.)
– Это черви хуноно, – продолжил Таллент, и на мгновение его безоблачное душевное равновесие, его явная неспособность испытывать отвращение от всего, что может бросить ему в лицо природа, показались мне свойством не совсем человеческим и несколько подозрительным. – Они проводят в этом плоде свой инкубационный период, а потом одновременно вырываются из него бабочками, самыми красивыми бабочками на свете. – Он улыбнулся нам. – Это деликатес, если их найти, но и сам плод – тоже. – Он спихнул последнюю личинку тупой стороной лезвия и отрезал для нас обоих по куску манамы. Не могу сказать, что я стремился попробовать плод, но выбора у меня не было. Эсме уже подносила свой кусок ко рту. Внутренность была того же цвета, что и поверхность, чуть сладкая, немного жилистая, с мясным, пружинистым ощущением хрящика. Таллент предложил мне добавки, но я помотал головой, и он, пожав плечами, передал остальное проводникам, которые принялись отрывать от плода целые куски. На темном фоне их кожи плод выглядел еще более уязвимым и мясистым, и я ощутил приступ необъяснимого страха.
Мы продолжили путь, и плоды манамы падали тем чаще, чем выше мы взбирались, всегда приземляясь с одинаковой тревожной силой. В какой-то момент я посмотрел вверх и обнаружил, что вижу только окружности этих плодов, будто бы по небу рассыпались плавающие опухоли, ни к чему не привязанные, но подвешенные над головой, как странные розовые луны. Постепенно другие деревья – например, канава, которая до сих пор попадалась на каждом шагу, – стали уступать место манамам (чья кора действительно набухала многоярусными, чешуйчатовидными наростами), пока мы не оказались полностью в их окружении, а воздух словно бы пронизался легким запахом чего-то человеческого и нечистого.
Но как раз когда я начал сомневаться, что Фа’а сможет найти свое дерево, то, на котором он оставил отметину, Ува вскрикнул и показал на ствол манамы с огромной кровавой нашлепкой, неровным, почти комическим красочным пятном. Когда мы приблизились, я увидел, что это не кровь, а что-то живое, похожее на обнаженный, выставленный наружу орган, как будто у дерева обнаружилось какое-то собственное анатомическое строение. «О господи, – подумал я, – неужели ничто в этих джунглях не может вести себя как должно? Что, плоды так и будут двигаться, деревья дышать, пресноводные реки пахнуть океаном? Почему ничто не следует законам природы? Почему все должно так навязчиво указывать на существование волшебства?» Только подойдя – нехотно и устало – вплотную к стволу манамы, я убедился, что это всего лишь дерево, а то, что я принял за трепещущее сердце, за вздымающееся легкое – это стая бабочек с покрытыми тусклым золотом алыми крыльями. В них-то, конечно, и превратились личинки, и когда Таллент отогнал бабочек взмахом ладони – я с некоторой грустью смотрел, как они разлетаются и на краткий миг зависают вокруг нас и над нами буйным облаком, – они тут же вернулись к дереву, которое снова пустило их питаться своим соком, застывшим, как и обещал Таллент, непрозрачными, стеклянистыми пузырями.
Вот, стало быть, оно. Вот то дерево, вот где Фа’а видел своих не-людей, вот к чему привели дни нашего пути. Но это свершение почти сразу оказалось под угрозой – мне стало очевидно, что осмысленного плана у нас нет. Наверняка, с некоторым надрывом думал я, план был как следует продуман? Мы что, должны просто стоять у этого дерева и ждать, словно дети в сказке, этих предполагаемых полулюдей, которые появятся перед нами, как ходячие видения? Мне представилось, как мы все скопом разворачиваемся и направляемся вниз через заросли джунглей, снова погружаясь в их влажные, липкие объятия, до самого океана, а потом – что потом? Мы как-то вернемся на У’иву, потом Эсме и Таллент поедут в Калифорнию, а я – в никуда. Я вдруг почувствовал себя таким же потерянным, как в доме у Смайта, и с горечью задумался, когда же я смогу уже с уверенностью сказать, морок меня окружает или просто неудачные обстоятельства.
Наконец, после долгого разговора с Фа’а, Таллент объявил, что мы остановимся здесь на ночь и двинемся дальше наутро. Ни Эсме, ни я не задали ему никаких вопросов – наверное, мы оба боялись услышать ответ, и, кроме того, ни один из нас ему обычно не перечил, – нет, мы послушно разложили свои вещи на траве. Помнится, в его голосе звучала пораженческая нота, и это вызвало у меня парадоксальное удовлетворение, хотя по большому счету следовало встревожиться: нас привело сюда, как он сам признавался, его предчувствие, и без Таллента я выходил просто глупым и безрассудным юнцом, который застрял в лесу, наполненном исключительно безумцами и мифами.
В ту ночь мне, как всегда, снились сны, но то ли из-за возвращения солнечных лучей в период бодрствования, то ли из-за того, что я все еще упорно цеплялся за ошибочное представление, будто мне удалось дойти до какого-то важного предела, то ли, может быть, из-за странных плодов манамы, которые плюхались, как пушечные ядра, разбивая ночь нестройным шумом, в моих видениях явились приземленные вещи, череда всего милого, привычного и такого непримечательного, что мне в голову не приходило об этом скучать: простой кожаный ботинок, который я когда-то носил, с крошащимся дерном на подошве; вяз, росший возле нашего дома, в котором как будто отражалось все благородное и величественное; рубашка, которую когда-то носил мой отец и ее голубая хлопковая ткань выцвела почти до белизны… и Оуэн, чье лицо плавало, подобно планете, на чешуйчатом шелковисто-черном фоне с выражением непонятным, но, догадывался я, исполненным жалости.
Но кого же он жалеет, думал я даже во сне.
Меня?
На следующий день мы проснулись, позавтракали и остались сидеть. Точнее, мы с Эсме и Таллентом остались сидеть, а проводники куда-то уковыляли. Становилось очевидно, что за неимением плана нам придется сидеть и ждать, как собакам, пока какое-нибудь событие само на нас не набредет.
Кто знает, как долго мы сидели. Несколько часов, безусловно, но сколько? Мы постоянно слышали, как перекликаются и бродят вдали проводники, и между потаенными взглядами в сторону Таллента (который писал яростнее, чем обычно, – о чем, хотелось мне спросить, ведь насколько я мог оценить, ничего антропологически интересного до сих пор не случилось) и стараниями не смотреть в сторону Эсме я лежал на спине и пытался сосчитать стебли какого-то ползучего растения (волокнистого, словно бы запыленного на вид), закрутившиеся в узлы на одной из нависавших сверху веток манамы. Вспоминать тот день мне до сих пор поневоле немножко стыдно. Боюсь, с молодыми людьми приключения пропадают зря. Мне стоило бы изучать окрестности, ползать в зарослях (намного более доступных и приятных, чем пару дней назад), бродить по лесу в поисках неописанной растительности (сейчас мне физически больно вспоминать, сколько трав, папоротников, цветов, деревьев я никогда раньше в жизни не видел и мог бы отмечать весь световой день), даже пытаться ходить за проводниками по их малопонятным и сосредоточенным маршрутам. Вместо этого я лежал на спине и считал лианы. Лианы! Я всю жизнь гордился своим любопытством, своей, как мне казалось, неутолимой интеллектуальной жаждой. И при этом, оказавшись в ситуации, когда почти все вокруг было чуждым, я ничего не делал, ничего не видел.
Когда в молодости тебя заносит в необычное место, ты предполагаешь, что это неизбежно произойдет еще раз и когда-нибудь потом ты снова окажешься в странной и экзотической обстановке. Но такое происходит очень редко. Большая часть из того, что мы наблюдаем в ближнем окружении, на самом деле повторяется в других частях света с унылой точностью: птицы, звери, плоды, небо, люди. Они могут выглядеть по-разному в разных местах, но их базовое поведение, в сущности, одинаково: птицы поют и порхают, звери крадутся и мычат, плоды бесчувственны и неодушевленны, небо наполняется облаками и звездами и пустеет, люди носят одежду, убивают, едят и умирают. На Иву’иву, как мне приходилось наблюдать множество раз, все эти вещи происходили не так, как можно было ожидать, но я был слишком неопытен, чтобы осознать, насколько это необычно. (Оглядываясь назад, я думаю, что Таллент, может быть, осознавал это. Может быть, именно этим он постоянно заполнял свой блокнот: вовсе не антропологическими наблюдениями, а описанием неизбывной странности места.) Только старики могут оглядываться и изумляться, потому что мы знаем, как однообразен на самом деле мир, как все его проблемы и чудеса уже опознаны и описаны.
Было бы приятно сказать, что после ожидания, после того, как утро медленно утекло прочь, мы внезапно оказались окружены людьми Фа’а, которые появились столь же неожиданно и театрально как, скажем, плод манамы. Но ничего подобного не произошло. Вместо этого, еще раз поговорив с покачивающим головой Фа’а, Таллент объявил, что мы разойдемся в разных направлениях, каждый с одним из вожатых, чтобы, как он туманно выразился, «изучить местность и поискать следы». Он с Фа’а собирался пойти на север, вверх по склону, Эсме – на восток, я – на запад. Встретиться мы должны были, вернувшись к дереву, когда солнце окажется в зените.
Рассказывая о тех событиях, я заново поражаюсь, какое это было случайное и бессмысленное решение. Но опять-таки тогда казалось, что это самый разумный и практичный шаг. В алогичных ситуациях человек цепляется за любую идею, которая выглядит хоть сколько-то логичной, даже если это просто случайная завеса, прозрачная и хлипкая, скрывающая недостаток серьезного планирования.
Так что мы разошлись, уж точно не слишком убежденные, что из этого что-нибудь выйдет. Ну конечно, призрачные люди Фа’а! Откуда мы знаем, что они вообще существуют? «Но ты же видел опа’иву’экэ, – напоминал я себе, а другой внутренний голос возражал: – Ты видел черепаху, только и всего. Черепаху, которую ты сам превратил в божество. Теперь ты такой же потерянный, как и они все». И на это мне было нечего возразить. Голос был прав. Я потерялся.
2
Первым их увидел Фа’а.
Мы узнали об этом намного, намного позже, когда солнце почти зашло и весь лес наполнился призрачным красноватым светом, как будто в воздухе сгустился яркий кровянистый туман. Мы – Эсме, Ту, Ува и я – ждали, когда вернутся Фа’а с Таллентом, и чем дальше, тем беспокойнее вели себя Ува и Ту; они по очереди бегали наверх, а второй оставался сторожить нас и наши вещи, как будто мы пленники или дети (не лучше которых, полагаю, мы для них и были).
А потом наконец они показались вдали; они шли вниз по склону, и Фа’а что-то лихорадочно и быстро кричал остальным, а за ним шел Таллент, а за Таллентом – кто-то еще, третий человек, и мы все стояли и смотрели, как они выходят из чащи. Я видел страх на лицах проводников и знал, что он отражается и на моем лице. Но я забегаю вперед.
Покинув нас в то утро, они, Таллент и Фа’а, прошли мимо дерева с бабочками (которое мы стали, хотя никто не произнес это вслух, считать демаркационной линией: ниже лежала знакомая нам земля, выше – terra incognita, хотя, конечно, это был надуманный топографический принцип, ведь нас окружала сплошная terra incognita – то, что лежало ниже этого дерева, мы могли покорить не в большей степени, чем то, что лежало выше), прошли в раскинувшиеся за ним джунгли. Через несколько сотен ярдов в зарослях стало еще свободнее, хотя кроны деревьев были тяжелы и покрывали пространство, как зонтики, затемняя и охлаждая воздух, лишая его света и звука. Я употребил эти слова произвольно, но здесь поистине раскинулся скорее лес, чем джунгли, зачарованный лес волшебных сказок, где избушки из лаково-черной лакрицы, украшенной жирной белой глазурью, стоят на полянах и говорящие волки рыскают на двух ногах в старушечьих чепчиках. Растения вокруг деревьев изменились тоже: исчезли жадные насекомоядные орхидеи, вульгарно-щегольские бромелии, приземистые саговники, и на их месте появились неяркие оборчатые клинья грибов, завитки крепко сцепленных папоротников.
Они шли, наверное, около часа, когда вдруг услышали звук – ничего интересного, ничего ошеломляющего, просто какой-то шорох, как будто над ними кто-то сжал лист бумаги. Двумя днями раньше они бы не обратили на это никакого внимания – ну, очередное семейство вуак резвится в ветвях канавы или какая-нибудь из этих противных туканообразных птиц, что оставляют яркий, фосфоресцирующий желтый помет на стволах деревьев, сверкающий, как масляная краска. Но здесь животные вели себя тихо, таились – они уже видели гигантских шерстистых ленивцев размером с лабрадора, которые сонно свисали с веток, и пауков с сияющими голубыми пятнами на спине, осторожно, деловито пробирающихся по стеклянистым паутинам, – и звуки утопали в тишине, как будто все вокруг затаило дыхание и напряженно, сосредоточенно его удерживало, готовое вдруг разразиться красками и шумом гигантского бала. Так что, услышав этот звук, они остановились и прислушались. Таллент обнаружил, что отчего-то считает про себя, как будто, стоит ему достичь определенного числа, им что-то откроется.
Он досчитал до семидесяти трех, когда Фа’а схватил его за руку и ткнул пальцем вперед, и Таллент увидел, как оно спускается по стволу манамы примерно в пятидесяти футах слева от них. Нельзя сказать, чтобы оно ползло умело или отличалось грациозностью, но на первый взгляд оно показалось Талленту ленивцем, а не человеком; в отличие от человека, который спускался бы по стволу ногами вниз, это существо ползло, крепко обхватив дерево руками, а тело вяло и бесполезно двигалось вслед. У манамы прочные и ровные ветви, которые растут почти от подножия до самой вершины, но существо не пользовалось ими в качестве лестницы, как делал бы человек. Скорее оно скользило вниз наподобие змеи (хотя это и было непросто – кора манамы практически исключает скольжение) и, встречая ветку, как бы в сомнении останавливалось, явно не понимая, что ее можно использовать для нужной цели. У подножия дерева, когда голова коснулась земли, существо снова замерло, потом рухнуло на землю и некоторое время просто лежало на спине, раскинув руки и ноги, не издавая ни звука. Фа’а сделал рукой знак, предупреждая Таллента от движения вперед (не то чтобы в этом была необходимость, говорил позже Таллент, – он был слишком зачарован, чтобы двигаться), и несколько минут они оба стояли как вкопанные и смотрели на то, что распласталось на земле.
Когда оно наконец встало, это произошло в два приема: сначала оно перешло в сидячее положение, не подставляя локти, но разом, от поясницы, словно его потянул невидимый шкив, а потом, после еще одной паузы, резко поднялось на ноги. А потом оно пошло, и Фа’а с Таллентом скрылись за деревом, чтобы понаблюдать.
Существо оказалось чуть ниже Фа’а, ростом фута в четыре или около того; это была женщина с отвисшей грудью, животом на вид твердым и округлым и ногами широкими и плоскими, как у Фа’а, хотя у нее они были еще шире и пальцы на ступнях жадно закапывались в землю. Она была очень волосата – лобковые волосы сплелись в плотный колтун, а шевелюра казалась сплошным куском черноты, такая она была спутанная и густая. На ногах тоже темнела поросль, спина была покрыта шерстистой шкурой. К волосам прицепилось разное: обрывки листьев, комки грязи, фруктов, испражнений; Таллент увидел, что в волосах над ее вульвой затаился, как отдельный орган, червь хуноно. Двигалась она, как ему показалось, по-человечески – они видели, как она склонилась (опять-таки со скованностью в пояснице), чтобы взять упавший плод манамы, и яростно вгрызлась в него, а хуноно расползлись между ее пальцами и раскрасили розовой пастой все вокруг, – но жесты эти были неуклюжи, как будто она когда-то давно научилась вести себя по-человечески, а теперь медленно и упорно забывала. А потом очередным резким движением она повернулась и уставилась прямо на Фа’а и Таллента, и хотя Фа’а шагнул за дерево, тихо зашипев от ужаса и отвращения, Таллент шагнул в противоположную сторону, не обращая внимания на умоляющие, беспорядочные жесты Фа’а, и двинулся навстречу этому существу.
Он шел медленно и осторожно, уже осознавая, что ее движения начинаются без всякого предупреждения, и подошел ярдов на десять, после чего остановился. Все это время она смотрела, как он приближается, извивающийся плод манамы так и лежал в ее руке, черви так и падали изо рта и с ладони, отскакивали от живота и летели на землю, рот был нелепо и причудливо разинут, глаза не отрывались от его лица.
Таллент сделал еще шаг вперед. Существо смотрело на него. Он сделал еще шаг. По-прежнему ничего. Еще шаг, и он почти что сможет до нее дотронуться. Он его сделал.
И тогда она закричала; крик становился то громче, то тише, то громче, то тише, разнясь по партитуре от рыка до вопля, от визга до писка, и снова утихал, и опять разносился. Он слышал, как Фа’а за его спиной взывает «Отойди! Отойди!», но не отходил и оставался там, в нескольких футах от существа, и по-прежнему протягивал к ней руку, а она по-прежнему сжимала в руке плод манамы, и черви по-прежнему сыпались ей под ноги, и ее голос единственным звуком разносился по тихому, жуткому, зачарованному лесу, не умолкая, наполняя его страшным, неритмичным, бесконечным воплем.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































