Читать книгу "Убийство Командора. Книга 2. Ускользающая метафора"
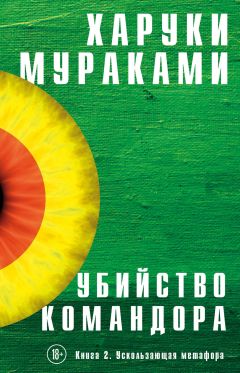
Автор книги: Харуки Мураками
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
И вот дядю заставили офицерским мечом рубить голову пленному. Офицером был молодой младший лейтенант, который только-только окончил военное училище. Дядя, разумеется, делать этого не хотел. Но если бы он ослушался приказа старшего по званию, это бы ему с рук не сошло. Одним осуждением сослуживцев он бы не обошелся. В императорской армии приказ старшего по званию – считай, приказ самого императора. Дядя взмахнул дрожащей рукой, но сил ему не хватало, да и меч был дешевкой массового производства. Одним махом таким голову просто не отсечь. Последний удар дядя уже был не в состоянии сделать, вокруг все в крови, пленный корчился от боли. Поистине ужасная была картина.
Масахико покачал головой. Я молча пил кофе.
– Дядю после этого стошнило. Когда в желудке ничего не осталось, его рвало желудочным соком, когда не осталось и его – воздухом. Солдаты столпились вокруг и насмехались над ним. Офицер с криком «позорище!» изо всех сил пнул его сапогом. И никто его не пожалел. В конечном счете, его заставили рубить головы еще двум пленным. Так и сказали: «Для тренировки, пока не привыкнешь. Считай, что это – обряд посвящения. Такой опыт тебе пригодится, чтобы стать настоящим солдатом». Однако дядя так и не смог стать настоящим солдатом. Он был не для этого создан. Он родился, чтобы красиво играть Шопена и Дебюсси. Он был не из тех, кто рожден рубить людям головы.
– А разве где-то существуют те, кто рожден рубить людям головы?
Масахико опять покачал головой.
– Это уже не моего ума дело. Однако людей, которые могут привыкнуть рубить другим людям головы, должно быть, немало. Люди же к разному привыкают, а особенно – в экстремальных условиях. Причем, вполне вероятно, привыкают, даже особо этому не противясь.
– Или если их действиям придать смысл и законность.
– Именно, – подтвердил Масахико. – И в большинстве случаев смысл и законность их действиям предоставляются. Я сам в себе не уверен. Скажем, окажусь я в системе насилия, вроде армии, и старший по званию отдаст мне приказ. Каким бы бессмысленным, каким бы бесчеловечным он ни был, я не настолько силен, чтобы суметь сказать этому «нет».
Я задумался о себе. Как бы я поступил, окажись в схожей ситуации? Затем вдруг вспомнил ту странную женщину, с которой провел ночь в портовом городке в префектуре Мияги. В самый разгар наших любовных игрищ она дала мне пояс от халата и велела изо всех сил затянуть его у нее на шее. Мне кажется, я никогда не забуду, каково держать в руках пояс из махровой ткани.
– Дядя Цугухико не смог пойти против приказа того офицера, – продолжал Масахико. – У него не было ни смелости, ни возможности отказаться. Однако позже он смог решиться по-своему – когда оборвал свою жизнь наточенным лезвием. И в этом смысле, я считаю, он не был слабаком. Оборвать собственную жизнь – для дяди это было единственным способом восстановить свою человечность.
– И смерть господина Цугухико стала потрясением для твоего отца, когда он узнал об этом в Вене?
– Нечего и говорить.
– Ты уже рассказывал про то, как он оказался вовлечен в политический инцидент, и его отправили обратно в Японию. А нет ли какой-то связи между этим инцидентом и самоубийством младшего брата?
Масахико скрестил на груди руки и нахмурился.
– Этого я не знаю. Во всяком случае, отец ни словом не обмолвился о венском инциденте.
– Я слышал, будто твой отец влюбился в девушку – участницу сопротивления, и тем самым оказался причастен к подготовке убийства.
– Да. Насколько я знаю, отец влюбился в австрийскую девушку, которая училась в Венском университете, и они вроде даже были помолвлены. Но вскрылся план покушения, девушку арестовали и, по слухам, отправили в Маутхаузен. Скорее всего, там она и погибла. Моего отца тоже арестовало гестапо, и в начале 1939 года его принудительно выслали в Японию как «нежелательного иностранца». Разумеется, все это я слышал не от него самого, а от родственников, поэтому информация достоверная.
– Кто-то постарался, чтобы твой отец ничего об этом не рассказывал?
– Вполне возможно. Когда его выдворяли из страны, обе стороны – и немецкая, и японская – наверняка предупредили, чтобы он не распространялся об этом случае. Помалкивать было важным условием того, чтобы ему сохранили жизнь. Да и сам отец ничего не хотел об этом говорить. Поэтому даже после окончания войны, когда его уже вроде бы ничего не сдерживало, он все равно крепко держал язык за зубами.
Масахико ненадолго умолк, а затем продолжил:
– А что касается того, что он примкнул к подпольному сопротивлению в Вене – возможно, смерть дяди Цугухико послужила ему дополнительным мотивом. В результате мюнхенского соглашения войны на том рубеже удалось избежать, зато укрепилась ось Берлин – Токио, и над миром постепенно стали сгущаться тучи военной угрозы. И отец, по всей видимости, очень хотел, как мог, помешать этой волне. Отец прежде всего ценил свободу. Он и всякие там нацисты и милитаристы – люди из разного теста. Думаю, смерть младшего брата имела для него большое значение.
– А больше ты ничего не знаешь?
– Отец никогда не рассказывал о своей личной жизни. Не давал интервью газетам и журналам, не писал о себе никаких мемуаров. Наоборот – прожил жизнь, как бы пятясь, внимательно заметая за собой все следы.
Я сказал:
– Выходит, вернувшись из Вены в Японию, он хранил глубокое молчание, не опубликовав до конца войны ни одного произведения?
– Да, он молчал целых восемь лет – с тридцать девятого по сорок седьмой. И, похоже, вообще держался подальше от мира искусства. Он и раньше-то все это не любил и не понимал, когда все художники кинулись рисовать радостно восхвалявшие войну патриотические агитки. К счастью, семья наша – обеспеченная, так что голодать никому не приходилось, да и в армию больше никого не забрали. Так или иначе, когда послевоенный хаос постепенно утих и отец вернулся в мир искусства, он всецело переключился на традиционную японскую живопись. Полностью отказавшись от всех своих прежних наработок, Томохико Амада осваивал совершенно новые для себя правила и техники.
– Что было потом, стало легендой.
– Именно, – подтвердил Масахико. – Так легенда и родилась. – И он сделал такое движение рукой, будто что-то смахивал из воздуха. Точно легенда свисала над ним слоем пыли и мешала дышать полной грудью.
Я сказал:
– Слушаю тебя – и складывается такое впечатление, будто венская стажировка отбросила глубокую тень на всю последующую жизнь твоего отца.
Масахико кивнул.
– Да, мне тоже так кажется. Те события во многом изменили его жизненный путь. Провалу покушения способствовали несколько мрачных фактов. Настолько ужасных, что об этом трудно говорить.
– Но конкретных подробностей мы ведь не знаем.
– Не знаем. Не знали и тогда, тем более – не знаем теперь. Сейчас даже он вряд ли что-либо знает.
А что, если… – вдруг подумал я. Люди временами забывают то, что должны были помнить, и вспоминают то, что, должно быть, забыли. Особенно когда смерть близка.
Масахико допил второй бокал вина, посмотрел на часы и слегка нахмурился.
– Пожалуй, мне пора возвращаться на работу.
– Ты же хотел о чем-то со мной поговорить, – напомнил я, вдруг сам об этом вспомнив.
Он легонько хлопнул ладонью по столу.
– Точно! Должен был тебе кое-что рассказать, а мы заболтались о моем отце. Ладно, расскажу в следующий раз – это не к спеху.
Перед тем, как встать из-за стола, я еще раз посмотрел Масахико в глаза и спросил:
– Почему ты все это мне рассказываешь? Даже семейные тайны?
Он опустил расставленные руки на стол и задумался. Потеребил мочку уха.
– Ну, для начала потому, что я сам подустал хранить все эти «семейные тайны» в одиночку. Возможно, хотел с кем-нибудь поделиться – с тем, кто будет держать язык за зубами, кто от этого ничего не выиграет. В этом смысле ты идеальный слушатель. И, по правде говоря, я перед тобой в небольшом долгу, и мне бы хотелось как-то его вернуть.
– Передо мной в долгу? – удивился я. – В каком это еще долгу?
Масахико прищурился.
– Как раз об этом я и хотел с тобой поговорить. Однако сегодня времени больше нет – у меня другие планы. Пока подумай, когда и где мы можем спокойно встретиться вновь.
Счет оплатил тоже он.
– Не беспокойся! Столько я могу списать на представительские расходы, – сказал он. Я поблагодарил.
После этого я вернулся в Одавару на своей «королле»-универсале. Когда парковал запылившуюся машину перед домом, солнце подкрадывалось к кромке западных гор. Большая стая ворон с криками летела ночевать на другую сторону лощины.
38
Так им нипочем не стать дельфинами
До того, как воскресным утром ко мне приедет Мариэ Акигава, я уже почти все продумал и решил, как буду писать ее на подготовленном для портрета новом холсте. Какой конкретно рисовать картину, я пока не знал – лишь понимал, как нужно начать ее рисовать. Прежде всего в голове из ниоткуда рождается замысел, какой кистью и краской какого цвета нанести первые мазки на белейший холст; вскоре он зацепляется и постепенно начинает укореняться во мне – уже как действительность. Мне нравился сам этот процесс.
Утро выдалось прохладным, как бы напоминая, что зима близко. Я сварил кофе, быстро позавтракал и пошел в мастерскую. Там собрал все необходимые принадлежности и встал у мольберта. Однако перед холстом лежал эскизник, открытый на странице с детальным карандашным наброском склепа в зарослях. Его я нарисовал с утра несколько дней назад. Без всякой цели – как на душу ляжет, – а потом совершенно забыл, что вообще это сделал.
Однако пока я стоял перед мольбертом и, сам того не желая, смотрел на этот эскиз, изображенное там с каждой минутой нравилось мне все больше. Загадочная каменная комната, тайно зияющая отверстием посреди зарослей. Влажная поверхность земли вокруг и ковер из опавших листьев разных цветов и оттенков. Полоски солнечного света меж ветвями деревьев. Этот пейзаж возник у меня в воображении как цветная картинка. Проснулось воображение, дополнило недостающие детали: я уже чуял сам воздух этого места, запах травы, я слышал, как поют там птицы.
Склеп, детально прорисованный карандашом в большом эскизнике, будто бы настойчиво манил меня для чего-то – или куда-то. Я чувствовал: склеп настаивает, чтобы я его нарисовал. Тот редкий случай, когда я хочу нарисовать пейзаж. Почти десять лет я рисовал сплошь портреты, так почему бы иногда не развлечься пейзажем. «Склеп в зарослях». Этот карандашный эскиз мог бы стать наброском для такой картины.
Я захлопнул альбом и снял его с мольберта, где остался лишь белейший новый холст – которому суждено стать портретом Мариэ Акигавы.
Незадолго до десяти, как и раньше, по склону бесшумно поднялась синяя «тоёта приус». Открылись дверцы, из машины вышли Мариэ Акигава и ее тетя – Сёко Акигава. Женщина была в длинном темно-сером жакете в елочку и светло-серой шерстяной юбке, в черных ажурных чулках. Ее шею обвивал цветастый шарф от Миссони. Одета с шиком и в стиле урбанистической осени. А на девочке были просторная толстовка, ветровка с капюшоном, синие джинсы с дырками на коленях, на ногах – темно-синие кеды «Конверс». Одета она была почти так же, как в прошлый раз, – только без кепки. Воздух дышал прохладой, небо выстилал слой полупрозрачных облачков.
Мы поздоровались, и Сёко Акигава села на диван, достала из своей обычной сумки толстый покетбук и все свое внимание переключила на него. Мы же с Мариэ, оставив тетю в гостиной, перешли в мастерскую. Как и прежде, я сел на деревянный табурет, Мариэ – на простой стул из гарнитура. Между нами было примерно два метра. Она сняла ветровку, свернула ее и положила под ноги. Сняла и толстовку – под нею оставались две майки: поверх серой с длинными рукавами была темно-синяя с короткими. Грудь под ними так пока и не обозначилась. Мариэ расчесала пальцами прямые черные волосы.
– Не холодно? – спросил я. В мастерской был старый керосиновый обогреватель, но я его не включал.
Мариэ едва заметно качнула головой, что означало – «нет».
– Сегодня начнем писать на холсте, – сказал я. – Тебе при этом ничего особенного делать не нужно. Просто сиди на стуле, а остальное – мое дело.
– Я не могу ничего не делать, – ответила она, глядя мне прямо в глаза.
– Что это значит? – спросил я, не убирая рук с колен.
– Я ведь живой человек. Дышу. Размышляю.
– Конечно, – ответил я. – Само собой, дышать ты можешь сколько угодно. И размышлять сколько захочешь. Я имею в виду, что от тебя ничего особенного не требуется. Будь сама собой – мне только это и нужно.
Однако Мариэ по-прежнему смотрела на меня в упор, будто не могла согласиться с таким простым объяснением.
– Я хочу что-нибудь делать, – сказала она.
– Что, например?
– Помогать вам писать картину.
– Я, конечно, признателен тебе за это, но как ты собираешься помогать?
– Конечно же, мо-раль-но.
– Вот как… – произнес я, хотя не мог даже представить, как именно она мне поможет «мо-раль-но».
Мариэ сказала:
– Если можно, я хотела бы оказаться у вас внутри – пока вы рисуете мой портрет. И попытаться увидеть себя вашими глазами. Так мне, возможно, удастся лучше понять саму себя. И тогда вы, сэнсэй, тоже поймете меня лучше.
– Вот бы так и было.
– Вы правда этого хотите?
– Конечно, правда.
– Но временами может быть очень страшно.
– Понимать себя лучше? Ты об этом?
Мариэ кивнула.
– Чтобы понять себя лучше, необходимо откуда-то привлечь что-то еще, иное. Вот я о чем.
– А без добавки иного – постороннего фактора – понять себя достоверно не удастся?
– Что такое «посторонний фактор»?
Я пояснил:
– Чтобы верно знать смысл отношения между «А» и «Б», требуется другая точка зрения, именуемая «С». Это называется «триангуляция».
Мариэ, подумав, слегка пожала плечами:
– Пожалуй.
– И то, что добавляется, порой может быть очень страшным. Ты это хотела сказать?
Мариэ кивнула.
– А раньше тебе от этого страшно бывало?
На этот вопрос девочка не ответила.
– Если мне удастся нарисовать тебя достоверно, – сказал я, – ты своими собственными глазами сможешь увидеть себя такой, какой видела моими. Конечно, если все сложится удачно.
– Для этого нам и понадобится картина.
– Да, для этого она нам и понадобится. Как могут понадобиться литература или музыка.
«Если все сложится удачно», – сказал я самому себе.
– Ну что, примемся за работу? – произнес я вслух. Глядя на лицо Мариэ, я приготовил коричневый цвет для чернового наброска. И выбрал первую кисть.
Работа продвигалась не быстро, но безостановочно. Я рисовал на холсте верхнюю половину туловища Мариэ Акигавы. Девочка она красивая, но моей картине особая красота не требовалось. Мне было необходимо то, что спрятано у нее внутри. И мне следовало обнаружить это нечто и перенести на холст. Совсем не обязательно, чтобы оно было красивым – порой это нечто бывает и безобразным, и уродливым. В любом случае само собой разумеется: чтобы заприметить это нечто, мне нужно правильно понимать того, кого я пишу. Не слова и логику этого человека, а его или ее как единое целое, общность света и тени.
Я сосредоточенно наносил на холст линии и краски. Порой проворно, порой – не торопясь и внимательно, осторожно. Все это время Мариэ совершенно не меняла выражения лица. Она тихо сидела на стуле. Но я видел, что она сжала всю свою силу воли в кулак и крепилась как могла долго. Я смог уловить эту силу, почувствовать, как она движется у девочки внутри. Как говорила Мариэ: «Я не могу ничего не делать». И она что-то делает. Наверняка – чтобы помочь мне. Между мной и этой тринадцатилетней девочкой, вне всяких сомнений, происходило нечто вроде взаимного обмена.
Я вдруг вспомнил о руке младшей сестры. Когда мы вместе вошли в пещеру у горы Фудзи, в леденящем мраке сестра крепко сжимала мою руку. Пальцы у нее были маленькие, теплые, на удивление цепкие. И между нами тогда происходил самый настоящий духовный обмен – жизненной силой. Отдавая, мы одновременно что-то принимали, пусть коротко и в тесном месте. Вскоре это ощущение побледнело и пропало. А вот память о нем осталась. Память может согреть время. А искусство, придавая форму этой памяти, может ее увековечить – но лишь когда «все складывается удачно». Как это удалось Ван Гогу, когда он в коллективной памяти продлил жизнь простого деревенского почтальона.
Примерно два часа мы молча сосредоточивались каждый на своей работе.
Я наносил на холст ее фигуру сильно разбавленной краской. Это и станет черновым наброском. Мариэ, сидя на стуле из гарнитура, продолжала неподвижно оставаться сама собой. Наступил полдень – издалека, как обычно, донесся сигнал, услышав который я понял, что отведенное время истекло, и закончил работу. Отложив палитру и кисть, я прямо на табурете потянулся изо всех сил и только теперь наконец понял, насколько устал. Когда я, сделав глубокий вдох, ослабил внимание, Мариэ тоже впервые за все это время сбросила внутреннее напряжение.
Перед моими глазами на холсте было одноцветное изображение верхней части туловища Мариэ. Так сложилась структура – на этой основе уже можно писать портрет. Пока что это лишь примерные очертания, однако в стержне этого скелета уже имелся некий источник тепла, который делал Мариэ на холсте ее самой. Она, правда, пока что пряталась в глубине, но стоит лишь выявить, где ее укрытие, все остальное будет делом техники. Тогда останется лишь добавить плоть.
Мариэ ничего не спросила про начатый портрет и даже не попросила показать. Я тоже ничего не говорил – я слишком устал, чтоб еще и разговаривать. Мы молча вышли из мастерской в гостиную. На диване Сёко Акигава по-прежнему увлеченно читала. Вставив закладку, она закрыла книгу, сняла очки с черной оправой, подняла взгляд и посмотрела на нас. Лицо у нее стало слегка удивленным – видимо, она прочла у нас в лицах усталость.
– Как продвигается работа? – обеспокоенно спросила она у меня.
– Все в порядке. Пока что промежуточный этап.
– Это хорошо, – сказала она. – Если вы не против, я схожу на кухню и заварю вам чай? Чайник уже закипел. И я знаю, где у вас хранится заварка.
Несколько опешив, я взглянул на Сёко Акигаву – она утонченно улыбалась.
– Простите, что я такой плохой хозяин, но за чай я вам буду признателен.
Я действительно очень хотел горячего черного чаю, но подниматься, идти на кухню и ставить чайник мне совсем не хотелось – так сильно я устал. Не помню, чтобы вообще я так сильно уставал в последнее время за работой. Но физически при этом мне было хорошо.
Минут через десять Сёко Акигава вернулась в гостиную с чайником и тремя чашками на подносе. Чай мы пили молча, каждый в собственных мыслях. Мариэ в гостиной пока не произнесла ни слова – лишь вскидывала руку и смахивала падавшую на лоб челку. Она опять надела толстовку, будто хотела от чего-то защититься.
Мы чинно и бесшумно пили чай, доверив свои тела течению времени. Какое-то время все трое молчали, но окружавшая нас тишина была естественной и какой-то оправданной. Однако вскоре до меня донесся знакомый звук. Сначала он показался вялым шумом прибоя, что вынужден вечно накатываться на далекий берег, но постепенно усилился и вскоре стал отчетливо различимым звуком непрерывно работающего механизма. С таким 4,2-литровый восьмицилиндровый двигатель весьма элегантно потребляет ископаемое топливо высокой очистки. Встав с табурета, я подошел к окну и увидел сквозь щель между штор явление серебристой машины.
Мэнсики был в светло-зеленом кардигане и кремовой сорочке. Шерстяные брюки у него были серыми. Вся одежда – очень чистая, без морщин и складок, будто прямо из химчистки. Но отнюдь не новая – все вещи были прилично поношенными и потому тем более казались чистыми. Густые волосы, как и прежде, сияли белизной. Казалось, белизне этой нипочем смена времен года, ненастье и вёдро. В них могло меняться лишь одно – само их сияние.
Выйдя из машины, он захлопнул дверцу, поднял голову и посмотрел на облачное небо. Как будто бы что-то подумал о погоде, после чего решился и медленно двинулся к крыльцу. Там нажал кнопку дверного звонка – неспешно, осмотрительно, будто поэт, отбирающий особое слово, чтобы вставить его в важную строчку. Хотя, как ни смотри на него, то был всего лишь старый дверной звонок.
Я открыл дверь и проводил его в гостиную. Он приветливо поздоровался с гостьями. Сёко Акигава, увидев его, встала с дивана, а Мариэ осталась сидеть, накручивая на палец прядь волос. На Мэнсики она почти не смотрела. Я предложил всем сесть, а заодно спросил у Мэнсики, будет ли он пить чай. Тот на это ответил, чтоб я не беспокоился. Несколько раз покачал головой и замахал рукой.
– Как работа? – спросил он у меня.
– Продвигается, – ответил я.
– Как тебе позировать? Устаешь? – спросил Мэнсики у Мариэ. Он обратился прямо к девочке, глядя ей в глаза, впервые на моей памяти. Голос у него еле заметно дрожал, выдавая напряжение, однако сегодня Мэнсики перед девочкой уже не краснел и не бледнел. А лицо у него и вообще выглядело почти как обычно. Похоже, он все-таки научился сдерживать чувства. Наверняка устроил себе тренинг по особой программе.
Мариэ на вопрос не ответила – только еле слышно буркнула что-то нечленораздельное. Ее руки лежали на коленях, а пальцы были сплетены в крепкий замок.
– Мариэ с нетерпением ждет воскресенья, чтобы с утра сюда приехать, – произнесла Сёко Акигава, чтобы нарушить неловкую паузу.
– Позировать художнику – работа не из легких, – как мог, поддержал я тетушку. – Мне кажется, госпожа Мариэ старается изо всех сил.
– Я тоже некоторое время провел здесь как модель, поэтому могу сказать, что позировать – это необыкновенный опыт. Мне порой даже казалось, будто у меня выкрадывают душу, – сказал Мэнсики и засмеялся.
– Совсем не так, – сказала Мариэ почти шепотом.
Я, Мэнсики и Сёко Акигава почти одновременно посмотрели на нее. Лицо у тетушки при этом было как у человека, который по ошибке что-то проглотил. На лице Мэнсики угадывалось чистое любопытство. Я же старался остаться безучастным наблюдателем.
– Ты это о чем? – спросил Мэнсики.
Мариэ ответила монотонно:
– Ничего и не выкрадывают. Я что-то отдаю, и я что-то получаю.
Мэнсики произнес тихо, будто бы даже с восхищением:
– Ты права. Да еще и выразилась так просто. Конечно же, здесь должен быть обмен. Ведь творчество – действие нисколько не одностороннее.
Мариэ молчала. Как одинокая кваква, что может часами напролет стоять около воды и просто всматриваться в ее поверхность, эта девочка уперлась взглядом в чайник на столе. Обыкновенный керамический чайник белого цвета, пусть и старый – им пользовался еще Томохико Амада, – но созданный для практической цели. На кромке – еле заметные сколы. А потому – предмет без особой прелести, такой не заслуживает, чтобы его пристально разглядывали. Просто ей требовалось сосредоточенно воткнуть куда-нибудь свой взгляд.
В комнате повисла тишина. Напоминала она белейший рекламный щит, на котором ничего не написано.
Творчество, подумал я. В слове этом будто бы звучали нотки, призывающие все вокруг умолкнуть. Словно воздух, которым заполняется вакуум. Хотя нет, в этом случае вернее было бы сказать наоборот: вакуум всасывает в себя воздух.
– Если пожалуете ко мне, – прервав тишину, робко обратился Мэнсики к Сёко Акигаве, – можете поехать со мной, а потом я привезу вас обратно сюда. Заднее сиденье у меня тесновато, но дорога к моему дому весьма извилиста, поэтому, думаю, будет удобней ехать одной машиной.
– Да, конечно, – не колеблясь, ответила тетушка, – мы поедем с вами.
Мариэ о чем-то думала, по-прежнему не сводя взгляда с белого чайника. О чем? Что питало ее мысли, я, конечно же, не знал. Как не знал и того, где они будут обедать. Но это же Мэнсики – он умный, и у него все продумано досконально. Так что мне можно ни о чем не беспокоиться.
Рядом с водителем села Сёко Акигава, Мариэ разместилась на заднем сиденье. Впереди двое взрослых, сзади – ребенок. Они даже не обсуждали ничего, места распределились как-то сами собой. Стоя перед входной дверью, я проводил машину взглядом – она тихо спустилась по склону и скрылась из виду. А потом вернулся в дом, отнес на кухню чашки и чайник и все вымыл.
Затем я поставил на проигрыватель пластинку Рихарда Штрауса «Кавалер розы» и, завалившись на диван, просто слушал музыку. У меня это уже вошло в привычку: когда нечем заняться, я слушаю «Кавалера розы». Привил мне ее Мэнсики: эта музыка, как он говорил, действительно затягивает. Это непрерывное и бесконечное чувство, там повсюду колоритные отзвуки. «Даже метлу я могу выразить музыкой», – самоуверенно заявлял некогда Штраус. Или то была не метла? Как бы то ни было, вся музыка у него поистине живописна. Пусть даже сам я стремлюсь к другой живописности.
Немного погодя я открыл глаза и увидел перед собой Командора. Он был в своем привычном наряде эпохи Аска и с мечом за поясом. Шестидесятисантиметровый мужчина сидел в массивном кожаном кресле, слегка ссутулившись.
– Давно не виделись, – сказал ему я. Собственный голос показался мне насильно притянутым откуда-то из другого места. – Как поживаете?
– Мы уже говорили сударям в прошлых, у идей не суть понятий времен, – отчетливо произнес Командор. – Следовательно, понятий «давно не виделись» – тоже.
– Это же просто привычка. Приветствие. Не обращайте внимания.
– Мы также не ведаем, что суть «привычки».
Пожалуй, он прав. Там, где нет времени, привычки не возникают. Встав с дивана, я подошел к проигрывателю, поднял иглу и убрал пластинку в коробку.
– Именно так, – произнес Командор, прочитав мои мысли. – В тех мирах, где времена свободно движутся тудасюда, привычки и прочие не суть возникают.
Я задал ему вопрос, который давно меня беспокоил:
– А идее источник энергии не требуется?
– Непростые вопросы судари наши задают, – ответил Командор, наморщив лоб. – Чем бы те ни были, чтоб оне народились и дальше существовали, какие-то энергии да требуются. Разве не суть сии одни из основных законов вселенных?
– Выходит, идее тоже необходим источник энергии? Следуя из основного закона Вселенной.
– Именно. У законов вселенных исключений не суть. Однако преимущества идей в тех, что у них не суть изначальных обликов. Идеи, когда их осознают другие, впервые возникают как идеи и облачаются в формы. И формы у них – временные, для удобств.
– В смысле – в местах, где ее не осознают, идея существовать не может?
Командор поднял к небу указательный палец правой руки и закрыл один глаз.
– С сих мест, судари наши, как проводить аналогии?
Я тщательно подумал. На это потребовалось время, но Командор терпеливо ждал.
– Как мне кажется, – сказал я, – идея существует за счет осознания других, что и является источником ее энергии.
– Именно, – произнес Командор и несколько раз кивнул. – Пониманья безупречны. Идеи не могут существовать без осознаний других. И вместе с теми существуют за счеты энергий осознаний других.
– Так что получается? Достаточно мне посчитать, что «Командора не существует», и вас не будет?
– Теоретически, – ответил Командор. – Однако сие лишь в теориях. На самих делах сие не суть действительны. Почему? Все просто: потому что людям, решившим отказаться от каких-либо мыслей, фактически невозможно перестать думать. Мысли прекратить о чем-то думать тоже суть одни из мыслей, и пока люди так думают, думают оне и о сих чем-то. А чтоб отказаться от мыслей о чем-то не думать, людям надобно отбросить сами мысли о тех, что оне намерены от чего-то отказаться.
Я сказал:
– Иначе говоря, до тех пор, пока по чьему-либо хлопку в ладоши не пропадет вся память, пока повсюду не отпадет естественный интерес к идее, человеку от идеи никуда не деться?
– Дельфинам сие по силам, – сказал Командор.
– Дельфинам?
– Дельфины умеют спать, отключая полушария мозгов попеременно.
– Я не знал.
– По сим причинам дельфины не питают интересов к идеям. Посему оне остановились в процессах своих эволюций. Мы тоже по-своему старались, но, к сожалениям, не смогли установить полезных отношений с ними, хоть это и весьма перспективные семейства. Во всяких случаях, до появлений людей среди млекопитающих сие были животные с самыми большими мозгами по отношеньям к весам тел.
– Однако с людьми же они смогли установить полезные отношения?
– У людей, в отличиях от дельфинов, мозги лишь извилистые, но одноколейные. Взбредут вдруг какие идеи, и от них уж не отделаться. Вот так идеи и смогли длительно выживать, подпитываясь энергиями людей.
– Как паразит?
– Зачем такие неблагозвучные сравненья? – воскликнул Командор и покачал указательным пальцем, будто учитель, отчитывающий ученика. – Да, идеи подпитываются энергиями, но берут самые малости. Какие-то горсти – обычные люди сих даже не заметят: оне никак не повредят их здоровьям и не скажутся на повседневных жизнях.
– Однако вы же сами говорили, что у идеи нет морали. Что идея – во всех отношениях понятие нейтральное, и все зависит от человека, как он с нею поступит, сделает хуже или лучше. А раз так, идея может делать для человека что-то хорошее, но бывает и наоборот – плохое. Верно?
– При том, что понятия E=mc 2 должны быть нейтральны, оне в результатах породили атомные бомбы. Которые на практиках сбросили на Хиросимы и Нагасаки. Вы, судари наши, хотите сказать, к примерам, о сих?
Я кивнул.
– Сие ранит нам сердца. – Нечего и говорить, Командор ляпнул это ради красного словца – у идеи нет плоти, следовательно, и сердца не суть. – Однако, судари наши, в сих вселенных во всех caveat emptor.
– Что-что?
– Caveat emptor. С латыней сие «ответственности покупателей». Как применяются вещи, оказавшись в руках покупателей, продавцов никак не касается. Например, могут ли продавцы готовых одежд выбирать, кому их носить?
– Ну, это вряд ли.
– E=mc 2 породили атомные бомбы, но с других сторон – и много хороших.
– Например, что?
Командор подумал, но подходящий пример сразу на ум не пришел. Тогда он принялся молча тереть ладонями лицо. А может, просто не увидел смысла в дальнейшей дискуссии.
– Кстати, вы не знаете, куда из мастерской делась погремушка?
– Погремушки? – переспросил, встрепенувшись, Командор. – Какие еще погремушки?
– Старая такая, ею вы сами долго звонили из того склепа. Она лежала на полке в мастерской, а недавно я обнаружил, что она пропала.
Командор уверенно покачал головой:
– А-а, те погремушки! Нет, не ведаем-с. В последние времена мы к погремушкам и не прикасались.
– Тогда кто же мог ее унести?
– И этого мы совсем не ведаем-с.
– Кто-то его вынес ее из дому и, похоже, где-то в нее звонит.
– Хм-м. Сие не суть наши заботы. Те погремушки прекратили нам быть в надобности. Вообще-то оне не суть наши, наоборот – оне от тех мест. Во всяких случаях, ежели оне пропали, на то были свои причины. Вскорости того и глядите – где-то объявятся. Стоит только подождать.









































