Текст книги "Валсарб"
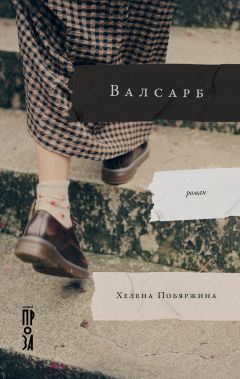
Автор книги: Хелена Побяржина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Я думаю о белых клубничинах в нашем саду, о Бабе, которая из года в год варит крыжовенное варенье и смородиновый джем, вспоминаю, как Дед каждый день заглядывает под клубничные усы в надежде меня порадовать. И решаю порадовать их сама. Точнее, решаюсь – робко и отчаянно. Внутренний голос что-то нашептывает мне, нечто мягко протестующее и тревожное, однако настолько тихо, что, когда я вбегаю в дом, в моем подоле лежит не меньше двадцати больших ароматных ягод.
Но Баба говорит: или ты дурная?
Она не понимает, зачем я взяла эту клубнику у Фурминихи, как я могла ее сорвать, Йезус Мария, для чего это нужно было делать, что тебя надоумило пойти туда и так поступить, или ты голодная, но ведь это чужое, ведь чужое брать нельзя, или ты дурная?
– Сама ты дурная! – кипячусь я, и Баба в сердцах хватает со стула Дедов брючный ремень.
Дед вырастает между нами, как Джомолунгма вдоль и Великая Китайская стена поперек. Пан Бог милосердный. Пан Бог скорый на расправу. В мгновение ока он выхватывает ремень из рук оторопевшей Бабы и, трясясь от негодования, замахивается им на нее. Баба с воплем выбегает из комнаты, будто раненая индюшка, широко расставляя свои толстые больные ноги. Причитает за стенкой, униженная несправедливостью обиды. Она ослушалась Пана Бога. Я – Дедов неприкосновенный, любимый плод. Нельзя покушаться на плоды его.
Теперь мы обе наказаны богами. Обе ревем белугами в разных комнатах.
Обе вкусили от Древа познания добра и зла.
Жила-была на Замковой горе царевна Дрива с родителями, или не царевна, но точно не Премудрая. Не от большого ума она науськала троих братьев из-за нее поубиваться. Правда, один выжил. Но отказался жениться. Зачем, говорит, ты мне теперь, несчастная женщина, если родственников меня лишила?
Махнула тогда Дрива левым рукавом – и стало озеро, махнула правым – поплыли по озеру белые лебеди. Пока все удивлялись, она – тыдыщ! – и бросилась с горы в это озеро. А выживший принц остался Валсарбом править, когда родители Дривы тоже умерли. От горя, наверное.
Мы с Дедом идем на наше озеро, которое все зовут Маленьким, по глинистой, пружинистой тропинке мимо нашего гаража, мимо наших сараев, мимо огорода тети Вали, мимо клубники Фурминихи, мимо грядок Алеськи, мимо картошки Рысика, с которым Дед играет в карты на деньги, когда кончается пост и выдается выходной.
Валсарб – это город-озеро. Иной раз кажется: потеряй вся окружающая вода терпение, она сможет затопить все улицы, по макушку Замковой. К счастью, пренебрежение Валсарб демонстрирует чаще, чем истерики.
Здесь у каждого есть свой персональный кусочек берега на своем персональном озере или хотя бы деревянные мостки. У каждого имеется свой лаз в камышах, тростнике или рогозе, раньше я думала, что это одно и то же, но Дед объяснил мне разницу, еще я знаю, как понять по трепетно склонившим головы тростниковым метелкам, насколько далеко спрятаны сети.
На наших мостках стоит Баба и стирает белье прямо в озере. Солнце светит нещадно, воздух желтый и белый, я ничего не вижу, кроме мокрых разводов на досках. Душно, как в преисподней, влажный горячий ветер обжигает лицо, хочется мокрых разводов на теле, даже несмотря на то, что я не умею плавать. Стрекозы летают синие, вода в озере зеленая, само озеро бездонное, водомерки измеряют расстояния ногами-циркулями. Я сажусь разморенная, как сонная плотва, с той стороны мостков, где Баба не успела напустить мыльной мути, и опускаю ноги в воду. Баба с коротким плеском бросает вниз белый пододеяльник, медленно распускающийся на воде, точно виктория амазонская. На наших озерах есть только желтые глазки кубышек, жеманно покачивающихся и восковых на ощупь, одно время я полагала, что они искусственные, как цветы в маленькой вазочке у Алеськи на подоконнике. Пододеяльник раскрывается, и я знаю, что это тот, с прожженной утюгом шрапнелью дырочек в центре. Целое постельное белье хранится у Бабы в серванте, на средней полке, до каких-то одной ей известных лучших времен, мыло течет по ее широким ладоням, капает на ноги, я щурюсь, и белая пена на моих глазах превращается в радужный спектр. Баба всегда стирает. Это ее призвание. Если она не стирает на озере или дома в огромной бочке с двигателем, называемой стиральной машиной, то стирает на хлебозаводе. Она работает прачкой. Ей приходится полоскать огромные горы материи различного предназначения и происхождения, выжимать их натруженными руками и не роптать на судьбу. Она так невозмутима, будто ей, такой большой и грузной, не трудно раз за разом наклоняться, словно мокрый пододеяльник не весит центнер.
Говорят, раньше, до того как уровень озер в Валсарбе принудительно понизили, люди ловили рыбу прямо с крыш. С одной стороны, это очень удобно, в особенности для больных спин и ног, с другой – я дико боюсь утонуть. Белье, вынимаемое из таза, похоже на гигантские свечи, чьи мыльные слезы стекают на подсвечник, белье, погруженное в воду, пузырится парусом и норовит пуститься в дальнее плаванье. Я завороженно наблюдаю за ним, художественно расположившись на мостках.
Дед выныривает из тростника с засученными рукавами и эффектно подвернутыми до колен штанинами, приближается ко мне, протягивая нечто зеленое и живое. По моей спине пробегает легкий холодок, я боюсь, наверное, абсолютно всех существ божьих, тем паче гадов озерных, но Дед уже бросает рядом со мной небольшой глянцевый панцирь с клешнями и торжественно объявляет, что на обед будут раки.
Меня приняли в школу несмотря на то, что я нарисовала неполноценного человека. Поговаривали, будто кому-то достаточно было изобразить солнышко и дерево, но мне приемная комиссия предложила нарисовать натюрморт или человека какой-нибудь профессии, а у меня, как назло, хорошо получаются только принцессы. Я на днях как раз научилась рисовать им роскошные кружевные платья с воротниками-стойкой, как у Снежной королевы, банты на талии и туфли на каблуках. Натюрморт мне не подходил категорически. Ни одно блюдо, выйди оно из-под моей руки, не уместило бы фруктов, с пропорциями у меня скверно, а мои художества «на глазок» можно смело отправлять в тартарары.
Мне нравится рисовать, и, возможно, в будущем я могла бы стать «неформальным лидером абстрактного экспрессионизма в живописи», как было написано в альбоме по искусству под репродукцией Дж. Поллока. Баба прочитала мне только эту надпись, а про экспрессионизм ничего пояснить не смогла. Но когда я стояла перед приемной комиссией, нечто подсказало мне, что сейчас мои начинания в этом направлении, тем более в этом отдельно взятом здании валсарбской школы, себя не оправдают. Что до профессий, то с ними дела у меня тоже обстоят неважно, и я, должно быть, довольно долго сидела и просто мусолила в руках карандаш, пока наш педиатр, один из членов приемной комиссии, отзывчиво не перечислил, кого, на его взгляд, я могла бы изобразить, к примеру повара, врача или, допустим, моряка, чем здорово мне помог, ведь я уже собиралась нарисовать папину профессию – шофера, но машина у меня точно не получилась бы, в особенности грузовая, вот и поди докажи потом, что это шофер.
Зато моряком был муж моей бабы Геновефы, не в Валсарбе, конечно, в Валсарбе и моря-то нет, да и в форменной одежде я никогда его не видела, но это не помешало мне живописать полосатую тельняшку, брюки с ремнем и шапочку с ленточками. Получился вполне симпатичный матрос, отлично выдержанный в голубой гамме, я даже удивилась. Но школьную приемную комиссию мой рисунок только развеселил. Гогоча от смеха, они передавали его друг другу. Дело в том, что у моего матросика не было рук. То есть – абсолютно. Пока они смеялись, я переживала, что учиться меня не возьмут и придется сидеть дома до семи лет. Но комиссия учла мое рвение и неуемное желание – в школу меня приняли. Отсутствие рук у матроса списали на то, что он держит их за спиной, прогуливаясь по набережной курортного городка в ожидании отплытия.
У меня новые белые манжеты и новый белый воротничок, такие же белые фартук, банты и колготки, гладиолусы для разнообразия красные, а форма коричневая, но все это тоже совершенно новое, как и первый день осени, как здание школы, как дети в классе, как тетя, которая сказала, что ее зовут Ваша Классная.
Я – Ваша Классная руководительница, и сегодня, на этом первом для вас белом уроке в школе, я хочу поговорить с вами о Милосердии.
Она так и произнесла это с большой буквы: о Милосердии.
Вот это совпадение, во время воскресной мессы ксендз как раз пояснял Пятую Заповедь Блаженства на примере притчи о милосердном самарянине и тоже растягивал и смаковал это слово: ми-ло-серд-ный, которое у него звучало немного мягче, потому что в польском «сердце» нет буквы «д».
Она стоит возле двери, а не у своего рабочего стола, словно в любую минуту может распахнуть ее настежь и упорхнуть, загадочная птица Ваша Классная. Говорит нараспев о том, что исключительно благодаря правде и справедливости скоро воцарится мир не только на земле, но и в каждом отдельно взятом коллективе. Что время, в котором мы живем, положит начало Эре Милосердия, где счастливо заживут наши трудолюбивые люди, подавая пример другим народам.
В костеле говорили иначе. Пан Бог щедр, долготерпелив и милостив. Правда бывает болезненной, а справедливость – жестокой. Я-то знаю это теперь, после того как нам с Алеськой велели пойти к соседке и сознаться про клубнику. Фурминиха только посмеялась и с миром нас отпустила, а ведь могла бы и отчитать. Или потребовать какую-нибудь плату. Взять хоть злосчастный цветочек аленький. Ничего особенного, но из-за него можно и в лапы к чудищу угодить. Это называется: плата по справедливости. Но как хотите, чтобы с вами поступали, сказал ксендз, так поступайте и вы с ними. Милосердие не оправдывает зла и жестокости, но помогает страждущим и заблудшим душам. То есть всегда помогало, и раньше, в незапамятные времена, тоже. Ни о какой наступающей новой эре он не упоминал.
Я знаю, что до нашей эры были динозавры, Всемирный потоп, придумали календарь и жили все мои любимые герои из греческих мифов, которых я видела в мультфильмах. Потом наступила наша эра, и родился Сын Божий. Про новую эру я ничего не поняла, потому что во время оставшейся речи учительницы думала о Геракле и его милосердии к Прометею и очнулась, только когда увидела, что все вдруг дружно поднялись из-за парт и бегут вручать Классной свои скукоженные хризантемы и потрепанные гладиолусы.
– Пан Бог все знает наперед? – спрашиваю я у Бабы, когда мы заезжаем на Великую похвастаться моей школьной формой.
– Все, детка.
– Прямо как Зевс… Значит, он знает, кто будет милосерден, а кто нет? Зачем же тогда он убеждает, что все можно исправить?
– Он предлагает человеку выбор. Быть хорошим или быть скверным. Или согрешить, покаяться и все исправить. Этому помогают иногда другие люди, иногда ксендз…
– Ну точно как Зевс! – воодушевляюсь я. – Он тоже обо всем наперед знал, но, если кто-то вмешивался, иногда позволял улучшать события!
Это началось с Каби, мальчика, который прятался в консультации.
Поначалу это была просто игра, а потом я начала в ней жить.
Очереди в консультации огромные, а передняя маленькая, вся затоптанная, в грязных потеках талой воды на полу. На своих ботинках люди приносят в консультацию снег, похожий на халву, в своих объятьях – закутанных в ватные одеяльца малышей, приносят болезни непоседливых дошколят и умничающих школьников, свое скверное настроение и чудовищный кашель. Люди жмутся в шеренге «кто следующий?», тянутся поближе к кафельной печи, потому что мест на лавочке вдоль стенки никогда не хватает, отрешенными взглядами одаряют очередную входящую шубу побольше и шубку поменьше и вздрагивают от приветствий колокольчика на двери.
Зима длится очень долго, и очень холодно. Болезни настигают меня исподтишка, и в консультации я бываю чаще, чем в своем первом классе. Если бы не кровь из пальца, я предпочла бы ходить сюда каждый день вместо школы. Во-первых, у входа здесь есть шкаф со стеклянными дверцами, немного похожий на буфет, только очень старый и красивый, как в кино про прежние времена. В нем полно баночек, скляночек и мензурочек, которые интересно разглядывать, они позвякивают не переставая от малейшего сотрясения половиц, а в передней вечное столпотворение, оттого стоит несмолкаемая, завораживающая хрустальная музыка. Во-вторых, печь, такая красивая печь, каких уже и не сыщешь. Я украдкой исследую ее всякий раз на предмет сверчка, но летом в консультации не бывает меня, а зимой здесь все-таки, кажется, не бывает сверчков, зато бывает морозная, темная ночка звездная, и я еще ни разу не смогла удержаться от того, чтобы не спеть присутствующим: за печкою поет сверчок, угомонись, не плачь, сынок, – тем самым приходя на помощь несчастным матерям рыдающих младенцев – что ж, коли нету хлебушка, глянь-ка на чисто небушко, – бабушкам, рассеянно гладящим капризных внуков по курчавым головам, старшим сестрам, нервно пытающимся не допустить уползаний младших чад по снежно-гречневой каше пола, взгляните, как ярко светят звездочки, послушайте, послушайте, как шкаф чудесно вторит шагам моим и словам.
В-третьих, это Каби. Он здорово играет в прятки. А возможно, как и сверчок, зимой недосягаем. Как бы то ни было, пока я так его и не нашла.
Точнее, его никогда нет. На дверях так и написано: Каби нет. Наш педиатр – серьезный задумчивый дядя с усами, похожими на папины, всегда долго и внимательно слушает мои сердце и бронхи, потом долго и обстоятельно рассказывает маме, когда лучше горчичник, а когда банки, потом перечисляет медсестре, что записать в рецепт, и я не успеваю опомниться, как уже стою в шапке, мама говорит: «Cкажи доктору "До свидания!"», я говорю доктору: «До свидания» – и забываю выяснить судьбу Каби и когда он бывает. Недавно я узнала, что педиатр живет в нашем доме, в соседнем подъезде. И почему мы никогда не ходим к нему домой, когда у меня начинается ангина, если это намного ближе, чем консультация? Еще я узнала, что у него есть сын, но не Каби, а Леша.
И вдруг однажды, когда мы снова пришли узнать результаты анализов, когда все невольные слушатели моей колыбельной расселись на лавочке или прислонились к печи, к стене, к шкафчику, кто одобрительно, кто укоризненно внимая словам моей песни, я в очередной раз взглянула на дверь и поняла, что не все так просто. Я ведь только-только научилась складывать русские буквы, а это не то же, что польские. Совершенно неожиданно обнаружилось, что на дверях, возможно, написано еще и ТЕНИ БАК. Все зависит от того, в какую сторону читать.
Теней в комнате у педиатра полно, по крайней мере зимой, когда здесь светит тусклая лампочка. Никакого бака я до сих пор не замечала, надо бы приглядеться получше. Хотя вполне возможно, что бак – это сокращение от слова «бактериальный». В прошлый раз доктор так и сказал: вирус исключен, это бактериальное. Няня Маша всегда говорила, что я очень смышленая. Теперь нужно как-то узнать, бывают ли бактериальные тени.
Меня пригласили как будто от лица Люськи в чужую квартиру на чужой день рождения.
Потому что: Люська – где? – неизвестно, никого нет дома.
А Люба с пятого этажа именинница, но почему-то не позвала гостей заранее.
День серый, как Любина куртка, я сижу на лавочке, дышу свежим воздухом. Разглядываю заурядный мартовский пейзаж: хлипкие, ноздревато-дырявые сугробы и рыжую кашу на асфальте, которую скорбно притащу домой на новых ботинках. Мальчишки скачут по турникам и горкам, как умалишенные: куртки нараспашку, шапки торчат из карманов. Они вырвались из цивилизованного мира школы в дикие джунгли каникулярной жизни.
А девочки не выходят. Только вот Люба, которая обычно со мной даже не здоровается: Люська – где? Неизвестно. Никого нет дома.
Она мнется, открывает и закрывает рот, будто что-то хочет сказать, но замечает идущую ей навстречу Аленку, девочку из большой семьи, заливается румянцем радости до корней своих конопляных волос и быстро направляется ей навстречу. Вместе они бегут к турникам, их слова заглушает восторженный рев мальчишек, они покидают свои лестницы и ледяные железные поручни и вереницей следуют за Любой, гусята за мамой-гусыней: пять мальчишек и Аленка.
– Ты тоже, если хочешь… Раз уж Люси нет. Все равно. У меня день рождения. Если хочешь, идем ко мне, – говорит Люба, глядя куда-то в сторону и немилосердно краснея.
Я думаю о том, что у меня нет подарка, но быстро ориентируюсь, что у других тоже нет, я и смущена, и польщена, чувствую себя еще одним питомцем гусиной фермы, но присоединяюсь к группе.
Подъем на пятый этаж – сердце частит, а обувь не чистит. Мы вносим в дом всю слякоть двора. Люба живет в квартире с такой же планировкой, что и у меня, только дверной проем в зал зияет отсутствием двери, с порога сразу оказываешься в комнате. А там стоит большой деревянный стол и стулья со спинками. И все. Больше ничего нет. Совсем. Абсолютно. Даже гардин на окнах, даже ковра на полу. Я узнаю кофейные обои с золотыми загогулинами, которыми была оклеена и наша квартира тоже. Но не успели мы вселиться, как мама их поменяла.
Какое-то время гости испытывают неловкость и топчутся на одном месте в этом Любином зале, который без мебели кажется мне огромным, только Валик, недолго думая, по-хозяйски усаживается на стул, устраиваясь на нем, как на лошади, и любовно обнимая спинку. Между тем я размышляю, что во второй комнате, должно быть, как и у нас, находится спальня. Но что, если там тоже нет мебели? Где же они спят все это время? Хочется убедиться воочию, что так бывает, что ничего не бывает. Но робость не позволяет мне самовольно расхаживать по чужой квартире.
Люба приносит тарелку и ставит ее на стол. На тарелке возвышается гора тонких мучных блинчиков, похожих на миниатюрные шкурки пятнистых коров. Я заинтригованно смотрю на тарелку: что-то должно произойти, чтобы она размножилась, стала частью праздничной сервировки и хлебосольного застолья. Может, это какой-то фокус? Может, Люба скажет сейчас: столик, накройся?!. Я не отвожу глаз от стола, но на нем так и не появляются ни скатерть, ни приборы. И прежде чем я успеваю опомниться, дворовые мальчишки окружают его, тянут жадные руки к тарелке, Валик хохочет, прыгает на стуле, засовывает в рот непомерно много пятнистого теста, а Аленка подходит к столу с другой стороны, молча и доверчиво заглядывая Любе в лицо. Во время всех этих манипуляций Люба застывает оторопевшей безмолвной колонной. Только ее лицо меняет цвет: то краснеет, то бледнеет, как светофор, который я видела в большом городе.
В ней пробуждается жизнь, когда уже почти поздно. Ошеломленная и пунцовая, словно июльский закат, она хватает тарелку со стола и с неподдельным ужасом смотрит на два последних оставшихся блина.
– Что я скажу маме? Что я скажу маме? – вопрошает Люба. – Это же не для вас было… Это было для настоящих гостей!
– Тебе нравилось ходить в школу?
– Нравилось. Один год.
– А потом перестало нравиться?
– А потом я перестал ходить.
– Вот здорово, просто взял и перестал?
– Нужно было пасти скот. Потому что нужны были деньги. Я выучился писать и читать и перестал ходить.
– Что же ты, только и делал, что все детство пас скот? – Я ерзаю на табуретке, не умею удобно располагаться на мебели без спинки.
Острый запах серы приятно щекочет нос, это мой самый любимый запах. Дед бросает спичку в печь, у его губ зажигается рубиновый огонек, гаснет, и сизый дым медленно тянется вверх, к глянцевому кухонному потолку.
– Мы думали, я успею. Моя семья. Я был самый старший. Но потом началась война.
– Здесь были немцы?
– Были. И здесь, и в нашей деревне. Мы жили тогда в деревне.
О немцах однажды рассказывали в школе, во время классного часа, и немного в одной передаче по радио, все это очень интересует меня, но сведений недостаточно, даже Девятого мая с трибуны на площади зачитывают один и тот же текст о Победе и не вдаются в подробности о войне. Когда мы возлагаем цветы к мемориалу братской могилы, я стараюсь поскорее отбежать в сторонку, подальше, военные там зачем-то палят, как оглашенные, по три залпа подряд, а я не то чтобы боюсь этих выстрелов, просто совсем не могу выносить звуков стрельбы.
– Как же ты стал механиком, если почти не учился в школе?
– Не знаю. Попробовал, и у меня получилось.
Я оставляю свою табуретку и пересаживаюсь к нему на колени. Глаза у него желудевого цвета, я долго мысленно подбирала оттенок в природе, пока нам не велели сделать гербарий. Дубов в Валсарбе почти нет, все больше ивы и тополя, желуди на природоведение принесла Улька с последней парты. Их не вклеишь в гербарий, но они годятся для поделок на уроках изо.
Дед умеет улыбаться этими своими желудевыми глазами, только одними глазами и только мне.
– Получается, это твой талант?
– Получается, да.
– Если ты разбираешься во внутренностях автобуса, ты, должно быть, ужасно умный! А я нет. У меня нет таланта. И в школу мне ходить не нравится.
– Тебе не нравится заниматься?
Какая-то доля правды в этом есть, не нравится. Оказалось, что в школе масса мучительно скучных предметов. И у меня недостаточно пытливый ум, интересует только то, что связано с буквами. Хоть я и не без труда научилась читать по-русски. Очень долго не удавалось перенастроить мозг после краткого, но весьма плодотворного Бабиного курса обучения меня польским молитвам. Поэтому по-русски я читала бегло, но неправильно.
Дыкси «Кпацхая Моцкба» – почти весь первый класс было написано на красной коробке с Бабиными духами, ведь многие латинские буквы удивительно похожи по написанию, но непостижимым образом не совпадают по звучанию с русскими. Заслышав исковерканную кириллицу, мама бежала из кухни, размахивая издали мокрым полотенцем и негодуя по поводу моей бестолковости.
Когда буквы упорядочились, в школе у меня появился любимый предмет: чтение. И все на этом. Думаю, все.
– Тебе не нравятся ребята в классе?
Я задумываюсь, потому что на самом деле не знаю, нравятся они мне или нет. До сих пор я так и не успела ни к кому приглядеться: поначалу много болела, а потом оказалось, что тех девочек, с которыми я успела подружиться, перевели в другой класс. К тому же перемены такие короткие, а математика такая сложная, уже сейчас я просиживаю за ней каждую свободную минуту вместе с учительницей, и она уже дважды сказала: не может быть, чтобы ты была настолько глупая.
– Тебе не нравится твоя учительница?
Пожалуй, мы не нравимся друг другу взаимно. И еще, кажется, я ее боюсь. Глядя на меня, она улыбается не глазами, а уголками губ, будто я чем-то ее забавляю, это не добрая улыбка, а в ее глазах нет ни тепла, ни покоя, как у андерсеновской Снежной королевы. Она говорит, что я скверно рисую, скверно считаю и скверно пою. Это неправда, у всех в нашей семье отличный музыкальный слух, и у мамы, и у обеих бабушек, насчет Деда неизвестно, но у папы точно есть. Я заплакала, когда она сказала, что мое пение никуда не годится. Ведь я просто стесняюсь петь громко и красиво и стесняюсь сказать, что стесняюсь петь громко и красиво, поэтому и заплакала. Весь класс засмеялся. Тогда-то она и сказала во второй раз: не может быть, чтобы ты была настолько глупая.
Да, это верно. Она мне не нравится, я не нравлюсь ей, поэтому у меня ничего не получается. Всего этого Деду не объяснишь. И я снова спрашиваю о немцах.
Дед тяжело поднимается, проходит в зал – высокий порожек при входе, бережно достает из серванта огромный конверт, а из огромного конверта рисунок с изображением мужчины в меховой шапке со звездой. У мужчины с Дедом одинаковые глаза.
– Это ты?
– Это мой отец.
– Он погиб?
– Нет, он вернулся. Но прожил всего два года.
– А я погибла на войне. И тоже была мужчиной. Только молодым.
Дед странно смотрит на меня, но ничего не говорит. Судя по всему, его смутил собственный порыв, и он жалеет, что показал мне рисунок. Возможно, он считает, что я еще неразумная пигалица. Не могу же я всерьез болтать такие глупости.
На третий день после ночи святого Яна в Валсарбе появились новые люди. Стояла немилосердная жара, воздух дрожал от зноя, а они проникали в залитую солнцем тарелку города, будто горошины черного перца в заливное. Этой приправы становилось решительно слишком много, они сыпались и сыпались со всех сторон, одна горошина пешком, две на мотоцикле, четыре в армейском грузовике. При ближайшем рассмотрении оказалось, что люди-горошины различимы в пространстве только благодаря одежде. Их глаза не имели цвета, а тела были прозрачны и пусты. Самые незаметные носили красные повязки на рукавах. Все они были светлоголовы, а их язык походил на ворчливое рычание собак, опасающихся, что у них отберут пищу.
В последующие дни новые люди прибывали, точно полчища тараканов, безостановочно. Они лезли из всех щелей, наводняя извилистые улочки города, проникали в дома, разоряли хозяйства, забирали первый, скудный урожай и несли с собой смерть.
Бесцветные люди украшали себя цепями на шее и серебряными нашивками на предплечье, оранжевыми шевронами и эмблемами орла, но все были на одно лицо, так что даже те местные, у кого они остановились на постой, те, кто решил, что лучше жить с тараканами, чем не жить вовсе, не распознавали их и не пытались различать. Достаточно того, что они всюду оставляли свои следы, что лающие голоса, доносящиеся из их нутра, иногда, будто сквозь вату, а иной раз, словно рокот колокольного набата, заставляли тела вздрагивать, а ладони потеть.
Яркие, темноволосые коренные жители вызывали у пришлых приступы непостижимой агрессии и ненависти. Когда на улицах Валсарба появились первые трупы, с трудом верилось, что все это происходит на самом деле. Веселые темноволосые быстро научились загонять страдание внутрь, сметливо сообразив, что анализировать происходящее бесполезно, а думать о нем – бессмысленно, поскольку всякая мысль разбивалась при попытке к ней приблизиться. Люди с зимними волосами забирали еду и одежду, кров и жизни их близких. От многообразия прошлой жизни у темноволосых остались только желтые лилии. Им было велено цвести, и они цвели на рукавах, на спинах или груди и на фасадах их временных жилищ.
Еще у темноволосых оставалась надежда. Сухая, как печная зола, бесплодная, как придорожная колея. Вот ее-то у них отнять никто не мог, даже при всем желании.
Когда я впервые увидела Тебя, то поначалу испугалась, а потом обрадовалась.
В воскресной школе нам рассказывали о девочке Бернадетте, которой явилась Дева Мария, и я подумала было, что, возможно, Ты – Сын Божий, но у Тебя нет ни усов, ни бороды и волосы короткие. Ты ничем не напоминаешь Иисуса, одно определенно – вы оба мужчины. А эта девочка, Бернадетта, регулярно видела Деву Марию и стала святой. Я очень вдохновилась этой историей и решила отныне глядеть в оба, то есть получше, чтобы понять: нет ли у нас здесь где-нибудь женщины в прекрасном белом одеянии, но трудность в том, что я никогда не бываю на улице одна, а для таких богоугодных дел, как явление божьих ликов, думаю, нужно все-таки ходить одной, а не тащиться за руку со взрослыми. Поэтому я немножко поиграла и повоображала себя Бернадеттой, но потом мне это быстро надоело, ведь я не знаю, как у нее обстояли дела в оставшееся свободное время, когда Мария ей не являлась, нам не рассказывали.
Ты не кажешься потусторонним, но что, если Ты все-таки святой, просто я не могу тебя идентифицировать? Идентифицировать – значит распознать из многих других, но я плохо представляю, как выглядят святые, и не знаю, где посмотреть их фотографии. Судя по тем ликам и статуям, что есть в костеле, Ты совсем на них не похож. И одежда у Тебя другая, обыкновенная: рубашка, брюки, сапоги и сумочка на боку.
Я спросила у Бабы, как выглядят святые и часто ли они являются простым людям, она тоже не знает точно, как они выглядят, но, по ее словам, являться могут, скорее, демоны, посланники дьявола. Чтобы искушать людей и вводить их в грех. Я спросила, что значит – вводить в грех, и она ответила: вынуждать совершать поступки, которые заставляют Бога плакать. Я и допустить не могла, что Бог, оказывается, способен плакать. Думаю, пусть и не умышленно, но Баба ввела меня в заблуждение. Поэтому спросила: разве Бог сам не заставляет людей плакать и такой ли уж он безупречный?
Баба почему-то жутко рассердилась, сказала, что своими словами я только что согрешила, и, когда наконец – наконец-то! – состоится мое первое причастие, этот грех обязательно нужно будет упомянуть во время исповеди в числе прочих. А в конце добавить: больше грехов не помню, искренне о них сожалею, обещаю исправиться. «В числе каких прочих?» – поинтересовалась я. Баба спросила, не считаю ли я себя случайно безгрешной и для чего хожу в воскресную школу, если до сих пор не выучила Божьи заповеди. Но я выучила. И, честное слово, стараюсь никогда не обманывать, а если что-то недоговариваю, то не со зла, и пока никого не убила, даже мухи, потому что мух я и мертвых боюсь, правда, украла немного соседской клубники, но это было сто лет назад, я еще даже в школу не ходила. Возможно, когда-то прелюбодействовала, вот только не думаю, что правильно понимаю смысл этого слова.
Баба нервничала и шикала на меня, чтобы я не говорила такого вслух: если уж грешишь, то хотя бы наедине с собой, пожалуйста.
Тогда я решила узнать, как она исповедуется ксендзу-пробощу. Какие грехи перечисляет, как о них помнит, может, ведет записи в специальной тетрадке, чтобы не забыть и случайно не сделать себе поблажку? И как часто, к примеру, упоминает тесто, которое выносит потихоньку с хлебозавода – всякий раз или, скажем, раз в месяц, оптом?
Баба заплакала и сказала, что я недобрый ребенок, а тесто ей разрешает брать заведующий производством. И уж кому-кому, утверждает Баба, а мне с моим легкомыслием в самом деле пора заводить тетрадку, пока моя нечистая совесть еще в состоянии оценивать проступки.
Как бы то ни было, я очень сомневаюсь, что Ты – демон, этого не может быть, у Тебя печальные, не злые глаза. Думаю, здесь нет никакого таинственного смысла, и Ты послан мне для того, чтобы я не чувствовала себя такой одинокой, хотя иной раз мне кажется, что Ты хочешь, чтобы я о Тебе рассказала. Я не знаю, как рассказать о Тебе, а главное – кому. И уже сомневаюсь, что не нарушаю вторую заповедь, потому что разговариваю с Тобой и советуюсь, даже когда не вижу, не говоря о том, что считаю Тебя своим лучшим другом. Больше грехов не помню, искренне о них сожалею, обещаю исправиться.
В следующий раз, если надумаешь присниться, скажи хотя бы, как Тебя зовут.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































