Текст книги "Перемена климата"
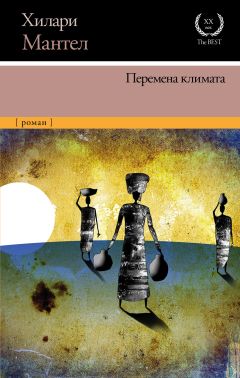
Автор книги: Хилари Мантел
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Анна разлила чай. Архиепископ поднес чашку к губам.
– Очень вкусно, дорогая, – похвалил он. – Чай – такое удовольствие, верно?
Анне подумалось, что избытком удовольствий этот мужчина, похоже, обделен. Она скользнула обратно, уселась на обтянутый материей стул.
– Публично объявили, что цель закона – внедрение новой системы образования. – Архиепископ упорно смотрел в чашку. – Эта система должна готовить грузчиков, прислугу и шахтеров. Два с половиной часа в день, а преподавательницы – молоденькие девчушки, едва закончившие шестой класс. Причем новые правила затронули не только детей неграмотных родителей. Нет, они для всех. Для детей самых умных наших мужчин и женщин, живущих при миссиях, и для детей выпускников Форт-Хейра[16]16
Университетский колледж (основан в 1916 г.), первое высшее учебное заведение для чернокожих.
[Закрыть]. Родителям пришлось смириться с тем, что их детей сознательно оглупляют.
– Но это же лишает всяких надежд на лучшее будущее! – удивился Ральф. – Другие законы можно отменить, но как справиться с последствиями такого вот оглупления?
– О том и речь. – Архиепископ вздохнул. – Через двадцать лет или через сорок, словом, когда об этой глупости позабудут, как прикажете вкладывать мудрость в головы, отвыкшие ее усваивать?
Рука архиепископа мелко дрожала. Чашка в его пальцах казалась совсем крохотной, словно этот изящный фарфоровый сосуд вдруг очутился в медвежьей лапе. Анна подалась вперед, быстрым движением взяла чашку и поставила ту на поднос. Старик-церковник будто не заметил.
– Спросите, а что же церковь? – Архиепископ вновь повернулся к Ральфу. – Мы глядим на правительство, как кролик на кобру, если вспомнить меткое выражение отца Хаддлстоуна. – Он криво усмехнулся. – Отец Хаддлстоун умел обращаться со словами, не находите? Кое-кто утверждает, что мы должны позакрывать все наши школы и наотрез отказаться от участия в этой постыдной затее. Другие считают, что лучше уж начатки образования, чем полное невежество. Отец Хаддлстоун, прошу прощения, что опять его вспоминаю, называл подобные взгляды «голосом Виши». Миссис Элдред, – старик с усилием повернул голову, и на мгновение его лицо исказила гримаса боли. – Вы дипломированный учитель, но вам придется развлекать детишек, а не учить их. Нужно увести их с улиц, где иначе они неминуемо попадут в неприятности. Это местечко, куда вы направляетесь, Элим… Оно не в моем приходе, но я кое-что знаю и хочу вас предупредить. Элим – как у нас говорят, свободный тауншип. Африканцы селились в нем с начала столетия. Они строили дома и владеют этими домами уже несколько поколений. Сдается мне, в Элиме сейчас живет где-то тысяч пятьдесят.
– Нам так и рассказывали, – вставил Ральф.
– Но теперь нет никакой безопасности, никакой уверенности в будущем. Софиятаун[17]17
Пригород Йоханнесбурга, населенный чернокожими; расселен и снесен в 1956 г.
[Закрыть] уже снесли, Элим вполне может оказаться следующим.
– А людей куда переселяют? – спросила Анна.
– Вот тут, дорогая, во всей красе проявляется сущность апартеида. Правительство желает вернуть чернокожих в места их исконного обитания. – Снова с трудом повернув голову, старик заговорил сурово и торжественно, будто обращался лично к президенту, которого нашел в себе смелость обвинить во всех этих глупостях. – Вы лучше разберетесь в происходящем, когда поселитесь и освоитесь. Но вам следует помнить, что ваше местожительство – временное, опасное и готовое исчезнуть в любой момент. Эти люди в правительстве каждое утро считают потраченным зря, если не придумали очередной гнусный закон. А африканцы уверены, что у них украли будущее.
– Признаться, я не готов к такому, – сказал Ральф. – Не думал, что все настолько печально.
– Тогда зачем приехали?
Ральф замялся, подыскивая ответ. Он же не мог сказать, что попросту сбежал от своей семьи.
– Я считал своим долгом… ну… внести лепту. Мы оба так считали. Но мы и знать не знали…
– Вы молоды, – произнес архиепископ, – и как-нибудь да свыкнетесь. И потом, всегда есть вера и надежда. Если позволите, дам вам один совет. Что бы вы ни делали, опирайтесь на Господа. Меряйте свои поступки на весах вечности. Понимаете, о чем я? Иначе вас поглотят сиюминутные хлопоты, а повседневные мелочи искалечат ваши души.
– Отличный совет. Спасибо, – поблагодарил Ральф. – Годится в любых обстоятельствах, если ему, конечно, следовать.
– Будь я чернокожей, – подала голос Анна, – и живи я в этой стране, не знаю, верила бы я в Бога или нет. С такими-то законами.
Архиепископ нахмурился.
Ральф поспешил вмешаться:
– Люди могут решить, что раз их так угнетают, раз твердят, что они существа низшего сорта, раз на их долю выпадает столько испытаний, то Господь от них отвернулся. По-моему, вполне естественная мысль.
На это архиепископ разразился целой речью, позволил прорваться наружу чувствам, заговорил резко и отрывисто, будто перейдя с человеческой речи на лай. Он упомянул о «жалком светском гуманизме» (соблазн поддаться которому, судя по всему, приписал Ральфу), а христианскую веру поименовал «оплотом величия рода людского». Было очевидно, что эти выражения он заимствует из проповеди – то ли из той, которую сочиняет, то ли из той, которую недавно произносил. Анна прищурилась, искоса поглядела на Ральфа. И как только они оба посмели высказать в лицо церковнику все то, что оба наговорили? Впрочем, в этакой дали от дома, подумала она, можно творить едва ли не что угодно.
Когда епископ отлаялся, Анна отважилась на слабую попытку оправдаться. Причина в том, сказала она, что они с мужем не имеют необходимого опыта. Поэтому их обуревают дурные предчувствия – по поводу новой страны и по поводу первой самостоятельной работы.
– Вы тоже считаете, что можете не справиться? – воинственно осведомился архиепископ.
– Думаю, любой на моем месте засомневался бы.
Это оказался правильный ответ.
– Лично я знаю, что не справляюсь, – сказал архиепископ. – Хочу попросить вас о двух вещах. Нет, даже о трех. Постарайтесь не презирать своих противников и постарайтесь их не возненавидеть. Для вас, новичков, это может быть довольно сложно, однако, будучи добрыми христианами, вы должны попытаться. Также постарайтесь не нарушать законы. Вас направили сюда не для того, чтобы вы попали на страницы газет или очутились под судом. Надеюсь, вы будете помнить об этом.
– А что третье? – уточнил Ральф.
– Ах да! Когда станете писать домой, в Англию, попросите своих родных и знакомых не судить сгоряча. Мы живем в непростой стране, если можно так сказать. Я утешаю себя тем, что в здешних людях мало истинного злодейства. Зато много страха, причем со всех сторон. Страх мешает сострадать и лишает людей рассудка. И потому в итоге превращается в злодейство в какой-то степени.
Старик выпрямился и кивнул. Встреча подошла к концу. Элдреды встали. А старик вдруг улыбнулся и похлопал себя по искалеченной ноге, возлежавшей на подушках.
– Знаете, что я сделал в прошлом году? Отправился на острова Тристан-да-Кунья. Думаю, вы и не подозревали, что моя епархия простирается настолько далеко. Пришлось позволить, чтобы меня привязали к стулу и спустили на веревках с борта корабля. Потом уложили на дно парусиновой лодки и на веслах доставили на берег. Ваш дядя Джеймс не поверил бы своим глазам, честное слово! Разумеется, я вряд ли рискну повторить такую поездку. Все-таки пора остепениться, верно?
Не дожидаясь ответа посетителей, секретарь выпроводил их из кабинета. А старик-архиепископ сразу взялся за бумаги.
Снаружи Анна сказала:
– Строит из себя Уинстона Черчилля? Как думаешь, нарочно? Учился по радиотрансляциям?
– Уверен, что да.
– Он фактически обвинил нас в том, что мы – не христиане.
– Мы же знаем, что это не так, – возразил Ральф. – А он нас провоцировал.
– Зато сердце у него доброе. Правильное.
– Боюсь, какое у него сердце, не имеет ни малейшего значения.
На кейптаунском вокзале вывеска гласила: «Slegs vir Blankes»[18]18
«Только для белых» (афр.).
[Закрыть]. Вагоны для чернокожих, словно кому-то в голову пришла запоздалая мысль, были прицеплены в хвосте поезда.
На станциях по дороге у вагонов белых собирались чернокожие ребятишки, подставлявшие сложенные лодочкой ладони, выпрашивая мелкие монетки.
Вокзал в Йоханнесбурге кишел чернокожими мужчинами в роскошных деловых костюмах и с портфелями в руках, а также румяными белыми фермерами, приехавшими в город по делам. Казалось, у них мало волос для таких крупных голов, а животы отвисали настолько, что грозили порвать рубашки. Красновато-коричневые колени, торчавшие из-под шортов цвета хаки, как бы предвещали будущее страны. По словам Ральфа, прямо под ногами, под мостовой, лежали в земле алмазы и золото.
Было прохладнее, чем ожидала Анна, и воздух чудился слегка разреженным. Она шарахалась в сторону от громких криков, от клаксонов и рокота моторов, от мозаики лиц на улицах. В полночь шум за окном заставил ее подойти к окну скромного гостиничного номера. По стеклу барабанили градины – мелкие льдинки, размером дюйма полтора в поперечнике. Бомбардировка с небес длилась приблизительно пять минут. Прекратилась столь же внезапно, как и началась. И добрый час после этого город, окутанный ночной тьмой, был тих и недвижен, словно затаил дыхание.
Здание миссии располагалось на Флауэр-стрит, поодаль от проезжей части, окруженное огородом, на котором росли картофель и маис, капуста, тыквы и морковь. Три ступеньки от земли вели на веранду, дверь которой была затянута сеткой от насекомых. Когда-то двор миссии давал тень, но большие старые деревья вырубили. Комнаты внутри были маленькими и душными.
Люси Мойо сообщила, что все отремонтировали и подновили, готовясь к прибытию новых миссионеров. Линолеум на полу, натертый до ослепительного блеска, мгновенно цеплял глаз своим затейливым, почти джазовым, что ли, узором, от которого начинала кружиться голова. С расходами не считались, как уверяла Люси; в гостиной положили подушки с искусственным мехом и большой пуговицей посередине и поставили кофейный столик, ножки которого словно норовили разъехаться, как лапы у собаки на льду. С законной гордостью уверенной в себе и своих достоинствах экономки Люси показала подставку для журналов – из золотой проволоки – и постучала кончиком пальца по резиновым ножкам. На кухне обнаружился ядовито-желтый стол с хромированной полосой по периметру столешницы и белыми трубкообразными ножками. Стулья были под стать столу.
Город располагался на возвышенности, поэтому каждый день налетал свежий ветерок. В ясные дни можно было разглядеть зажиточные пригороды Претории: дома расползались по зеленым лужайкам, вдоль улиц тянулись стройные ряды палисандровых деревьев. Внизу, под деревьями, виднелись монументы, памятники бурской славе; здесь, наверху, царила swart gevaar, черная угроза. Впрочем, в центре Элима взгляду представала картина достатка, ухоженности и благополучия: широкие улицы, пересекающиеся под прямым углом, обнесенные надежными заборами игровые площадки, аккуратные кирпичные дома. Надо признать, эти дома отличались друг от друга степенью ветхости и потребности в ремонте. Лучшие из них щеголяли свежей краской, а перед их фасадами ровными рядами росли цветы и другие растения в старых оловянных бочках. При всем желании эти растения никак нельзя было принять за комнатные: даже беглого взгляда хватало, чтобы понять, что куда охотнее они росли бы в приволье, на природе. Однако растения в бочках служили совершенно определенной цели. Они говорили о праве собственности. Подчеркивали господство над природой. Демонстрировали гордость владельцев домов. Вообще, в Элиме, как выяснилось, гордились всем подряд.
– Мы живем как добрые соседи, – объясняла Люси. – Не как племя, совсем нет. И во всем друг с другом соглашаемся.
Разумеется, она преувеличивала. Но идея выглядела привлекательной, и этой мыслью можно было наслаждаться – какое-то время.
В первые несколько дней после приезда Элдредам пришлось посетить все соседские дома, где обитали люди, исправно посещающие церковь, и работники прихода. Их поили чаем, усаживали на стулья с тонкими ножками, показывали им вставленные в рамки фотографии и кружевные занавески. Во всех домах не нашлось ни единого сувенира или памятного предмета, который не удостоился бы чести иметь собственную вязаную подстилку.
Цена этого уюта и благополучия тоже сразу бросалась в глаза. Воду носили ведрами, каменные полы скребли и мыли каждый день на четвереньках. Трудились слуги, ибо даже обездоленные белые, судя по всему, могли себе позволить нанять прислугу. Каждое утро на задних дворах гремели тазы, в которых стирали и полоскали белье.
Зато на окраинах Элима дома и постройки буквально налезали друг на дружку. Некоторые семьи проживали в сараях, где места было меньше, чем иной фермер отводит домашней скотине. Люси все растолковала: в ближайших окрестностях цены достаточно высоки, если семья не в состоянии платить и ее выселяют, люди перебираются в Элим. А потом к ним начинают сбредаться родственники, ближние и дальние, которых не прогонишь, потому что им надо где-то жить; к домам пристраивают временные хибары, из чего попало, и надеются, что эти сооружения устоят под дождем и ветром. Если надежды не оправдываются, строят заново. Она показала Элдредам несколько времянок из железных листов, ютившихся у задних стен. Голые детишки – совсем голые, если не считать нитки бус на шее, – играли в пыли. Люси остановилась, заговорила с детворой, дождалась, пока ей ответят. Сумочка у нее была в тон туфлям, воскресная шляпка плотно прилегала к черным кудряшкам волос. Почему она стрижется так коротко? Гигиена? Лучше не думать об этом. Даже в здании миссии пользовались ведрами, которые ежедневно выливал Джейкоб Малаяне, также подвизавшийся садовником.
Индийские и китайские лавки по соседству, добавила Люси, обильны и с хорошим выбором. Кое-кого из владельцев она знала лично, нормальные люди, в целом; порой соглашаются припрятать вещицу под прилавок, пока не наберешь денег заплатить. Правда, время от времени набегают парни с ножами и дубинками, владелец остается лежать на полу, весь в крови, а они забирают, что им приглянулось. «Среди бандитов не только мальчишки, на которых можно прикрикнуть, чтобы они утихомирились. Попадаются и взрослые». Люси пожала плечами – мол, ее дело предупредить Элдредов, которые виделись ей неразумными детьми, а уж дальше пусть сами решают, как им быть с этой темной стороной жизни. О борделях и подпольных питейных заведениях она не обмолвилась ни словом: предыдущая пара, мистер и миссис Стэндиш, без всего этого преспокойно обходились.
Дальше она повела новоприбывших знакомиться с контральто из церковного хора, с саксофонистом из элимского джаз-банда и с руководительницей местного отряда герлскаутов, смуглой женщиной с осиной талией; все это хорошие, добрые, семейные люди, сказала Люси. По дороге им навстречу степенно шагал иссиня-черный мужчина с епископским посохом в одной руке. Под другую его держала шествовавшая рядом супруга, подол лилового платья которой подметал пыль, а шею ее облегало костяное ожерелье.
– О, это мистер и миссис Квакуа, – пояснила Люси. – Сионисты, из африканской общины Евангелия горы Кармель. Ненастоящая церковь, ненастоящий епископ.
День на Флауэр-стрит начинался в шесть утра, а просыпались обитатели миссии еще раньше. Шторы в спальне не отличались плотностью. С тыльной, комнатной стороны они имели желтоватый оттенок, и поверх этого желтоватого поля багровели узоры солнечных вспышек. Шторы не сходились вплотную, сколько их ни сдвигай, чтобы преграждать путь солнечным лучам, и каждое утро озорной луч, острый, как лезвие топора, падал на подушки и бил спящим в глаза.
Кухня в тому времени уже готовила кашу из маиса. Джейкоб колол дрова, после чего отправлялся заниматься садом. Он вырос в сельской местности, и лицо у него было все в ссадинах, как у боксера. Люси объяснила, что он страдал падучей. Люди в его родной деревне кидали в Джейкоба камни, когда с ним случался припадок, чтобы изгнать из него демонов. Неграмотные люди, невежественные, прибавила Люси со своим обычным высокомерным видом.
Потом шли к утренней молитве, благо церковь находилась в пяти минутах ходьбы от миссии. Отец Альфред непременно обменивался рукопожатиями, хотя виделся с Элдредами минимум дважды до обеда и дважды после обеда, причем почти ежедневно, и вообще приходил в миссию, когда ему заблагорассудится. Невысокий, беспокойный, он постоянно улыбался, а выражение смуглого лица было таким, словно он пребывал в непрестанном удивлении.
После молитвы Анна обсуждала с кухаркой Розиной дневное меню. Количество еды прикидывали с запасом – подразумевалось, что в миссию за пропитанием может зайти кто угодно. Никто не мог знать или предсказать, что и кого принесет очередной день.
Прислуга миссии была многочисленной, и нельзя было сказать, что эти люди перетруждались. Все они в прошлом столкнулись с суровыми испытаниями; потому их и взяли на работу, а отнюдь не за выдающиеся умения и таланты на этом поприще. Джейкоб, большую часть дня спавший под деревом, имел помощника – мальчишку-сироту, у которого вовсе не было родных, не считая каких-то полумифических родичей в Дурбане (а их отыскать не удавалось). Этот мальчишка бегал в обносках, позоря миссию. Когда Ральф давал ему новую одежду, он тут же ее продавал. Поневоле чудилось, что он мнил своим предназначением служить олицетворением бед и несчастий.
Кухарка Розина восседала на стуле, зажатом в углу стен, поблизости от печи. Задняя дверь кухни все стояла распахнутой настежь, чтобы подружки Розины могли приходить и уходить, когда им вздумается. Они тянулись нескончаемым потоком, поочередно усаживались на корточки и излагали свежие сплетни. Анна, проходя через кухню, улыбалась и здоровалась, но всякий раз мысленно отмечала, что эти африканки что-то жуют. Ее беспокоило, что половина населения Элима, водившая знакомство с Розиной, могла похвастаться тем, что питается лучше другой половины.
Еще Розина славилась привычкой выдворять подружек из кухни и гонять их по двору, размахивая каким-нибудь подручным инструментом – то относительно безобидной деревянной ложкой, а то и мясницким ножом. Видимых причин эти приступы ярости как будто не имели, не происходило ничего такого особенного, что могло бы объяснить всплеск гнева. Жертвы, как правило, возвращались несколько дней спустя, боязливо замирали на пороге, влекомые надеждой на тарелку каши или на ломоть хлеба.
Какие именно тяготы довелось пережить самой Розине, не знал никто. Она никому не рассказывала о своем прошлом, ни с кем не делилась, но что-то ведь испортило ее характер, некое событие, выбивавшееся из привычного ряда пожаров, болезней и внезапных смертей. Изо дня в день основной мишенью ее нападок становилась помощница кухарки по имени Дири, молодая женщина хрупкого телосложения, с ногами-палочками. Она была в положении, мало того, таскала на спине больного младенца.
Анне поведали, что другие дети Дири поумирали. Сейчас она носила то ли третьего, то ли четвертого, и с каждыми новыми родами становилась все слабее. Анна решила, что не допустит смерти младенца: она разгадает эту загадку, будет присматривать за Дири, возьмет ту под свою опеку. Она предложила вызвать врача; Дири, склонив голову, объяснила – уханьями и жестами, – что посещает доктора из своих соплеменников.
Анна не отважилась настаивать. Зато стала разводить молоко в порошке и толочь сухари, с надеждой и тревогой всматриваясь в сморщенное младенческое личико. Обычно младенцы умирали по ночам, испуская свой последний вздох, пока все остальные спят. Во всяком случае, так полагало большинство. Но Розина, обуянная яростью, вопила, что Дири сама убивает своих детей. Мужа у Дири не имелось – причем, судя по всему, его не было никогда. Люси Мойо утверждала, что за одну смерть ребенка женщину прощают, но эта Дири – просто ходячее несчастье. Анна поинтересовалась – разве нам не положено прощать до седмижды семидесяти раз?[19]19
Мф. 18:22.
[Закрыть] Люси в ответ посмотрела на нее столь свирепо, что Анна спросила себя: «Может, я всегда толковала Писание неправильно? Может, Господь говорил о другом?»
Женщина по имени Клара убирала дом и стирала одежду. Она училась и выросла в миссии, получила соответствующее свидетельство. Она стыдилась своего занятия, и Ральф с Анной понимали, что она давно переросла уборку со стиркой. Когда Клара просила, они с готовностью сочиняли рекомендательные письма, будь то в магазин или в местную больницу, где требовались медсестры в регистратуру. Но работодатели неизменно Клару отвергали. Она возвращалась в миссию с мертвыми глазами и бралась за швабру.
Когда-то у Клары был муж, но он сбежал, оставив жену с четырьмя малыми детьми. Упования, которые она возлагала на своих малюток, были весьма высоки, как и требования, которые она к ним предъявляла: молчать, не лениться, заниматься полезным делом. Каждый вечер она заставляла детей читать наизусть Библию; если кто запинался или ошибался, велела нести трость. Вечера оглашались тоненькими детскими вскриками, похожими на мяуканье. Но кто посмел бы запретить Кларе наставлять своих отпрысков? Она считала, что дети не должны вырасти похожими на своего отца, и вразумляла их тем способом, который считала единственно верным лекарством из жизни в пороке, пьянстве и страданиях, ведущей к вечным мукам в преисподней.
Понять, почему работодатели отказывают Кларе, оказалось довольно просто, но куда труднее было облечь это понимание в слова. Она обладала некими душевными качествами, что внушали опасение. Нет, не склонностью к насилию, которая выделяла Розину. В душе Клары зияла пустота, и никому не хотелось ломать голову над тем, чем и как эту пустоту можно заполнить.
Каждое утро на Флауэр-стрит Ральф забивался в клетушку, которую громко именовал кабинетом, и принимался изучать письма и счета, скрупулезно и старательно подбивая ничтожные суммы в жалкой и тщетной попытке сэкономить. Анна же отправлялась в начальную школу, присматривать за помощниками из местных. Учеников в школе было немало, порядка полутора сотен, и за ними приглядывали двадцать или тридцать добровольцев, которые приходили и уходили, сменяя друг друга, по какому-то чрезвычайно хитроумному расписанию. Сами они в этом расписании отлично разбирались, а вот Анна вечно путалась.
Каждое утро детишек обряжали в синие комбинезончики, которые застегивались на спине; это было первое испытание – запихнуть шаловливые, беспокойные ручки в рукава. Две наемных прачки стирали комбинезоны в конце недели, а еще одна женщина готовила кашу на обед. Детей приходилось едва ли не насильно кормить этой кашей, приходилось укладывать спать после обеда, следить за ними в оба глаза на качелях, горках и лесенках, взвешивать, измерять рост и рассказывать им сказки. В общем, хлопот хватало, а рабочих рук было в обрез.
Когда детишкам исполнялось по семь, они покидали уютный мирок начальной школы при миссии и вступали в опасный взрослый мир: два с половиной часа учебы ежедневно, как полагалось по новым законам. Едва эти два с половиной часа пролетали, детей фактически бросали на волю обстоятельств. Если матери ухитрялись подыскать себе хоть какую-то работу, детей оставляли весьма небрежному, вынужденному попечению родственников либо старших братьев и сестер. Те нисколько не усердствовали, и дети благополучно оказывались на улице.
Немногочисленные счастливчики попадали, как выражались в миссии, в «игровую группу». Их кормили супом и хлебом, а также фруктами, когда те удавалось закупить. Книжек ребятам не давали, поскольку это было бы нарушением закона. Старались занять, отвлечь от улицы играми и изучением полезных ремесел, дабы неокрепшие умы не поддались искусу пойти по преступным путям.
Соблюдались ли в городе эти дурацкие новые законы? О, да.
– Тут полным-полно тех, кто сразу бежит в полицию, если что, – спокойно объясняла Люси. – Им причитается награда в несколько пенни за донос. Помните об этом, миссис Элдред.
Для себя Анна ничего не просила и не желала, однако ряди детишек готова была принести любую жертву. Договаривалась с лавочниками из белых кварталов о способах пополнить ежедневное меню, выпрашивала у бакалейщиков побитые яблоки, выманивала у пекарей вчерашний хлеб. Искала тех, кто не против поделиться деньгами на содержание детей, чьи родители не могли позволить себе даже крохотную ежемесячную плату миссии. Всякий день она намечала себе конкретную цель – столько-то встреч со стиснутыми зубами и унижениями, столько-то беззастенчивого вранья и мольбы. Она обнаружила, что в здании миссии сосредоточиться на работе непросто: люди шли беспрерывным потоком, задавали глупые вопросы или просили разрешения воспользоваться телефоном; если за целый час удавалось сделать хоть что-то полезное, это можно было считать немалым достижением.
При одной из комнат для занятий имелась кладовая, большое, просторное помещение, где хранились веники, метлы и прочая утварь. Анна забрала эту кладовую себе. Протискивалась мимо широкой и высокой скамьи, которую приспособила под письменный стол, кое-как усаживалась, вклиниваясь худощавым телом между столешницей и стеной, принималась печатать двумя пальцами на проржавевшей пишущей машинке очередные письма со смиренными просьбами.
Ральф говорил, что эта работа превращает их в попрошаек. Просто пойти и купить что-либо практически невозможно, и не имеет значения, насколько это что-то тебе нужно. Ты вынужден плести интриги, молить и унижаться, сговариваться об аренде, уламывать посторонних, чтобы они заплатили вместо тебя.
Сам Ральф подпирал дверь в свой кабинет стопкой бумаг. Другие бумаги громоздились вокруг, ежеминутно угрожая соскользнуть на пол.
– Как думаешь, епархия согласится приобрести картотеку, если я попрошу? – поинтересовался он у Анны. – Хотя… – Видно, он и сам понял тщетность своих ожиданий. – Конечно, есть заботы понасущнее.
Часто в конце дня выяснялось, что за кем-то из детишек не пришли родители. Они не то чтобы забывали прийти, нет: подобным образом проявлялись сложности и хитросплетения местной семейной жизни. Анна собирала таких детей, что заливались слезами или растерянно жались к стенкам, отводила их к себе, кормила печеньем, утешала и отправляла посыльного разузнать, куда подевались родители. Заболели? Или их за что-то арестовали?
Ральф обычно дежурил, можно сказать, по вечерам в полицейском участке. Каждое утро полицейские выходили на улицы, чтобы набрать положенную квоту прохожих без пропусков. Этих бедолаг сгоняли к перекресткам, непременно в наручниках, скованных по двое; приезжал фургон, и арестованных запихивали внутрь. Причем отлавливали чернокожих полицейские-африканцы. Сперва Ральф недоумевал, почему они так поступают, но быстро сообразил, что таков их способ зарабатывать на жизнь. Белый сержант в участке устало поведал ему: «Мистер Элдред, всем нужно на что-то жить».
Днем в миссию приходили родственники тех, кого арестовали поутру, и начинали жаловаться: мой сын всего-то пошел навестить соседа, моя сестра пошла за едой и забыла пропуск дома… Ральф под вечер отправлялся в участок вызволять арестованных и платить за них штрафы. «На следующей неделе, – внушал он родственникам жертв, – вы должны вернуть мне деньги, поняли?» Он старался не ради себя, а ради миссии, иначе той грозило остаться без средств, а это означало, что придется урезать иные расходы. А еще он настойчиво напоминал людям, чтобы те не забывали пропуска, когда им приспичивает выйти из дома.
Ему категорически не нравилось такое вот взаимодействие с государственными властями. Однако его направили в Африку вовсе не для того, чтобы он поощрял местных нарушать законы, и дядюшка Джеймс в своих письмах не переставал о том напоминать. От Ральфа никто не требовал становиться героем или мучеником; от него лишь ждали, что он будет делать свою работу даже в сложившихся обстоятельствах.
Люди здесь не голодают, писал он дядюшке Джеймсу. Беднейшие из бедных и те способны как-то прокормиться, а ходить модно и нагишом. Но местные живут на краю бездны. Стоит захворать на несколько дней, и ты уже за краем, ибо лишился своей жалкой горсти пенсов. Женщины отчаянно пытаются приучить детей к гигиене, наставляют в хороших манерах, норовят обучить грамоте в надежде на светлое будущее. Однако по глазам детей видно, что эта малышня мудрее своих родителей и знает, что все усилия бессмысленны.
Никакого комфорта, думала Анна. Утешают только мелочи; ряд, другой, третий, глядишь, и покрывало связано. С приближением зимы местные женщины стали вязать целеустремленно и решительно. По средам в миссии собирался вязальный кружок, и Анна считала себя обязанной туда ходить. Люси Мойо – или другая женщина с сильным, громким голосом – читала вслух Новый Завет, а пальцы так и летали, и вера укрепляла руки и направляла спицы. Рядом с этими людьми все норфолкские семейства выглядели законченными безбожниками, Мартины из Ист-Дирхема казались беспринципными гедонистами, а Элдреды из Нориджа – язычниками, погрязшими в грехах.
По четвергам проходили встречи в церкви. Женщины из Союза матерей надевали накрахмаленные белые блузы и черные юбки; каждую блузу украшала брошь, говорившая о принадлежности к союзу, а головы покрывали черные ситцевые платки. Незамужним матерям, если те раскаивались в своем распутстве, тоже дозволялось облачаться в подобный наряд, но брошей им никто не выдавал.
Методистки наряжались в красные блузки с черными юбками. Прихожанки голландской реформатской церкви носили черные юбки и белые блузы с широкими черными отворотами. На их фоне методистки выглядели кокетками.
Дири каждое воскресенье куда-то пропадала на несколько часов. Анна не скрывала своего беспокойства.
– Не волнуйтесь, миссис Элдред, – успокоила ее Люси Мойо. – Она ходит в церковь епископа Квакуа, целый день поет и танцует. Она ходит туда, потому что ей дают яркую одежду, позволяют плясать и вообще вести себя непотребно. А их самозваный напыщенный пастор бродит вокруг с ведром благословленной им воды в руках.
Днем в здании на Флауэр-стрит обычно заседали всевозможные благотворительные комиссии. Когда заседания заканчивались, Ральф с Анной вдвоем отправлялись навещать больных, прыгали и тряслись в служебной машине по ухабам и рытвинам городских улиц. К четырем часам стены домов начинали подпирать зловещего вида фигуры: местная молодежь, с утра резвившаяся в вельде, возвращалась в город.
К пяти эта молодежь, крепкие чернокожие парни, принималась слоняться по улицам, собираться кучками у кафе, затягиваясь сигаретой, которую передавали по кругу. От них исходило зримое ощущение угрозы; они дожидались темноты. Как правило, Анна и Ральф возвращались домой к закату. Когда их дребезжащий транспорт подкатывал к перекрестку, с угла которого было видно здание миссии, Анна, сидевшая в пассажирском кресле, неизменно бледнела и вся как-то подбиралась. Летом ей было жарко, в нос забивалась пыль, а зимой она промерзала до костей. Она хотела вымыться и спокойно поужинать, ничего более, но понимала, что, пока машина не свернет за угол, ей не суждено узнать, какой именно сюрприз приготовил им очередной вечер.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































