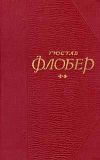Автор книги: Хорхе Борхес
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Малому поэту из греческой антологии
Где след этих дней,
которые принадлежали тебе, сплетались
из бед и удач и были твоей вселенной?
Все они смыты
мерной рекой времен, и теперь ты – строка в указателе.
Другим даровали боги бессмертную славу,
эпитафии, бюсты, медали и скрупулезных биографов,
а о тебе, неприметный друг, известно одно:
что соловья ты заслушался на закате.
Во тьме среди асфоделей твоя обделенная тень,
наверное, укоряет богов за скупость.
Но дни – это паутина банальнейших пустяков,
и разве не лучше остаться самой золой,
из которой слагается забвенье?
На других направили боги
луч беспощадной славы,
проникающий в недра, не упуская ни щели,
славы, которая сушит розу своей любовью, —
с тобой, собрат, они обошлись милосердней.
В самозабвенье заката, который не сменится ночью,
поет и поет тебе соловей Феокрита.
Страница памяти полковника Суареса, победителя при Хунине
Что такое нужда, изгнанье,
унижения старости, ширящаяся тень
диктатора над страной, особняк за Верхней заставой,
проданный братьями в годы войны, бесцельные день за днем
(сначала их хочешь забыть, а потом и впрямь забываешь) —
перед той твоей высшей минутой, верхом в седле,
в открытой взгляду степи, как на сцене перед веками,
как будто амфитеатр хребтов тебя обступил веками!
Что такое бегущее время, если в нем
был единственный вечер полноты и самозабвенья!
Он сражался в своей Америке тринадцать лет, под конец
оказавшись в Восточной Республике, в поле у Рио-Негро.
Закатной порой он, скорей всего, вспоминал,
что и для него однажды раскрылась роза:
алый бой под Хунином, тот бесконечный миг,
когда пики сошлись, приказ, открывший сраженье,
первый разгром и среди грохотанья битвы
(оглушившей его, совсем как его парней) —
собственный крик, поднимающий перуанцев,
блеск и натиск и неумолимость атаки,
взвихренный лабиринт полков,
схватка пик без единого выстрела,
испанец, раскроенный пополам,
победа, счастье, усталость, отяжелевшие веки
и брошенные умирать в болоте,
и Боливар с какими-то историческими словами,
и солнце, уже на закате, и первородный вкус воды и вина,
и труп без лица, дочиста стертого схваткой…
Его внук ставит в строчку эти слова и слышит
тихий голос из древних глубин своей крови:
– Что такое бой под Хунином – лишь славное воспоминанье,
дата, которую учат к зачету или выводят на карте?
Бой бесконечен и обойдется без помпы
живописных полков и военных труб:
Хунин – это двое в кафе, проклинающих тиранию,
и неизвестный, гибнущий в каземате.
1953
Мф. 25: 30
Мост над платформой Дня Конституции. Под ногами
лязг поездов, ткущих стальной лабиринт.
Гарь и гудки осадили ночь,
вдруг представшую Страшным судом. За незримым краем земли,
прямо во мне зазвучал вездесущий голос,
произнося все это (все это, а не слова —
мой жалкий, растянутый перевод единого слова):
– Звезды, хлеб, книги Запада и Востока,
карты, шахматы, галереи, подвалы и мезонины,
тело, чтобы пройти по земле,
ногти, растущие ночью и после смерти,
тьма для забвенья и зеркала для подобий,
музыка, этот вернейший из образов времени,
границы Бразилии и Уругвая, кони и зори,
гирька из бронзы и экземпляр «Саги о Греттире»,
пламя и алгебра, бой под Хунином, с рожденья вошедший в кровь,
дни многолюдней романов Бальзака и аромат каприфоли,
любовь – и ее канун, и пытка воспоминаний,
подземные клады сна, расточительный случай
и память, в которую не заглянуть без головокруженья, —
все это было дано тебе и, наконец,
измена, крах и глумленье —
извечный удел героев.
Напрасно мы даровали тебе океан
и солнце, которое видел ошеломленный Уитмен:
ты извел эти годы, а годы тебя извели,
и до сих пор не готовы главные строки.
1953
Компас
Эстер Семборайн де Торрес
Мир – лишь наречье, на котором Он
Или Оно со времени Адама
Ведет сумбурный перечень, куда мы
Зачем-то включены. В него внесен
Рим, Карфаген, и ты, и я, и сон
Моих непостижимых будней, драма
Быть случаем, загадкой, криптограммой
И карою, постигшей Вавилон.
Но за словами – то, что внесловесно.
Я понял тягу к этой тьме безвестной
По синей стрелке, что устремлена
К последней, неизведанной границе
Часами из кошмара или птицей,
Держащей путь, не выходя из сна.
Ключ в салониках
Абарбанель, Фариас иль Пинедо,
изгнанники столетия назад, —
в чужом краю потомки их хранят
от дома старый ключ. Дом был в Толедо.
У них надежды нет, им страх неведом:
достанут ключ и смотрят на закат;
нездешние «вчера» в той бронзе спят,
усталый блеск и равнодушье к бедам.
Ключ от дверей, что ныне только прах,
стал тайным знаком на семи ветрах,
как ключ от храма, что не сдался Риму:
когда внутри уже пылал огонь,
его швырнули в воздух, чтоб незримо
тот ключ на небе приняла ладонь.
Поэт XIII века
Он смотрит на хаос черновика —
На этот первый образец сонета,
Чьи грешные катрены и терцеты
Сама собою вывела рука.
В который раз шлифуется строка.
Он медлит… Или ловит звук привета, —
В нездешнем, вещем ужасе поэта
Вдруг слыша соловьев через века?
И чувствует сознаньем приобщенным,
Что преданным забвенью Аполлоном
Ему открыт священный архетип:
Кристалл, чьей повторяющейся гранью
Не утолить вовеки созерцанье, —
Твой лабиринт, Дедал? Твой сфинкс, Эдип?
Солдат капитана Урбины
«Я недостоин подвига другого.
Тот день в Лепанто – верх моих деяний», —
грустил солдат, в плену мирских заданий
скитаясь по стране своей суровой.
Постылой повседневности оковы
желая сбросить, он бежал в мечтанья,
былых времен волшебные сказанья,
Артуром и Роландом очарован.
Садилось солнце на полях Ла-Манчи.
Он думал, провожая отблеск медный:
«Вот я пропащий, всем чужой и бедный…» —
не замечая песни зарожденья.
К нему через глубины сновиденья
уже спешили Дон Кихот и Санчо.
Пределы
Одним из утопающих в закате
Проулков – но которым? – в этот час,
Еще не зная о своей утрате,
Прошел я, может быть, в последний раз.
Назначенный мне волей всемогущей,
Что, снам и яви меру положив,
Сегодня ткет из них мой день грядущий,
Чтоб распустить однажды все, чем жив.
Но если срок исчислен, шаг наш ведом,
Путь предрешен, конец неотвратим,
То с кем на повороте в доме этом
Расстались мы, так и не встретясь с ним?
За сизыми оконцами светает,
Но среди книг, зубчатою стеной
Загромоздивших лампу, не хватает
И так и не отыщется одной.
И сколько их – с оградою понурой,
Вазоном и смоковницей в саду —
Тех двориков, похожих на гравюры,
В чей мир тянусь, но так и не войду!
И в зеркало одно уже не глянусь,
Одних дверей засов не подниму,
И сторожит четвероликий Янус
Дороги к перекрестку одному.
И тщетно к одному воспоминанью
Искать заговоренного пути;
Ни темной ночью, ни рассветной ранью
Один родник мне так и не найти.
И где персидское самозабвенье,
Та соловьино-розовая речь,
Чтобы хоть словом от исчезновенья
Смеркающийся отсвет уберечь?
Несет вода неудержимой Роны
Мой новый день вчерашнего взамен,
Что снова канет, завтрашним сметенный,
Как пламенем и солью – Карфаген.
И, пробужден стоустым эхом гула,
Я слышу, как проходит стороной
Все, что манило, все, что обмануло:
И мир, и тот, кто назывался мной.
Бальтасар Грасиан
Инверсии, меандры и эмблемы,
Труд, филигранный и никчемный разом, —
Вот что его иезуитский разум
Ценил в стихах – подобье стратагемы.
Не музыка жила в нем, а гербарий
Потрепанных софизмов и сравнений,
И перед хитроумьем преклоненье,
И превосходство над Творцом и тварью.
Не тронутый ни лирою Гомера,
Ни серебром и месяцем Марона,
Не видел он Эдипа вне закона
И Господа, распятого за веру.
И пышные восточные созвездья,
Встречающие утренние зори,
Прозвал, ехидничая и позоря,
«Несушками небесного поместья».
Он жил, ни божеской любви не зная,
Ни жгущей губы каждого мужчины,
Когда за звучною строфой Марино
К нему подкралась исподволь Косая.
Дальнейшая судьба его туманна:
Могильному гниенью оставляя
Земную персть, вошла под кущи Рая
Душа скончавшегося Грасиана.
Что он почувствовал, перед собою
Увидев Архетипы и Блистанья?
Не зарыдал ли над пустой судьбою,
Признав: «Напрасны были все метанья»?
Что пережил, когда разверзло веки
Нещадным светом Истины небесной?
Быть может, перед богоданной бездной
Он отшатнулся и ослеп навеки?
Нет, было так: над мелочною темой
Склонился Грасиан, не видя Рая
И в памяти никчемной повторяя
Инверсии, меандры и эмблемы.
Сакс (449 г.)
Уже зашел рогатый серпик лунный,
Когда опасливой стопою босой
Мужчина, грубый и рыжеволосый,
Свой след оттиснул на песчинках дюны.
Окинул взглядом от приморской кромки
Белесый дол под черными хребтами
В тот первый час, когда Господь потемки
Не расцветил несчетными цветами.
Сакс был упорен. Над крутым уделом
Трудились плуг и весла, меч и сети.
И убивать привыкли руки эти,
И руны высекать резцом умелым.
Из края топей он пришел на земли,
Где волны сыплют пенными клоками,
И Рок, как небо, тяжкий свод подъемля,
Висел над ним и над его богами,
Насупленными Одином и Тором,
Которых он с толпою соплеменных
Сам украшал и жертвовал которым
Пернатых и собак, коней и пленных.
И в память павших или к чести мужа
Под стать клинку чеканя выраженья,
Он встречею героев звал сраженье
И встречей наконечников к тому же.
Вот мир его – мир колдовского моря,
Простор для королей, волков и мрака
Неумолимого, обитель страха
Священного, что ждет в сосновом боре.
Скупой словарь был прочного закала,
Шекспировскую музыку и пламя
Через века питая именами
Огня и влаги, краски и металла,
Войны и жажды, голода и славы,
Сна, горя, смерти и всего иного;
Его потомок заложил основы
Основ Британской будущей державы.
Голем
Когда и впрямь (как знаем из «Кратила»)
Прообраз вещи – наименованье,
То роза спит уже в ее названье,
Как в слове «Нил» струятся воды Нила.
Но имя есть, чьим гласным и согласным
Доверено быть тайнописью Бога,
И мощь Его покоится глубоко
В том начертанье – точном и ужасном.
Адам и звезды знали в кущах рая
То имя, что разъел налетом ржави
Грех (по ученью Каббалы), из яви
И памяти людей его стирая.
Но мир живет уловками людскими
С их простодушьем. И народ Завета,
Как знаем, даже заключенный в гетто,
Отыскивал развеянное имя.
И не о мучимых слепой гордыней
Прокрасться тенью в смутные анналы —
История вовек не забывала
О Старой Праге и ее раввине.
Желая знать скрываемое Богом,
Он занялся бессменным испытаньем
Букв и, приглядываясь к сочетаньям,
Сложил то Имя, бывшее Чертогом,
Ключами и Вратами – всем на свете,
Шепча его над куклой бессловесной,
Что сотворил, дабы открыть ей бездны
Письмен, Просторов и Тысячелетий.
А созданный глядел на окруженье,
С трудом разъяв дремотные ресницы,
И, не поняв, что под рукой теснится,
Неловко сделал первое движенье.
Но (как и всякий) он попался в сети
Слов, чтобы в них плутать все безысходней:
«Потом» и «Прежде», «Завтра» и «Сегодня»,
«Я», «Ты», «Налево», «Вправо», «Те» и «Эти».
(Создатель, повинуясь высшей власти,
Творенью своему дал имя «Голем»,
О чем правдиво повествует Шолем —
Смотри параграф надлежащей части.)
Учитель, наставляя истукана:
«Вот это бечева, а это – ноги», —
Пришел к тому, что – поздно или рано —
Отродье оказалось в синагоге.
Ошибся ль мастер в написанье Слова,
Иль было так начертано от века,
Но силою наказа неземного
Остался нем питомец человека.
Двойник не человека, а собаки,
И не собаки, а безгласной вещи,
Он обращал свой взгляд нечеловечий
К учителю в священном полумраке.
И так был груб и дик обличьем Голем,
Что кот раввина юркнул в безопасный
Укром. (О том коте не пишет Шолем,
Но я его сквозь годы вижу ясно.)
К Отцу вздымая руки исступленно,
Отцовской веры набожною тенью
Он клал в тупом, потешном восхищенье
Нижайшие восточные поклоны.
Творец с испугом и любовью разом
Смотрел. И проносилось у раввина:
«Как я сумел зачать такого сына,
Беспомощности обрекая разум?
Зачем к цепи, не знавшей о пределе,
Прибавил символ? Для чего беспечность
Дала мотку, чью нить расправит вечность,
Неведомые поводы и цели?»
В неверном свете храмины пустынной
Глядел на сына он в тоске глубокой…
О, если б нам проникнуть в чувства Бога,
Смотревшего на своего раввина!
1958
Танго
Где вы теперь? – о тех, кого не стало,
Печаль допытывается, как будто
Есть область мира, где одна минута
Вмещает все концы и все начала.
Где (вторю) те апостолы отваги,
Чьей удалью по тупикам окраин
И пригородов был когда-то спаян
Союз отчаянности и навахи?
Где смельчаки, чья эра миновала,
Кто в будни – сказкой, в эпос – эпизодом
Вошел, кто не гонялся за доходом
И в страсти не выхватывал кинжала?
Лишь миф – последний уголь в этой серой
Золе времен – еще напомнит въяве
Туманной розой о лихой ораве,
Грозе Корралес или Бальванеры.
Где в переулках и углах за гранью
Земною караулит запустенье
Тот, кто прошел и кто остался тенью, —
Клинок Палермо, сумрачный Муранья?
Где роковой Иберра (чьи щедроты
Церквам не позабыть), который брата
Убил за то, что было жертв у Ньято
Одною больше, и сравнял два счета?
Уходит мифология кинжалов.
Забвенье затуманивает лица.
Песнь о деяньях жухнет и пылится,
Став достоянием сыскных анналов.
Но есть другой костер, другая роза,
Чьи угли обжигают и поныне
Тех черт неутоленною гордыней
И тех ножей безмолвною угрозой.
Ножом врага или другою сталью —
Годами – вы повержены бесстрастно,
Но, ни годам, ни смерти не подвластны,
Пребудут в танго те, кто прахом стали.
Они теперь в мелодии, в беспечных
Аккордах несдающейся гитары,
Чьи струны из простой милонги старой
Ткут праздник доблестных и безупречных.
Кружатся львы и кони каруселей,
И видится обшарпанная дека
И пары, под Ароласа и Греко
Танцующие танго на панели
В миг, что заговорен от разрушенья
И высится скалой над пустотою,
Вне прошлого и будущего стоя
Свидетелем смертей и воскрешенья.
Свежо в аккордах все, что обветшало:
Двор и беседка в листьях винограда.
(За каждой настороженной оградой —
Засада из гитары и кинжала.)
Бесовство это, это исступленье
С губительными днями только крепло.
Сотворены из времени и пепла,
Мы уступаем беглой кантилене:
Она – лишь время. Ткется с нею вместе
Миражный мир, что будничного явней:
Неисполнимый сон о схватке давней
И нашей смерти в тупике предместья.
Другой
Великий грек, воспевший гнев Ахилла,
Слагая строки – первые из тысяч, —
Воззвал к суровой музе, искру высечь
Из слов прося, чтоб в них проснулась сила.
Он знал, что вместе с нами в труд наш верит
Другой – тот бог, что свет нам шлет внезапно.
Века спустя Писание узнав, мы
Сказали бы, что Дух где хочет веет.
Орудья по руке, как говорится,
Даст сей другой, бог злой и безымянный,
Всем тем, кого допустит в круг избранный:
Мрак – Мильтону, Сервантесу – темница.
Ему – все то, что память, словно стража,
Хранит веками. Нам – зола и сажа.
Роза и Мильтон
Из поколений роз, которых время
Не оградило от исчезновенья,
Пусть хоть одна не ведает забвенья,
Одна, не отличенная меж всеми
Минувшими вещами. Мне судьбою
Дано назвать никем не нареченный
Бутон, который Мильтон обреченный
В последний миг держал перед собою,
Не видя. Мраморная, золотая,
Кровавая, какой бы ни была ты, —
Оставь свой сад, беспамятством заклятый,
И в этих строках развернись, блистая
Всем многоцветьем или тьмой конца,
Как та, незримая в руке слепца.
Читатели
Я думаю о желтом человеке,
Худом идальго с колдовской судьбою,
Который в вечном ожиданье боя
Так и не вышел из библиотеки.
Вся хроника геройских похождений
С хитросплетеньем правды и обмана
Не автору приснилась, а Кихано,
Оставшись хроникою сновидений.
Таков и мой удел. Я знаю: что-то
Погребено частицей заповедной
В библиотеке давней и бесследной,
Где в детстве я прочел про Дон Кихота.
Листает мальчик долгие страницы,
И явь ему неведомая снится.
Ин. 1: 14
Рассказ ведут предания Востока,
что жил на свете праведный халиф,
и он, о царской гордости забыв,
скитался по Багдаду одиноко.
Тайком бродил по сумрачному миру
среди толпы, среди кривых дорог.
И ныне, уподобившись Эмиру
всех правоверных, к людям вышел Бог;
и матерью рожден, как прежде были
все те, кто станет после горсткой пыли,
и мир Ему дарует Царь небес:
рассветы, камень, воду, хлеб и луг,
а после – кровь от нестерпимых мук,
глумленье, гвозди, деревянный крест.
Пробуждение
Забрезжил свет, и, путаясь в одежде,
Встаю от снов для будничного сна.
Из мелочей привычных ни одна
Не сдвинулась – настолько все как прежде,
Что новый день сливается с былым,
Где так же носит племена и стаи,
Хрипит железо, воинства сметая,
И тот же Карфаген, и тот же Рим,
Опять лицо, что и не глядя знаю,
И голос, и тревога, и удел.
О, если б я, хоть умерев, сумел
Очнуться до конца, не вспоминая
Того, кто звался мной, рядясь в меня!
Быть позабытым с нынешнего дня!
Пережившему молодость
Тебе известен ход земных трагедий
И действий распорядок неуклонный:
Клинок и пепел, будущность Дидоны,
И Велисариева горстка меди.
Зачем же в кованых стихах упрямо
Все ищешь ты сражений среди мрака,
Когда перед тобой – семь пядей праха,
Скупая кровь и гибельная яма?
Вот зеркало, в чьем потайном колодце,
Как сон, и отразится, и сотрется
Однажды смертная твоя истома.
Уже предел твой близок: это стены,
Где длится вечер, беглый и бессменный,
И камни улицы, давно знакомой.
Александр Селкирк
Мне снится, что кругом – все то же море,
Но тает сон, развеян перезвоном,
Который славит по лугам зеленым
Английские спасительные зори.
Пять лет я замирал перед безмерной
И нелюдимой вечностью пустыни.
Чье наваждение пытаюсь ныне
Представить в лицах, обходя таверны.
Господь вернул мне этот мир богатый,
Где есть засовы, зеркала и даты,
И я уже не тот, сменивший имя,
Кто взгляд стремил к морскому окоему.
Но как мне весть подать тому, другому,
Что я спасен и здесь, между своими?
«Одиссея», песнь двадцать третья
Уже завершена суровой сталью
Возмездья долгожданная работа,
И наконечники копья и дрота
Гнилую кровь соперников достали.
Наперекор морям и их владыке
Улисс вернулся к берегам желанным —
Наперекор морям и ураганам
И богу брани в ярости и рыке.
Царица, успокоена любовью,
Уже, как раньше, делит изголовье
С царем, но где влачит судьбу земную
Тот, кто погожим днем и ночью темной
Бродил по миру, словно пес бездомный,
Никем себя прилюдно именуя?
Он
Глаза твои земные видят свет
звезды жестокой, а земную плоть
песок и камни могут уколоть.
А Он – и луч, и мрак, и желтый цвет.
Он есть и видит все. И Он глядит
на жизнь твою несметными глазами:
то гидрой черною, то зеркалами,
то тигром, чей окрас огнем горит.
Ему творенья мало. Он живет
в вещах малейших, Им же сотворенных:
Он корни кедров, на песках взращенных,
луны и солнца каждый поворот.
Я звался Каином. Из-за меня
Он знает муки адского огня.
Сармьенто
Ни мрамором, ни лавром он не скрыт.
Присяжным краснобаям не пригладить
Его корявой яви. Громких дат,
Достойных юбилеев и анналов,
Не хватит, чтобы в нем, ни с кем не схожем,
Убавить человека. Он не звук,
Подхваченный извилистой молвою,
Не символ, словно тот или другой,
Которым помыкают диктатуры.
Он – это он. Свидетель наших сроков,
Он видел возвышение и срам,
Свет Мая, ночь Хуана Мануэля,
И снова ночь, и потаенный труд
Над кропотливым будущим. Он – тот, кто
Сражается, любя и презирая.
Я знаю, он в сентябрьские утра,
Которых не забыть и не исчислить,
Был здесь, неукоснительной любовью
Пытаясь уберечь нас. День и ночь
Он в гуще толп, платящих за участье
(Нет, он не мертв!) поденною хулой
Или восторгом. Дальней перспективой
Преломлен, как магическим стеклом,
Три лика времени вместившим разом, —
Грядущий, нынешний, былой, – Сармьенто,
Сновидец, снова видит нас во сне.
Малому поэту 1899 года
Найти строку для тягостной минуты,
Когда томит нас день, клонясь к закату,
Чтоб с именем твоим связали дату
Той тьмы и позолоты, – вот к чему ты
Стремился. С этой страстью потайною
Склонялся ты по вечерам над гранью
Стиха, что до кончины мирозданья
Лучиться должен той голубизною.
Чем кончил, да и жил ли ты, не знаю,
Мой смутный брат, но пусть хоть на мгновенье,
Когда мне одиноко, из забвенья
Восстанет и мелькнет твоя сквозная
Тень посреди усталой вереницы
Слов, к чьим сплетеньям мой черед клониться.
Техас
И здесь, как в Южном полушарье, то же
Глухое поле без конца и края,
Где гаснет крик, в безлюдье замирая,
И тот же конь, аркан и краснокожий.
И здесь, в недосягаемом безвестье,
Сквозь гром столетий распевает птица,
Чтоб вечеру вовеки не забыться;
И здесь волхвуют письмена созвездий,
Диктуя мне исполненные силы
Слова, которые из лабиринта
Несчетных дней спасутся: Сан-Хасинто
И Аламо, вторые Фермопилы.
И здесь все то же краткое, слепое
Мгновенье, что зовем своей судьбою.
На полях «Беовульфа»
Порою сам дивлюсь, что за стеченье
Причин подвигло к безнадежной цели —
Вникать, когда пути уже стемнели,
В суровые саксонские реченья.
Изношенная память, тратя силы,
Не держит повторяемое слово,
Похожая на жизнь мою, что снова
Ткет свой сюжет, привычный и постылый,
А может (мнится мне), душа в секрете
Хранит до срока свой удел бессмертный,
Но твердо знает, что ее безмерный
И прочный круг объемлет все на свете?
Вне строк и вне трудов стоит за гранью
Неисчерпаемое мирозданье.
Конунг Хенгист
ЭПИТАФИЯ НА МОГИЛЕ КОРОЛЯ
Под камнем сим лежит тело Хенгиста,
что основал на этих островах
первое царство потомков Одина
и голод орлов утолил.
РЕЧЬ КОРОЛЯ
Не знаю, какие руны начертит на камне железо,
но вот мое слово:
Под небом я звался Хенгист-наемник.
Силу свою и отвагу я продавал королям
западных земель, что окаймляют
море, которого имя
Воин, Вооруженный Копьем,
но сила с отвагой не терпят,
когда их мужи продают,
и, уничтожив на Севере
врагов короля британского,
его я лишил престола и жизни.
Я горд королевством, добытым мечом,
здесь долгое лето,
есть реки для весел и есть реки для сетей
и много земли для плуга,
и бриттов, чтобы работать на ней,
и каменных городов, что мы предадим
запустению,
ибо их населяют мертвецы.
Я знаю, что за моей спиной
меня предателем кличут британцы,
но я был верен своей отваге,
я не доверял свою судьбу чужакам
и ни один воин меня не предал.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?