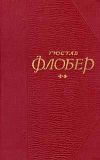Автор книги: Хорхе Борхес
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Фрагмент
Меч,
железный меч, выкованный в холоде зари,
меч, исписанный рунами,
которых вовек ни понять, ни забыть,
балтийский меч, который будет воспет в Нортумбрии.
Меч, который поэты
сравнят со льдом и пламенем,
Меч, который один король вручит другому,
а этот король – векам,
меч, который будет верно служить
до часа, что уже назначен Судьбой,
меч, который озарит битву.
Меч для руки,
что будет править славной битвой, кружевом войск,
меч для руки,
что обагрит клыки волка
и безжалостный клюв ворона,
меч для руки,
что будет щедра на красное золото,
меч для руки,
что убьет змею на ее златом ложе,
меч для руки,
что обретет царство и потеряет царство,
меч для руки,
что вырубит чащу копий.
Меч для руки Беовульфа.
Клинку в Йорк-Минстере
В нем чудится земное продолженье
Мужчины, что теперь – лишь горстка праха.
Воитель с тем мечом, не зная страха,
Шагал на смерть и принял пораженье,
Но смерть попрал и так пришел к победе:
Вот он, литой норвежец белотелый,
Рожденный для геройского удела, —
Клинок – его подобье и наследье.
Над смертью и чужбиной торжествуя,
Он снова сталь сжимает роковую,
И рядом с беспощадной тенью тою
Я тень во тьме, не видимая глазом,
Я – пепел, не рожденный стать алмазом,
И вправду живо только прожитое.
Поэту из племени саксов
Ты, телом – нынче прахом и распадом, —
Как все из нас, обременявший мир,
Ты, славу солнца видевший воочью,
Ты, живший не окостеневшим прошлым,
А вечным мигом – у последней кромки
Времен, на обморочной крутизне,
Ты, услыхавший в монастырской келье
Трубящий глас эпических боев,
Ты, к слову ткавший слово,
Ты, славя Брунанбургское сраженье,
Триумф отдавший не Господней воле,
А верной стали своего вождя,
Ты, праздновавший в лютом исступленье
Позор побитых викингов, кровавый
И щедрый пир орлов и воронья,
Ты, одаривший воинскую оду
Сокровищами родовых метафор,
Ты, живший вне истории, глядясь
Через теперешнее и былое,
Сквозь кровь и пот на поле Брунанбурга
Вглубь зеркала многовековых зорь,
Ты, Англии не пожалевший жизни,
Так это имя и не услыхав, —
Теперь лишь горстка редкостных вокабул,
Которые тасует германист;
Теперь всего лишь мой далекий голос,
Бормочущий чеканные слова.
И я молю богов и времена:
Пусть прожитое скроется забвеньем
И я зовусь Никем, вослед Улиссу,
Но хоть строка переживет меня
Во мраке ночи, пестующем память,
И на заре, встающей для живых.
Снорри Стурлусон
(1179–1241)
Ты, лед и пламя стародавней саги
Потомкам передавший в наставленье,
Ты, певший о величье поколений,
Откованных из стали и отваги, —
В потемках, наливающихся схваткой,
Почувствовал, как уязвима эта
Живая плоть, в потемках без рассвета
Поняв, что ты – из робкого десятка.
Ночь над Исландией. В громах прибоя
Все злее буря. Ты застигнут дома.
Спасенья нет. Позору не забыться
Вовек. Над обескровленным тобою
Взлетает сталь, сверкнувшая знакомо,
Как – помнишь? – на любой твоей странице.
Карлу XII
Прошедший с Севера на Юг дорогой,
что Одином проложена была,
Карл, викинг степи, ты вершил дела,
достойные поэзии высокой,
любил услышать ты на поле брани
смертельный свист картечи, звон мечей,
ты наслаждался славою своей
и восхищался мощью крепкой длани.
А побежденный или победитель —
два лика Фатума, ты это знал;
лишь храбрость добродетелью считал.
Забвенья мрамор – твой удел, воитель.
Ты боле одинок, чем все пустыни;
огонь, во льдах пылавший, мертв ты ныне.
Эмануэль Сведенборг
Заметно возвышаясь над толпою,
Он брел в толпе, чужой между чужими,
И потайное ангельское имя
Шептал. И видел въявь перед собою
Все, что закрыто от земного взгляда:
Круги огня, хрустальные палаты
Всевышнего и ужасы расплаты
В постыдном смерче наслаждений Ада.
Он знал: обитель Рая и Геенны —
В душе, в сплетенье темных мифологий;
Знал, словно грек, что каждый день в итоге
Лишь зеркало Извечности бессменной,
Начала и концы в сухой латыни
Невесть зачем запечатлев доныне.
Джонатан Эдвардс
(1703–1785)
Покинув шумный город и бегущий
Поток времен – пустую скоротечность,
Он, замечтавшись, различает вечность
И входит в сень под золотые кущи.
День – тот же, что и завтра, и когда-то
Вчера. Но нет пустячной вещи малой,
Чтоб втайне пыл его не разжигала,
Как золото луны или заката.
Он счастлив, зная: мир – лишь меч Господней
Неотвратимой кары, и немного
Тех, кто достигнет горнего чертога,
Но чуть не всяк достоин преисподней.
И затаился в самом сердце чащи
Такой же узник – Бог, Паук молчащий.
Эмерсон
Он потирает сгорбленную спину
И отправляется, закрыв Монтеня,
На поиски иного утешенья —
Заката, опалившего равнину.
И на закатной, золотой дороге
У самой кромки неба на минуту
Вдруг прорисовывается, как будто
В уме того, кто пишет эти строки.
Он думает: «Заветные страницы
Я прочитал и сочинил такие,
Что их прочтут во времена другие.
Бог дал мне все, что многим только снится.
Не обойденный славою земною,
Я не жил на земле. Ищу иное».
Эдгар Аллан По
Зловещий мрамор, труп, что осквернен
могильными червями, и иные
всесильной смерти знаки ледяные —
их собирал, но не страшился он.
Лишь тень его любовная страшила,
обычных судеб заунывный ток;
и нежный ослепил его цветок,
а не блестящий меч и не могила.
И точно в мир шагнув из отраженья,
избрал он жребий тяжкого служенья —
кошмарам посвятив свой дивный дар.
Быть может, после смерти, одинокий,
он вновь слагает сумрачные строки
в чудесный и пугающий кошмар.
Камден, 1892
Газет и кофе запах кисловатый.
Начало воскресенья. Все известно
До тошноты. В печати – тот же пресный
Аллегоризм счастливого собрата,
Как встарь. Он видит с нищенской постели,
Изнеможенный и белоголовый,
В докучном зеркале того, второго,
Который, верно, и на самом деле
Он. Рот и бороду привычной тени
Найдя рукой, по-старчески рябою,
Он вновь и вновь свыкается с собою.
Конец. И раздается в запустенье:
«Я славлю жизнь, хоть вправду жил едва ли.
Меня Уитменом именовали».
Париж, 1856
Болезнь его за годы приучила
К сознанью смерти. Он не мог из дому
Без страха выйти к уличному грому
И слиться с толпами. Уже без силы,
Недвижный Гейне представлял, старея,
Бег времени – неспешного потока,
Что разлучает с тьмою и жестокой
Судьбою человека и еврея.
Он думал о напевах, в нем когда-то
Звучавших, понимая обреченно:
Трель – собственность не птицы и не кроны,
А лет, скрывающихся без возврата.
И не спасут от ледяной угрозы
Твои закаты, соловьи и розы.
Рафаэль Кансинос-Ассенс
Измученный бессмертием народ,
гонимый и камнями побиенный,
рождал в душе поэта страх священный
и влек его тоской своих невзгод.
Он пил, как пьют крепчайшее вино,
Псалмы и Песни Ветхого Завета,
и знал, что лишь его услада эта,
и знал, ему иного не дано.
Его манил Израиль. Хоть далек
поэт был от пустыни нелюдимой,
не видел купины неопалимой,
но слышал голос Божий, как пророк.
Поэт, останься в памяти со мною;
а слава миру скажет остальное.
Загадки
Я, шепчущий сегодня эти строки,
Вдруг стану мертвым – воплощенной тайной,
Одним в безлюдной и необычайной
Вселенной, где не властны наши сроки.
Так утверждают мистики. Не знаю,
В Раю я окажусь или в геенне.
Пророчить не решусь. В извечной смене —
Второй Протей – история земная.
Какой бродячий лабиринт, какая
Зарница ожидает в заключенье,
Когда приду к концу круговращенья,
Бесценный опыт смерти извлекая?
Хочу глотнуть забвенья ледяного
И быть всегда, но не собою снова.
Мгновение
Где череда тысячелетий? Где вы,
Миражи орд с миражными клинками?
Где крепости, сметенные веками?
Где Древо Жизни и другое Древо?
Есть лишь сегодняшнее. Память строит
Пережитое. Бег часов – рутина
Пружинного завода. Год единый
В своей тщете анналов мира стоит.
Между рассветом и закатом снова
Пучина тягот, вспышек и агоний:
Тебе ответит кто-то посторонний
Из выцветшего зеркала ночного.
Вот все, что есть: ничтожный миг без края, —
И нет иного ада или рая.
К вину
Ты в Гомеровых строфах – в звонкой бронзе – сверкало,
В душах древних мужей пело пламенно-ало.
Вкруговую веками мы пускать тебя рады —
Рог наполнил германцу виночерпий Эллады.
С нами ты – сколько помним. Поколениям многим
Сердца жар, льва отвагу ты дарило в дороге.
Тем же руслом, что роют текучие годы,
Ты несешь радость дружбы, громогласье свободы.
Ты – как древний Евфрат, что времен от начала
Сквозь историю мира все течет величаво.
Ты играешь – и взор человечества новый
Прозревает метафору крови Христовой.
Средь поэтов Востока ты пребудешь любимым,
Там сравнят тебя с розой, клинком и рубином.
Для иного ты – Лета, пусть же пьет он забвенье.
Разделенное с другом пью в тебе вдохновенье.
Ты – Сезам, что откроет мне минувшие ночи.
Ты – свеча и удача, с кем потемки короче.
И влюбленный, и воин на тебя не в обиде.
В некий час позову я тебя. Так прииди.
Сонет о вине
В каком столетье, царстве, при каком
немом сцепленье звезд, какой секретный
день, в бронзе не отлитый, стал толчком
к изобретенью радости заветной?
Ее открыли в золоте осеннем.
Вино струится красным, день за днем,
с рекою времени сроднясь теченьем,
дарит нас львами, музыкой, огнем.
Вино воспели персы и арабы:
в ночь праздника и в день, что в горе прожит,
страх умалит, веселье преумножит,
теперь и я слагаю дифирамбы.
Открой мне тайну памяти моей,
чтоб, как по пеплу, я читал по ней.
1964
1
Все будто расколдованное. Снова
Луна уже не будет так ясна
И так дремотен сад. Теперь луна —
Лишь зеркало, где тень пережитого
И сирость угасанья. Два виска,
Горевших рядом, руки, что сплетались, —
Прощайте. Все прощай теперь. Остались
Верны тебе лишь память и тоска.
И хоть любой (как ты всегда твердил)
Теряет только то, чем ни мгновенья
Не обладал, но в ком достанет сил,
Чтоб научиться ремеслу забвенья!
С тобой покончат розою одной,
Убьют гитарной дрогнувшей струной.
2
Вся радость – в прошлом. Что ж, земля богата
Несчетными подарками другими.
Минута глубже и неизъяснимей,
Чем море. День велик, но час заката
Неотвратим. Остаток все короче,
Все ближе та награда потайная —
Иное море и стрела иная,
Что исцеляет ото дня, от ночи
И от любви нас. Каждая утрата
Предопределена уже с начала:
Что было всем, ничем, как до́лжно, стало.
Теперь с тобой лишь грустная отрада,
Никчемная привычка, что ведет
Опять к той двери, вновь на угол тот.
Угроза голода
Мать постоянных войн, вражды людской,
да будет стерт навеки грозный образ твой!
Ты викингов корабль влекла в морские дали,
в пустынях племена из-за тебя друг друга убивали.
Ты памятник самой себе воздвигла страшный,
он называется пизанскою Голодной башней;
мы можем угадать (лишь угадать) в пророческих стихах
последний день Земли, всечеловечный страх.
Волков из леса к сёлам выгоняешь постоянно,
на воровство пойти заставила Жана Вальжана.
Один из образов твоих – тот молчаливый бог,
что пожирает Землю, ненасытен и жесток.
Тот бог есть время. Есть богиня, чья обитель – склеп,
у гроба бденье – ее млеко, голод – хлеб.
Из-за тебя творец мистификаций Чаттертон
принять в младые годы яд был обречен.
Из-за тебя всю жизнь мы каждый день у Бога
в молитвах истых просим хлеба – хоть немного.
Вонзаешь копья и в детей новорожденных,
и в хищников, бессильных, изможденных.
Мать постоянных войн, вражды людской,
да будет стерт навеки грозный образ твой!
Чужеземец
Отправив два письма и телеграмму,
он бродит вдоль безвестных мостовых,
зачем-то отмечая их отличья,
и вспоминает Абердин и Лейден,
что как-то ближе этих лабиринтов,
где вместо путаницы – прямизна
и где он – волей случая, как всякий,
чья истинная жизнь совсем не здесь.
В своем пронумерованном жилище
он долго бреется, глядясь в стекло,
которое его не отражает,
и думает: как странно, что лицо
куда непостижимей и надежней
души, которая за ним живет
и отчеканила его с годами.
Вы с ним столкнетесь где-то на развилке,
и ты отметишь: рослый, седовласый
и как чужак глядит по сторонам.
Неведомая женщина, скучая,
ему предложит скоротать закат
в каком-то зале за дверьми. Мужчина
подумает, что вспомнятся потом,
через года, у Северного моря,
ночник и штора, только не лицо.
И в этот вечер он увидит въяве
на белом фоне для былых теней
цепь конных на эпических просторах,
поскольку Дальний Запад вездесущ
и отражается во сне любого,
хотя он там ни разу не бывал.
Во многолюдном мраке человек
поверит, что вернулся в город детства,
и удивится, выходя в чужой,
к чужим словам и под чужие звезды.
Перед кончиной
любому будет явлен ад и рай.
Мой ад и рай – в тебе, Буэнос-Айрес,
а ты для чужака моих видений
(каким я сам бывал под чуждым небом) —
лишь вереница тающих теней,
которые обречены забвенью.
Читающему эти строки
Неуязвимый. Разве не дана
тебе числом, всевластным над судьбою,
уверенность, что все мы станем прахом?
Река времен, в которой Гераклит
увидел символ быстротечной жизни,
тобой не правит? Мрамор ждет тебя,
но не прочтешь ты надписи на нем:
ни города, ни дат, ни эпитафий.
Сны времени – вот люди на земле,
не бронза и не золото их плоть.
Подобен мир тебе, а ты – Протею.
Ты тень и отойдешь в иную тень,
ведь неизбежный ждет тебя закат;
подумай: разве ты уже не мертв?
Алхимик
Юнец, нечетко видимый за чадом
И мыслями и бдениями стертый,
С зарей опять пронизывает взглядом
Бессонные жаровни и реторты.
Он знает втайне: золото живое,
Скользя Протеем, ждет его в итоге,
Нежданное, во прахе на дороге,
В стреле и луке с гулкой тетивою.
В уме, не постигающем секрета,
Таимого за топью и звездою,
Он видит сон, где предстает водою
Все, как учил нас Фалес из Милета,
И сон, где неизменный и безмерный
Бог скрыт повсюду, как латинской прозой
Геометрично изъяснил Спиноза
В той книге недоступнее Аверна…
Уже зарею небо просквозило,
И тают звезды на восточном склоне;
Алхимик размышляет о законе,
Связующем металлы и светила.
Но прежде чем заветное мгновенье
Придет, триумф над смертью знаменуя,
Алхимик-Бог вернет его земную
Персть в прах и тлен, в небытие, в забвенье.
Один из многих
Старик, почти что сношенный годами,
старик, уже не ждущий даже смерти
(нас убеждают цифрами смертей,
но каждый втайне думает, что первый,
единственный, окажется бессмертным),
старик, наученный благодарить
за нищенскую милостыню будней:
сон, обиход привычек, вкус воды,
блеск этимологической догадки,
строку латинян или древних саксов,
ее припомнившееся лицо,
но через столько лет,
что время растворило даже горечь,
старик, постигший, что в любом из дней
грядущее смыкается с забвеньем,
старик, не раз обманывавший ближних
и ближними обманутый не раз,
внезапно чувствует на перекрестке
загадочную радость,
исток которой вовсе не надежда,
а может быть, лишь простодушье детства,
она сама или незримый Бог.
Он сознает, что жертва легковерья,
что тьма причин – страшнее всяких тигров! —
согласно коим он приговорен
поныне и навеки быть несчастным,
и все-таки смиренно принимает
миг радости, нежданную зарницу.
Должно быть, в нас и после нашей смерти,
когда и прах уже вернется в прах, —
останется все тот же непонятный
росток, в котором снова оживет
неумолимый или безмятежный,
неразделенный ад наш или рай.
Everness[17]17
Извечность (англ.).
[Закрыть]
И ничему не суждено забыться:
Господь хранит и руды, и отходы,
Держа в предвечной памяти провидца
И прошлые и будущие годы.
Все двойники, которых по дороге
Меж утреннею тьмою и ночною
Ты в зеркалах оставил за спиною
И что еще оставишь, выйдут сроки, —
Все есть и пребывает неизменно
В кристалле этой памяти – Вселенной:
Сливаются и вновь дробятся грани
Стены, прохода, спуска и подъема,
Но только за чертою окоема
Предстанут Архетипы и Блистанья.
Ewigkeit[18]18
Вечность (нем.).
[Закрыть]
Хочу кастильским выразить стихом
Ту истину, что со времен Сенеки
Завещана латынью нам навеки,
О том, что червь заполонит наш дом.
Хочу восславить трепетную персть,
Расчет холодный и анналы смерти;
Извечной госпожи побед не счесть
Над всей тщетой, что сгинет в круговерти.
Но нет. Все, что из глуби бренной ила
Благословлял я прежде без прикрас,
Не властна вымыть никакая сила;
Обволочется вечностью тотчас,
Едва исчезнув, все, что было мило:
Закат, луна и этот дивный час.
Эдип и загадка
Четвероногий поутру, двуногий —
Днем и о трех ногах – порой заката, —
Так вечный сфинкс изменчивого брата
Себе воображал, и на дороге
Закатной он увидел человека,
Который, стоя перед жутким дивом,
В нем угадал, как в зеркале правдивом,
Все, что ему начертано от века.
Эдипы мы и вместе с тем – тройная
Загадка во плоти, соединяя
Себя былых с тем, кем когда-то будем.
Мы б умерли, представ перед своею
Глубинной сутью, но Господь, жалея,
Забвение и смену дарит людям.
Спиноза
Почти прозрачны пальцы иудея,
Шлифующего линзы в полумраке,
А вечер жуток, смертно холодея.
(Как этот вечер и как вечер всякий.)
Но бледность рук и даль, что гиацинтом
Истаивает за стенами гетто, —
Давно уже не трогает все это
Того, кто грезит ясным лабиринтом.
Не манит слава – этот сон бредовый,
Кривляющийся в зеркале другого,
И взгляды робких девушек предместья.
Метафоры и мифы презирая,
Он точит линзу без конца и края —
Чертеж Того, Кто суть Свои созвездья.
К Испании
Неподвластная символам,
неподвластная помпе и праху празднеств,
неподвластная куцему зренью филологов,
находящих в истории нищего дворянина,
который грезил о Дон Кихоте и стал им в конце концов,
не веселость и дружелюбие,
а гербарий старинных форм и собрание поговорок, —
ты, молчащая наша Испания, в каждом из нас.
Испания диких быков, обреченных рухнуть
под топором или пулей
на закатных лугах где-нибудь в Монтане,
Испания, где Улисс спускался в царство Аида,
Испания кельтов, иберов, карфагенян и римлян,
Испания твердых вестготов,
питомцев Севера,
по складам разобравших и перезабывших писанья Ульфилы,
пастуха народов,
Испания магометанина и каббалиста,
Испания «Темной ночи»,
Испания инквизиторов,
несших каждый свой крест палача
и только поэтому не оказавшихся жертвами,
Испания той пятивековой авантюры,
что открыла моря, стерла кровавые царства
и продолжается здесь, в аргентинской столице,
этим июльским утром шестьдесят четвертого года,
Испания дикой, обрывающей струны,
а не нашей тихони-гитары,
Испания двориков и балконов,
Испания стесанных верой камней в пещерах и храмах,
Испания братьев по чести и дружелюбью,
храбрецов без расчета, —
мы можем увлечься другими,
можем забыть тебя, как забываем себя вчерашних,
потому что ты неразрывна с нами,
с потайными пристрастьями крови,
со всеми Суаресами и Асеведо моей родословной,
Испания, мать потоков, клинков и бесчисленных поколений,
неистощимый родник, единственная судьба.
Элегия
Быть Борхесом – странная участь:
плавать по стольким разным морям планеты
или по одному, но под разными именами,
быть в Цюрихе, в Эдинбурге, в обеих Кордовах разом —
Техасской и Колумбийской,
после многих поколений вернуться
в свои родовые земли —
Португалию, Андалусию и два-три графства,
где когда-то сошлись и смешали кровь датчане и саксы,
заплутаться в красном и мирном лондонском лабиринте,
стареть в бесчисленных отраженьях,
безуспешно ловить взгляды мраморных статуй,
изучать литографии, энциклопедии, карты,
видеть все, что отпущено людям, —
смерть, непосильное утро,
равнину и робкие звезды,
а на самом деле не видеть из них ничего,
кроме лица той девушки из столицы,
лица, которое хочешь забыть навеки.
Быть Борхесом – странная участь,
впрочем, такая же, как любая другая.
Богота, 1963
Adam cast forth[19]19
Адам отныне изгнан (англ.).
[Закрыть]
Тот райский сад был грезой или былью?
Ответа жду за обступившей мглою,
Как утешенья: не было ль былое
(Владение Адама, нынче – пыли)
Лишь мыслью мне навеянного снами
Творца? Столетия бегут, стирая
Из памяти далекий отсвет рая,
И все ж он был, и есть, и будет с нами,
Пусть не для нас. Нам суждено иное:
Земля, где Каины идут войною
На Авелей, все ту же сея смуту.
Но знаю: есть бесценная отрада —
Узнать любовь и тем коснуться Сада
Нетленного хотя бы на минуту.
Одной монете
В холодный ненастный вечер я отплыл из Монтевидео.
И когда обогнули Серро,
я бросил с верхней палубы
монету, которая, блеснув, утонула в мутных водах, —
кусочек света, унесенный временем и тьмой.
Я почувствовал, что совершил непоправимый поступок,
добавив в историю планеты
два непрерывных, параллельных и почти бесконечных ряда:
один – мой путь, сотканный из любви, тревог и превратностей судьбы,
и второй – путь того металлического диска,
что воды уносят в мягкую бездну
или в далекое море, которое до сих пор разъедает
останки саксов и финикийцев.
Каждый миг моей жизни наяву и во сне соотносится с участью слепой монеты.
Порой я чувствую раскаяние,
порой завидую —
тебе, как и мы, идущей сквозь века в своем лабиринте,
но об этом не ведающей.
Еще раз о дарах
Благодарение нерукотворному
Лабиринту причин и следствий
За многоликость
Этого дивного мира,
За разум, которому вечно снится
План собственного лабиринта,
За красоту Елены и упорство Улисса,
За любовь, дарящую нам другого,
Каким его видит Создатель,
За непокорный алмаз и послушную воду,
За алгебру, этот чертог скрупулезных кристаллов,
За таинственные монеты Ангелуса Силезиуса,
За Шопенгауэра,
Почти постигшего мир,
За блеск огня,
На который никто не в силах смотреть без тайного страха,
За каобу, кедр и сандал,
За хлеб и за соль,
За таинство розы,
Цветоносной и неразличимой,
За несколько дней и ночей 1955 года,
За не знающих сноса парней, гоняющих по равнине
Табуны и рассветы,
За утро в Монтевидео,
За искусство дружбы,
За часы перед смертью Сократа,
За слова, долетевшие в сумерках
От распятья к распятью,
За сон Востока длиною
В тысячу и одну ночь
И за другой – о геенне,
Очистительной огненной башне
И райских высотах,
За Сведенборга,
Говорящего с ангелами на лондонском перекрестке,
За тайные и позабытые реки,
Слившиеся во мне,
За язык, на котором столетья назад говорили в Нортумбрии,
За меч и арфу древнего сакса,
За море – пылающую пустыню
И тайнопись мира, которого не позна́ем,
За музыку британской речи,
За музыку немецкой речи,
За золото, переливавшееся в стольких стихах,
За эпику той зимы,
За название непрочитанной книги «Gesta Dei per francos»[20]20
«Деяния Господа через франков» (лат.).
[Закрыть],
За Верлена с его голубиным нравом,
За стеклянную призму и бронзовый разновесок,
За полосы тигровой шкуры,
За небоскребы Манхэттена и Сан-Франциско,
За утро в Техасе,
За севильца, сочинившего «Поучительное посланье»
И предпочевшего остаться в веках безымянным,
За кордовцев Сенеку и Лукана,
До испанских грамматик уже создавших
Испанскую литературу,
За геометрию и причудливость шахмат,
За черепаху Зенона и атлас Ройса,
За аптечный запах эвкалипта,
За язык, притворяющийся знаньем,
И забвенье, которое рушит и преображает былое,
За привычки,
Зеркала, которые нас передразнивают и подтверждают,
За утро с его иллюзией первоначала,
За ночь, ее мрак и созвездья,
За храбрость и счастье других,
За родину, скрытую в этом жасмине
И старой сабле,
За Уитмена и Франциска, уже написавших главные строки,
За то, что строки неистощимы
И их – по числу живущих,
А последней не будет вовеки,
И каждая неповторима,
За Фрэнсис Хейзлем, просящую у родных прощения,
Что никак не умрет,
За мгновения перед сном,
За сон и за смерть,
Эти два сокровенных клада,
За дорогие дары, которых не перечислил,
За музыку, этот загадочный образ времени.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?