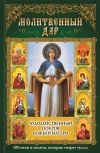Текст книги "Русская литература XIX–XX веков: историософский текст"

Автор книги: И. Бражников
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
1.5. «Открытый Апокалипсис» и контроль над будущим
Утопизм, понимаемый широко, «архетипически» как мечта об утраченном рае, можно представить неизбывным свойством человеческого существа с начала земной истории. Утопия Нового времени имеет два главных источника, которые условно можно обозначить как «античный» и «христианский». Это, во-первых, заново открытые и «переписанные» античные мифы о золотом веке, а также прочитанные и переосмысленные платоновские диалоги «Государство», «Тимей», «Критий». Во-вторых, это особым образом истолкованные тексты Священного Писания, прежде всего – книги пророка Даниила и Апокалипсис Иоанна Богослова. Отчасти мы касались этого вопроса.
Особенно следует отметить фрагмент Откровения Иоанна, где говорится о тысячелетнем царстве праведников: «И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет» (20:1–5).
Это место, понятое буквально, уже в первые века христианства вызывало апокалиптические настроения и теории. Некоторые из них были признаны еретическими, другие остались в виде «теологуменов» как часть церковного предания. Собственно, хилиазм можно считать первой утопией на христианской почве. Это понятое в чисто земном смысле чаяние «жизни будущего века» – мечта о построении Царства Божия на земле. Хилиастические чаяния ранних христиан прекратились только с наступлением эпохи Вселенских соборов, и сам хилиазм, которому в разной степени сочувствовали многие отцы и учителя раннего христианства, такие как Иустин Философ, Ипполит Римский, Ириней Лионский, Коммодиан, Сульпиций Север, Лактанций и другие, был осужден на II Вселенском соборе как ересь. Хилиастическое творчество было остановлено только благодаря прекращению гонений и отождествлению империи Константина, второго Рима, с «тысячелетним царством» во главе с «удерживающим» Императором-Христом. «Третий Рим» был закономерным продолжением – концепцией, наследовавшей данной традиции.
Хилиазм возрождается в XII в. в отделившейся и переосмыслившей принцип империи Римо-католической церкви. В этой связи важно упомянуть теократическую утопию цистерцианского монаха Иоахима Флорского (ок. 1132–1202 гг.) и францисканских монахов-спиритуалистов, предсказывавших близкий конец мира и наступление Царства Святого Духа, которое они называли «веком свободы»89. Иоахим Флорский провозглашал наступление эпохи Святого Духа с 1260 г., основываясь на Апокалипсисе 11:3 и 12:6, где говорится о «тысяча двухсот шестидесяти днях». Таким образом, Царство Божие на земле относилось в ближайшее будущее, следовательно, признавалось то, что оно не было воплощено во время рождества и земной жизни Спасителя мира. По сути, здесь начинается «постконстантиново» богословие, в котором возрождается апокалиптизм раннего христианства, усложненный влиянием «раввинистической схоластики»90. В учении францисканцев просматриваются и социально-утопические черты. Расцвет апокалиптизма приходится на конец XV – начало XVI в. Реформация в Германии имела отчетливо выраженные апокалиптические устремления91, а у радикальных протестантов, таких как коммунисты Томаса Мюнцера, анабаптисты, индепенденты в Англии и далее многие американские харизматические секты – мормоны, адвентисты 7-го дня и т. д., апокалиптизм становится основой учения и соединяется с элементами социального утопизма. Вообще апокалиптизм и социальный утопизм становятся в радикальном протестантстве нераздельными. Это оказывает влияние на своеобразную «эсхатологию Просвещения» (см. 1.8.).
После Великой Французской революции следы хилиазма отчетливо просматриваются у французских социалистов-утопистов и в марксизме. Элементы хилиазма входят так или иначе практически во все новоевропейские утопии – от Томаса Мора до русских поэтов-новокрестьян и романов-антиутопий XX в.
Таким образом, мышление утопическое и мышление эсхатологическое, если и не пересекаются, то как-то соотносятся. Можно сказать, что утопия – это «превращенная форма» эсхатологии. Но важнее отметить, чем они принципиально расходятся.
Принципиальная разница между утопическим и эсхатологическим дискурсами заключается в том, что в эсхатологии нет будущего времени. Утопия же всегда является и ухронией, то есть она моделирует как пространство, так и время. П. Л. Бергер, исследуя ключевые характеристики современности, отмечал «глубокое изменение темпоральной структуры человеческого восприятия, в рамках которой будущее становится главной ориентацией не только воображения, но и деятельности… темпоральность, в пределах которой это будущее воспринимается – совершенно особого рода. Она поддается измерению и, по крайней мере, в принципе подвержена человеческому контролю. Короче говоря, это время, которое нужно подчинить себе»92.
Иными словами, проективный разум Модерна, отвергнув целомудренную откровенность истории, поставил апокалиптическое упование на возвращение земного рая в качестве реальной цели для будущего, сделал утопию проектом, чертежом, до которого необходимо «дотягивать» реальность.
Важно отметить, что Апокалипсис не утопия, это – пророческая книга. Пророческое слово, возвещающее Божественную волю о судьбах мира, – нечто принципиально иное, нежели человеческая мечта о будущем. Апокалипсис вообще неверно относить только к будущему. Пророчество не моделирует будущее (напротив, оно мыслит будущее уже состоявшимся, завершенным и вполне определенным), и потому оно, прежде всего, видоизменяет настоящее. В каком-то смысле апокалипсис всегда «now», и апокалиптические события разворачиваются одновременно в разных исторических эпохах – везде, где есть Церковь и ее метаисторическая схватка с древним змием, «который есть диавол и сатана» (Отк. 2:2). Пророческое слово царствует над временем, а не подчинено ему. Потому и невозможно «подогнать» время под апокалипсис, тогда как в утопии происходит именно «подгонка» реальности настоящего под заранее найденный ответ «будущего».
Настоящее в эсхатологии всегда открыто, не завершено и принципиально непроектируемо. Апокалипсис, в отличие от замкнутой в себе и завершенной утопии, всегда вершится, о чем писал в свое время Ж. Деррида: «Конечный смысл истории не подлежит обнажению, так как лишает историю непроницаемости и делает ее объектом сознания; но он не подлежит разоблачению еще и потому, что он уже открыт. То, что апокалиптическая истина существует в виде откровения, которое, разумеется, как открывает, так и скрывает истину конца, и есть наилучшее выражение открытого состояния истории, и «наступление» конца есть всегда дело настающего – будущего»93.
Апокалиптику, таким образом, можно считать промежуточной формой между эсхатологией и утопией. Эсхатология в Новое время становится утопией через апокалиптику.
1.6. Утопизм и апокалиптизм в церковном расколе XVII в.
XVII в. проблематизирует смысловое единство русского ИТ. В Европе, пережившей уже волны Реформации и Контрреформации, в этот период утверждаются политические нации, наступает эпоха, называемая в социальной истории как эпоха «Modernity» – Современность. Об этом как-то до сих пор не принято писать, но совершенно очевидно, что в России происходят аналогичные процессы, и применительно к русскому XVII столетию термин «Модернити» (далее – Модерн) вполне оправдан и продуктивен в исследовательском отношении. Это мы сейчас и намерены показать.
Прежде всего, в 1598 г. прекращается династия Рюриковичей, которая обеспечивала единство и преемственность русской истории на протяжении семи с половиной веков. Начинается Смута, из которой Россия выходит уже другой. Но происходит не просто смена одной династии другой. Происходит апокалипсис русской истории. Уже второй апокалипсис, если считать первым татарское нашествие (см. 1.3.). Итогом первого было обретение царства. Характерная черта нового апокалипсиса – «отнятие» Царства. Если посмотреть на события глазами книжного человека той эпохи, то богоданное эсхатологическое Царство сменяется «восстановленным», рукотворным, человеческим государством. Оно утверждается Земским Собором 1613 г., и – хотим мы того или нет – в сущности, избрание царя в данном случае незначительно отличается от демократической процедуры выборов, несмотря на все соборные формулы и клятвы, бывшие данью традиции. Иначе и быть не может: Бог отнял Царство вместе с последним царем, так как Царство и Царь (династия) нераздельны, соотносясь как удерживающее и удерживающий (tό kat έcon и ὁ κατέχων в послании ап. Павла Солунянам), или как Святой Дух (Богородица) и Христос.
«Бог дал – Бог взял». Новое царство утверждается по «многомятежному человеческому хотению». И «многомятежность» эта проявит себя – и в XVII в. («бунташном»), и в XVIII в. (веке «дворцовых переворотов»).
События 1598–1613 гг. в России вполне уместно назвать революцией. Борис Годунов не был «природным» царем, что и вызвало в конечном итоге борьбу с ним и с его попытками закрепить трон за своими наследниками. Романовы были легитимны, но не были «богоизбранными», «природными» царями по существу, несмотря на грамоту «О природном государе Михаиле Романове», принесенную на собор донским атаманом и решившую исход дела в пользу будущей династии. Это событие показывает, как меняются (модернизируются) представления о природе царской власти.
«Именно в это время появляются понятия «праведный» и «неправедный» царь. Под первым понимался «справедливый» и «правильный» государь. При этом противопоставление «праведного» и «неправедного» царя зачастую принимало характер противопоставления подлинного (истинного) и неподлинного (ложного) царя»94.
Различение «истинного» (подлинного) и «ложного» (неподлинного) относится к одному из фундаментальных признаков Модерна. Модерн – это своего рода «диктатура подлинного». Поэтому когда в начале XVII в. все большее распространение получает воззрение, согласно которому сущность власти царя узнается по ее делам – мы, несомненно, имеем дело уже с модернизированным институтом власти95. Новая выборная монархия как форма политического правления была ближе к современному институту президентства, хотя монарх и обладал всеми внешними атрибутами царя. Избранный царь – это инновация XVII в. Земский собор не мог не реконструировать царство (иной политической формы представить или изобрести тогда просто не могли), но это была именно реконструкция, обусловленная особенностями русского ИТ. Реконструктивность же (стремление, восстановить утраченное – то, что раньше воспроизводилось «само по себе») также ключевой признак Модерна96. В дальнейшем (при позднем Алексее Михайловиче и в особенности при Петре I) эта реконструированная монархия, порывая с зависимостью от соборов, с неизбежностью развивается в абсолютизм.
Вплоть до начала XX в. в русском ИТ никакого иного значения для власти, кроме царского, имперского, просто не существует. Поэтому любая власть, которая в очередной раз вновь учреждает (восстанавливает) Россию (последние примеры еще свежи в памяти), с неизбежностью будет обрастать признаками державности. Вне этих значений ИТ обессмысливается: русская история лишается смысла, и начинается очередной «апокалипсис». Забегая вперед, можно предположить, что по той же причине красногвардейцы Блока вдаль идут «державным» шагом, ведь в январе 1918 г. до советской державы было еще очень далеко. Но шаг исторической силы, победившей в России, не может быть никаким другим. Державный, только державный шаг может противостоять ветру и стихии апокалипсиса, хотя таинственно и подчинен ему.
П. Л. Бергер, выделяя ключевые параметры Современности, помимо манипулирования будущим, в числе главных называл также абстракцию и индивидуацию97. Все эти признаки просматриваются как в личностях участников кружка «ревнителей благочестия» (или «боголюбцев»), задумавших реформу Русской Церкви и общества, возвысив их до «подлинного» Третьего Рима, так и в их деятельности. Н. Ф. Каптерев, с именем которого связано первое объективное осмысление проблемы Раскола, отмечал, что после Смуты «русская жизнь… стала понемногу сдвигаться со своих старых дедовских основ и устоев, стала… искать новых путей…»98. Одни видели причину всех бед в «низкой народной нравственности» и желали «нравственно перевоспитать общество», другие желали исправления чинов и обрядов, третьи стремились к внедрению просвещения и научных знаний, четвертые – к заимствованию западных обычаев99. Выделение нравственности как особой сферы как раз и является прямым следствием абстрагирования и индивидуации. В кружок боголюбцев в разное время входили протопопы Иван Неронов, Аввакум, Даниил, Логгин, поп Лазарь, примыкал к нему будущий патриарх Никон, возглавлял же его духовник царя протопоп Стефан Вонифатьев. Дальше, как известно, мнения бывших единомышленников разделились, и произошел Раскол: у нас впервые появились «древние» и «новые», первые встали на защиту «старины» – русской традиции, как они ее понимали, вторые – приняли никонову реформу, или «никоновы новины», как выражались староверы.
При этом традицию обе стороны понимали уже утопически – и те, кто хотел «исправить» и «улучшить» ее, и те, кто хотел «сохранить». Элементы утопизма несложно увидеть в деятельности «боголюбцев». Царство, подданными которого они являлись, в их представлении, не было «подлинным» Третьим Римом. Третий Рим понимается ими уже утопически, как проект, как задание на будущее. «Раскол не старая Русь, но мечта о старине… И вместо «голубого цветка» – полусказочный Китеж», – отмечал прот. Георгий Флоровский100.
Выделение «ревнителей» как зачинателей первой русской модернизации, несомненно, может вызывать возражения. В частности, следующее: разве их нравоучительность не была традиционной чертой церковной культуры?
Действительно, обличительная, поучительная, учительная литература – неотъемлемая часть русской письменной традиции. Можно вспомнить в этой связи и «Поучение Владимира Мономаха», и «Моление Даниила Заточника», и многие другие произведения. Вообще социальный критицизм – важная часть христианского учения, в чем можно убедиться на примере проповедей Иоанна Златоуста, чрезвычайно ценимых на Руси. Характеризуя творчество арх. Дионисия, стремившегося подражать Залатоусту, С. А. Зеньковский отмечал, что «Троице-Сергиевский архимандрит так же, как и сам Златоуст, прежде всего сам мечтал о создании подлинного христианского общества, боролся за высокую нравственность мирян и духовенства и высоко ставил те чувства христианского страдания и солидарности, которые теперь можно было бы назвать христианской социальностью»101. Однако важно понимать: и архимандрит Дионисий, и Максим Грек, который был его наставником, ориентировались на традицию учительного слова, а поучение как жанр и, с другой стороны, требование исправления богослужебных книг и общественных нравов как попытка прямого воздействия на общество – это явления почти противоположные. Иоанн Златоуст не пытался подчинить общество себе, как это было свойственно представителям католической церкви, особенно в эпоху Ренессанса. С. А. Зеньковский отмечает, что духовным учителем Максима Грека был Савонарола102, и Савонаролу же по методу, силе обличения нравов очень напоминал основоположник кружка «боголюбцев» Иван Неронов103. Любому непредвзятому исследователю ясна разница между методами воздействия на общество святителя Иоанна, одного из вселенских отцов и учителей, и трагического героя эпохи позднего Средневековья, сжигавшего на костре «греховные» произведения своих современников.
Жанр поучения предполагает пассивное внимание, наставляемое лицо, читающее строки или слушающее, уже исправляется самимсловом. Ведь исправление не человеческих рук дело. В деятельности же ревнителей и в особенности патриарха Никона заметно стремление создать нравственный идеал и подчинить ему будущее: человека подчинить церковной дисциплине, государство – церковной иерархии и канонам, а царя – патриарху. Взгляды Никона характеризуются исследователями как «теократическая утопия»104. Но и взгляды кружка ревнителей в целом определяют как «теократический хилиазм»105. У протопопа Ивана Неронова «моралистическая карьера проповедника» (по анахроническому и, тем не менее, точному выражению С. А. Зеньковского106) начинается с того, что он увещевает ряженых, по старинному обычаю, весело проводящих предрождественские дни. То есть он сразу, с самого начала своей деятельности выступает против традиционного образа жизни с позиций жесткого морального ригоризма. «Неронов как бы рвет с традицией (курсив мой – И. Б.) и ищет спасения, спасая других…», он открывает «новый стиль русского подвижничества и религиозной деятельности, направленной… на улучшение жизни церкви…»107.
Таким образом, в конце 20-х – начале 30-х гг. XVII в. на защиту православной традиции в России стали люди, действующие уже «обкатанными» в католичестве модернистскими методами – абстрактного морализирования (общая проповедь) и индивидуации (индивидуальная исповедь). Зависимость нравственности от индивидуальной исповеди была ясна в частности Вольтеру, который отмечал недостаток того и другого даже в петровской России – несомненно уже сильно продвинутой в данном отношении по сравнению с реалиями XVI века.
Патриарх Никон, как и его визави протопоп Аввакум, вышел из кружка ревнителей благочестия. Они расходились не в целях (и тот, и другой стремились к большему «оцерковлению» общества), а скорее в методах. И тот, и другой разделяли апокалиптизм своей эпохи. Строительство Нового Иерусалима, куда уже вот-вот должен сойти Христос (как бы бегство Апокалиптической жены, отождествляемой с Церковью, из Рима-Москвы), было именно утопическим чаянием. Но и противники Никона, видевшие в нем Антихриста, несомненно, смотрели вперед под знаком апокалипсиса. «А инаго уже отступления нигде не будет, везде бо бысть, последняя Русь зде, и то от часа сего на горшее происходити будет царьми нечестивыми. То суть рози антихристовы, ими силно дело все отступническое, без тех же немощно», – пишет дьякон Федор108. Мы снова видим характерные признаки русского ИТ: Русь названа «последней» перед окончательным отступлением человечества от Христа, которое уже происходит, и теперь только час от часу будет горше, поскольку грядут «нечестивые цари» – те самые «роги антихристовы», о которых сообщает Апокалипсис (Откр. 17:3–18). Будущего нет, оно уже наступило; Русь еще «здесь», еще держится, но скоро отойдет в прошлое и скроется, как Китеж.
1.7. Пространство и время в «Повести и взыскании о граде сокровенном Китеже»
Одной из первых русских утопий является, вне всякого сомнения, легенда о граде Китеже. В ней можно увидеть переход от эсхатологического дискурса к утопическому. Традиционно в легенде выделяют две части. Разорение Батыем Малого Китежа и гибель князя Георгия Всеволодовича, имеющие под собой историческую основу, относятся к эсхатологической части легенды, связанной со «Сказанием о погибели Земли Русской» и летописными рассказами о татарском нашествии, в которых татары предстают апокалиптическим народом, выпущенным на малое время, чтобы карать за грехи (см. 1.3.). Батый описан как «нечестивый царь», что на языке того времени могло соотноситься или с одним из «голов» зверя, или с самим зверем-Антихристом: «Попущением Божиим грѣх ради наших прииде на Русь воевати нечестивый и безбожный царь Батый. И разоряше грады и огнем пожигаше, церкви Божия такоже разоряше и огнем пожигаше же. Людей же мечю предаваше, а младых дѣтей ножем закалаше, младых дѣв блудом оскверняше. И бысть плач велий»109.
Вторая часть легенды – «Повестъ и взыскание о граде сокровенном Китеже», как отмечают комментаторы, «лишена всякого исторического фона, она принадлежит к типу легендарно-апокрифических памятников, трактующих о земном рае. Образ «сокровенного» града Китежа стоит где-то посредине между «земным раем» древнейших русских апокрифов и Беловодьем, легендарным счастливым краем, ставшим столь популярным среди русских крестьян в XVIII в.» [5, с. 481].
Действительно, поиски земного рая – важная составляющая древнерусской эсхатологической литературы, которую, наряду с апокалиптикой, также можно считать одним из источников будущих утопий. Известно, например, послание Василия Новгородского Федору Тверскому о рае. Василий Новгородский оспаривает мнение, что рай существует лишь мысленно (то есть «духовно»): «А что, брате, молвишь: «Рай мысленый», ино, брате, такъ то и есть мысленый и будет, а насаженый – не погыблъ, и нынѣ есть. На нем же свѣтъ самосияненъ, а твердь запята есть до горъ техъ раевых» [6, с. 46]110. То есть для автора послания земной («насаженный») рай существует не мысленно, он реален, здесь и сейчас, в нем свет светит самосветящийся, а твердь его недоступна людям, которые могут дойти только до райских гор. Для автора же «Повести…» Китеж-град (метафора рая) полностью мысленен, «духовен»: «И сей град Большой Китеж невидим стал и оберегаем рукою Божиею, – так под конец века нашего многомятежного и слез достойного покрыл Господь тот град дланию своею. И стал он невидим по молению и прошению тех, кто достойно и праведно к нему припадает, кто не узрит скорби и печали от зверяантихриста» [5, с. 181]111. Китеж становится символом духовного, невидимого мира, в который надлежит «бежать» желающему спастись человеку. Причем для автора «Повести» этот невидимый мир получает и временное измерение как чудесное прошлое, в которое происходили самые невероятные вещи: «яко бысть много в прежняя времена сего» [5, с. 182]. Китеж становится символом утраченного царства, Третьего Рима, путь в который теперь осилит только истово верующий и желающий спастись.
При этом реальность Китежа несомненна для автора, хоть она и отстоит во времени. Это «барочная» утопия, где действуют три времени. Во-первых, идеальное царство, царство святых, которое отнесено из настоящего в «прежняя времена». Во-вторых, апокалиптическое будущее: царство проявится в «последнее время», «на конец века»: «И невидим будет Больший Китежь даже и до пришествия Христова» [5, с. 177]. Таково, по мнению Р. Рахматуллина, назначение большинства барочных вещей – таких как Царь-пушка, царь-колокол и другие. Китеж-град, сработанный по наказу князя Георгия, оказывается такой же «вещью последнего времени»112. Настоящее же, в-третьих, присутствует в легенде как «трудный путь» к обретению царства – труд, который может быть вовсе безуспешным: Китеж для многих так и останется невидимым, недостижимым. И это тоже черта барокко: «Барочного работника подстерегает странный фатум. Его труд без успеха. Труд повторений – и притом линейный. Труд длительный, когда не бесконечный, и бесконечность его кажется дурной»113. Таким образом, ИТ текст осваивает новые смысловые категории: «прежние времена» и «труд». Эти понятия в дальнейшем будут существенны для романтической (консервативной) и социалистической утопий. В последней «избавление» (эсхатологическое понятие) от непосильного и бесконечного труда будет видеться в социальной революции, синонимичной апокалипсису.
Сокрытие Китежа происходит «под конец века нашего многомятежнаго». Этот конец уже наступил, поскольку в московском царстве воцарился Антихрист [5, с. 181].
Для традиционного автора древнерусских текстов будущее всегда эсхатологично – настоящее прямо ведет к апокалипсису и Страшному суду. Но здесь все немного иначе. Будущее уже почти наступило, Антихрист воцарился, остался «последний акт» – пришествие Христа. Но поскольку «последний акт» откладывается, будущее как бы растягивается в дурную бесконечность настоящего, исполненную долгого и, скорее всего, бессмысленного, безуспешного труда. Это и есть господство «духовного антихриста». Ясно, что освобождение от этого рабства и гнета бесконечного труда вскоре будет представляться как именно социальная революция, подлинный апокалипсис.
Другое отличие «Повести и взыскания…» от традиционных текстов в особой позиции по отношению к прошлому. «Утраченный рай» выступает тут в качестве архетипа, и Китеж метафорически выражает рай. Но это не рай в буквальном смысле (что опять-таки выделяет Китежскую легенду из ряда традиционных текстов), а это «прежняя времена» – целая историческая эпоха, эпоха Московского царства, осознающаяся как безнадежно утраченная, прошедшая. Лишь немногие и через особый подвиг способны отыскать путь в царство, ставшее невидимым, «духовным».
Подобной же «китежской» барочной логикой, несомненно, руководствуется и патриарх Никон, который строит свой одновременно апокалиптический и утопический Новый Иерусалим для принятия Христа, как бы «выводя» святость из Москвы – из земного царства в «истинное»114. Никон «манипулирует будущим», что, как мы указали, является одним из ключевых признаков Современности.
«А иже хотящаго и желающаго спастися подобает бѣжати мира и сласти его. Еже рече той Иоанн, провидѣ Духом Святым, яко жена побѣжит въ пустыню, и змий гоняше в слѣд ея, иже и совращает с праваго пути хотящаго жити смиренъным и духовным путем» [5, с. 178]. В этой интерпретации «вечного» сюжета русского ИТ об Апокалиптической жене заметно присутствие фактора индивидуации: змей угрожает не всей полноте церкви-жены, а «хотящего жити» смиренно и «духовно». Так появляется нововременное представление об особой «духовной» жизни индивида. Духовный индивид, подобно жене, должен бежать от мира, подчинившегося зверю. Именно в этой же логике Никон бежит из Москвы в свой Новый Иерусалим. Но и в русском беспоповском старообрядчестве возрождаются те же представления ранних христианских и даже пред-христианских общин.
Вместе с тем есть разница между западноевропейской и русской утопиями, возникающими в одно время. С одной стороны – «Новая Атлантида», с другой – град Китеж; Атлантида «всплывает», Китеж уходит на дно. С одной стороны – «место, которого не существует» (остров Утопия, Город Солнца), с другой – существующая и вполне конкретная реальность Третьего Рима, которая переосмысливается как исчезающая, «духовная» и невидимая. Европейские утопии постепенно осуществляются, по ходу превратившись в свою противоположность, а русские «уходят на дно» истории, не завершаясь, оставляя возможность проявиться в «последнее время», в самом конце.
Таким образом, раскол оформляет разность историософских подходов, проводя границу между «древним» пониманием истории в эсхатологической перспективе и ее нововременной утопизацией и идеологизацией.
Начиная с раскола традиционная идея Святой Руси (триединство святой Церкви, священной Власти и Народа Божьего – хранителя православной Веры) распадается на три модернистских идеологии: 1) идеологию святого народа, отдельного и противостоящего государству и «господствующей» церкви (Семен Денисов)115; 2) клерикальную идеологию независимой от государства Церкви, стремящейся к надгосударственному и наднациональному объединению всего Православия («теократическая утопия», патриарх Никон116), и, наконец, 3) идею великого Государства, поглотившего народ и церковь (наиболее репрезентативно сформулировал Феофан Прокопович117, а осуществил Петр I).
Так, довольно независимо друг от друга, эти три идеологии просуществовали весь XVIII и большую часть XIX в., пока конфликт между ними не обострился и не принял в России предреволюционный характер.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?