Текст книги "Проклятые поэты"
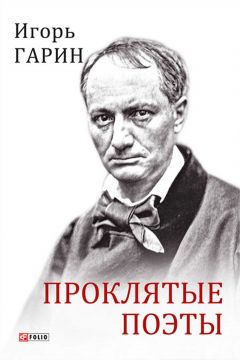
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Т. Готье и Н. Гумилёв
Теофиль Готье потряс Николая Гумилёва родством эстетик, мировоззрения, поэтических систем, «уплотнения» реальности словом. «Жемчуга» Гумилёва во многом «пересекаются» с «Эмалями и камеями», позволив ему, как переводчику, почти полностью «слиться с художественной волей переводимого автора, заговорить с ней в унисон; ему не пришлось делать над собой усилий, чтобы „заразиться“ образностью Готье – он гляделся в нее, как в зеркало».
Перевод «Эмалей и камей» стал программной акцией мэтра акмеизма, объявившего Т. Готье одним из своих предшественников.
Н. Гумилёв:
Еще до 1866 года, когда группа парнасцев открыла свой журнал «Le Parnasse Contemporain» стихами Теофиля Готье, его одного из всех романтиков признавая не только своим, но и maitre’ом, и даже до 1857 года, когда Бодлер, посвящая Теофилю Готье свои «Цветы Зла», назвал его непогрешимым поэтом и совершеннейшим волшебником французской словесности, мнение о безусловной безупречности его произведений разделялось во всех кругах, не чуждых литературе. И несмотря на то что это мнение вредило поэту в глазах толпы, которая считала холодным – его, нежного, застывшим – его, бесконечно жадного до жизни, неспособным понимать других поэтов, его, заключившего в одном себе возможности французской поэзии на пятьдесят лет вперед, он любил настаивать на этом качестве и возводил его в принцип, дразня гусей.
Николай Гумилёв видел в Т. Готье идеал поэта и во всем стремился походить на своего французского учителя, усвоив даже его нелюбовь к музыке. Именно у Теодора Готье Гумилёв обнаружил искомый «холод в красоте», хрустальный стиль и прекрасную ясность. Он называл имя Теофиля Готье среди величайших мировых классиков – Шекспира, Рабле, Вийона, проложивших, по его мнению, пути акмеизму, искусству высших достижений.
Подбор этих имен не произволен. Каждое из них – краеугольный камень для здания акмеизма, высокое напряжение той или иной его стихии. Шекспир показал нам внутренний мир человека; Рабле – тело и его радости, мудрую физиологичность; Вийон поведал нам о жизни, нимало не сомневающейся в себе, хотя знающей все – и Бога, и порок, и смерть, и бессмертие; Теофиль Готье для этой жизни нашел в искусстве достойнейшие одежды безупречных форм. Соединить в себе эти четыре момента – вот та мечта, которая объединяет сейчас между собою людей, так смело назвавших себя акмеистами.
В целом парнасцы, писал Н. Гумилёв, попытались создать синтез романтизма и классицизма, сохранив от первого красочность образов, точность выражений и ритмические нововведения, а от второго – строгое развитие мысли, гармонию образов и объективность, возведенную ими в основной принцип под названием бесстрастия.
Готье, по мнению Гумилёва, освободил метрику от пут догматических «правил», обогатил ритмику и придал первостепенное значение звучанию слова.
Русло стихов Готье глубокое, но пролегает в узких скалах.
Выбор слов, умеренная стремительность периода, богатство рифм, звонкость строки, всё, что мы так беспомощно называем формой произведения, находили в Теофиле Готье ярого ценителя и защитника.
Он последний верил, что литература есть целый мир, управляемый законами, равноценными законам жизни, и он чувствовал себя гражданином этого мира.
В «Эмалях и камеях» он равно избегает как случайного, конкретного, так и туманного, отвлеченного, он говорит о свойствах как явлениях, о белизне, о контральто, о тайном сродстве предметов, черпая образы из всех стран и веков, что придает его стихотворениям впечатление гармоничной полноты самой жизни. И в то же время он умеет не загромождать своих произведений излишними подробностями, пренебрегает импонировать читателю своей эрудицией.
По мнению Г. К. Косикова, Готье и Гумилёва роднят предметность слова, скульптурность и цветовая окрашенность каждого изображения, обилие выразительных декоративных деталей, внутренняя тяга к экзотике:
Подобно Готье, Гумилёв, как правило, не рисует «с натуры», но «прорисовывает», а зачастую и «дорисовывает» готовые образы-топосы, обильно украшая их выразительными декоративными деталями – начиная с хрестоматийного (стилизованного «под Стивенсона») «золота кружев», сыплющегося с «розоватых брабантских манжет» («Капитаны»), и кончая сочным портретом «мэтра Рабле» в «Путешествии в Китай»:
Грузный, как бочки вин токайских,
Мудрость свою прикрой плащом,
Ты будешь пугалом дев китайских,
Бедра обвив зеленым плющом.
«Жемчуга» не знают «неприкрашенной» жизни: у Гумилёва она всегда стремится предстать в том или ином литературном наряде, романтическая живописность которого нарочито подчеркивается, стилизуется.
Укажем, наконец, и на третью черту, сближающую Гумилёва с Готье, – экзотизм (биографически подкрепленный путешествиями в Италию и Африку), «бегство» в иные века и страны – в библейскую старину («Адам», «Потомки Каина», «Сон Адама»), в Древний Вавилон («Семирамида»), в «славянство» («Сказочное», «Охота»), в античность («Возвращение Одиссея», «Варвары»), в эпоху Возрождения («Попугай», «Старый конквистадор», «Капитаны»). Критика уже отмечала, что, стремясь к «реальности, к земному, вещному миру», Гумилёв «жаждал мира в такой необычной степени яркости, какую обыденная действительность дать ему не могла». Вот почему «свою мечту, вычитанную из книг, он превратил в реальность».
«Экзотизм» Гумилёва – это не поза, а глубокая мировоззренческая позиция: испытывая неудовлетворенность наличной действительностью, он стремился найти «такую точку обзора, такую высь птичьего полета, откуда новейшая цивилизация показалась бы мгновенным и не очень значительным эпизодом в необъятном бытии человечества» – характеристика, которую – с некоторыми уточнениями – можно было бы применить и к Готье.
Что еще прельщало в Готье Гумилёва, его лучшего русского переводчика и интерпретатора? Я полагаю, точность изображения внутреннего мира, «живого» сознания, человеческого «я». Потому-то Гумилёв и зачислял Готье в предтечи акмеизма, что видел в нем поэта эйдосов, а не столов, художника-фиксатора душевных движений. Первенство формы над содержанием у Готье и Гумилёва неправильно интерпретировано нашими: речь идет почти об обратном: первичности платоновского эйдоса по отношению к вещи:
Но форма, я сказал, как праздник пред глазами:
Фалернским ли вином налит или водой —
Не все ль равно! кувшин пленяет красотой!
Исчезнет аромат, сосуд же вечно с нами.
Это четверостишие Готье, пожалуй, наисовершеннейшее выражение идеализма Платона.
Но Гумилёв ценил Готье не только за духовность, но и за жизненность, за безудержность раблезианского веселья, радость мысли, заразительную могучесть и художественное бесстрашие.
Он последний верил, что литература есть целый мир, управляемый законами, равноценными законам жизни, и он чувствовал себя гражданином этого мира. Он не подразделял его на высшие и низшие касты, на враждебные друг другу течения. Он уверенной рукой отовсюду брал, что ему было надо, и все становилось чистым золотом в этой руке. Классик по темпераменту, романтик по устремлениям, он дал нам незабываемые сцены в духе поэзии «Озерной школы», гётевского склада размышления о жизни и смерти, меланхолические шаловливые картинки XVIII века.
Жерар де Нерваль
Безумный, он познал безумья высоту…
Жерар де Нерваль
Я безутешен, вдов, на мне печать скорбей,
Я аквитанский принц, чья башня – прах
под терном,
Моя звезда мертва, над лютнею моей
Знак Меланхолии пылает солнцем черным.
Жерар де Нерваль
Лицеистский однокашник Теофиля Готье Лабрюни, известный под псевдонимом Фриц и вошедший в историю французской литературы как Жерар де Нерваль, хотя не относится к поколению прóклятых, в полной мере испил их горькую чашу: сиротство (преждевременная смерть матери, безотцовщина при живом отце, колесившем со своим госпиталем по Европе с наполеоновским войском), крушение юношеских надежд, развал богемного содружества «бузенго», служившего отдушиной в «гнилом болоте», истощивший нервную систему изнурительный труд литературного поденщика, бездомность и безденежье, трагическая любовь и смерть любимой, оставившая в тоскующей душе глубокую, незаживающую рану, постоянное ощущение злого рока, не отпускающего ни на минуту, усиливающийся душевный недуг – все это с какой-то тупой неизбежностью вело пасынка судьбы к трагической развязке. В «Обездоленном», одном из проникновеннейших сонетов, сам поэт, расскажет обо всем этом с пронзительной грустью.
Мне кажется, что отрастивший себе волосы Иисуса поэт ощущал себя человеком подобной судьбы[13]13
Обращаю внимание на родство судеб и самоощущение «распятости» Нерваля и Ницше.
[Закрыть], свидетельством чего является замечательное стихотворение из сборника «Химеры»:
Христос на масличной горе
Бог умер! Высь пуста…
Рыдайте, дети! Вы осиротели.
Жан-Поль
I
Когда затосковал Господь и, как поэт,
К деревьям вековым воздел худые руки,
Казалось – заодно и недруги, и други,
И ни одна душа не дрогнула в ответ,
А те немногие, кому хранить завет,
Кто предвкушал уже грядущие заслуги,
Во сне предательском лежали, как в недуге
И обернулся он и крикнул: «Бога нет!»
Все спали. «Истина, которой вы не ждали?
Коснулся неба я, достиг заветной дали
И навзничь падаю, сраженный наповал.
О бездна, бездна там! Обещанное – ложно!
Отвержен жертвенник и жертва безнадежна…
Нет Бога! Нет его». Но сон торжествовал.
II
Стенал он: «Все мертво! Измерил я впервые
Те млечные пути неведомо куда;
Как жизнь, я проникал в пучины мировые,
Где стыл за мной песок и пенилась вода.
Везде лишь соль пустынь да волны клонят выи
И в гибельную мглу уходят без следа,
Несет дыханье тьмы светила кочевые,
Но дух не обитал нигде и никогда.
Я ждал, что Божий взор навстречу прояснится,
Но встретила меня лишь мертвая глазница,
Где набухала ночь, бездонна и темна, —
Воронка хаоса, зловещие ворота,
За смутной радугой спираль водоворота,
В который втянуты Миры и Времена!»
III
«Неумолимый Рок, бесстрастный сборщик дани,
Страж неизбежности в пылу слепой игры!
От поступи твоей бледнеет мирозданье
И втаптываешь в лед ты звездные костры.
Что безотчетнее тебя и первозданней!
Что слитки солнц тебе! Пустячней мишуры…
Но занесешь ли ты бессмертное дыханье
Из обреченного в рожденные миры?..
Отец мой, жив ли ты в отчаявшемся сыне?
Восторжествуешь ли над смертью, чтобы жить?
И ангел тьмы тебя не сможет сокрушить?
Готов ты выстоять и выстоишь ли ныне?
Мой жребий падает, и тяжек его гнет —
Ведь если я умру, то все тогда умрет!»
IV
Все обреченнее, все глуше и слабее
Звучала исповедь отверженной души.
И смолк он и к тому взмолился, кто в тиши
Единственный не спал под небом Иудеи.
«Иуда! – крикнул он, собою не владея. —
Ты знаешь цену мне и знают торгаши,
Так не раздумывай и дело пореши,
Ведь наделен же ты решимостью злодея!»
Но брел Иуда прочь, пока хватило сил,
В душе досадуя, что мало запросил,
То с угрызеньями борясь, то с опасеньем.
И лишь один Пилат к молениям в саду
Проникся жалостью и, бросив на ходу:
«Связать безумного!» – вернулся к донесеньям.
В литературном наследии Жерара де Нерваля, как и Теофиля Готье, лирика занимает скромное место – он больше известен как переводчик, очеркист, драматург. За перевод девятнадцатилетним поэтом первой части «Фауста» он удостоился похвалы самого автора (вторая часть переведена лишь в 1840 году). Нерваль познакомил французскую публику со многими немецкими писателями – Шиллером, Уландом, Кёрнером, Бюргером, Гейне, Гофманом, Жаном Полем…
Нерваль пробовал силы и в драматургии: хотя его пьесы при жизни не увидели сцены, он стал соавтором нескольких постановок А. Дюма и театральным критиком.
Ранние поэтические опыты Нерваля подражательны и риторичны, однако с начала тридцатых годов он публикует в периодике зрелые стихи, и среди них настоящий шедевр – «Фантазию».
Фантазия
Есть песня, за которую отдам
Всего Россини, Вебера и Гайдна,
Так дороги мне скорбь ее, и тайна,
И чары, неподвластные годам.
Душа на два столетья молодеет,
Едва дохнет та песня стариной…
Век Ришелье. Я вижу, как желтеет
Вечерний свет на отмели речной.
В кирпичном замке с цоколем из камня
Оранжевые отсветы стекла,
В пустынном парке каменные скамьи,
Среди цветов речные зеркала.
А в завитках оконной филиграни
Льняная прядь и темный женский взор —
И, может быть, в ином существованьи
Я видел их… и вижу до сих пор…
Увы, судьба оказалась немилосердной к большому поэту, работает он урывками, ему приходится много колесить по миру – вся Западная Европа, Египет, Сирия, Константинополь, журналистика кормит его, но забирает все силы. В феврале 1841 года – в возрасте Иисуса Христа – на поэта обрушивается беда, приступ тяжелого душевного заболевания. Через год с небольшим поэт теряет самое дорогое, что у него было в жизни, – любимую женщину, Женни Колон, образ которой является центральным в его творчестве. С ней поэт связывал свою мечту о неземной, возвышенной любви и неутоленную тоску по Идеалу.
Спасение от обрушившихся бед Нерваль искал в работе и путешествиях, у него огромные и разнообразные литературные планы, но в 1851-м его сражает новый приступ болезни. Однако и на сей раз он пытается противопоставить безумию все свои интеллектуальные силы, даже сами его (безумия) плоды…
За оставшиеся ему 4 года он успевает опубликовать сборник прозаических миниатюр «Октябрьские ночи» (1852), книгу очерков о различных персонажах из французской истории «Иллюминаты» (1852), «Сказки и шуточные истории» (1852), автобиографическую книгу о молодости «Маленькие замки Богемы» (1853), сборник новелл «Дочери огня» (1854), цикл из 12 сонетов «Химеры» (1854) и, наконец, книгу «Аврелия, или Грёза и Жизнь» (1855); последняя поражает той ясностью ума и трезвым аналитизмом, с которыми Нерваль описывает свои собственные галлюцинаторные состояния, вызванные болезнью. («Разум, под чью диктовку Безумие пишет свои мемуары», – так определил «Аврелию» Т. Готье.)
Болезнь обостряет интерес поэта к таинству жизни, связи жизни и смерти, родству человека со всем Бытием – ко всему тому, что немецкие романтики именовали «стремлением к бесконечности». Нерваля интересует восточная и древняя эзотерика, египетский оккультизм, восточные и средневековые культы, философия пифагорейцев, алхимия, астрология, демонология, животный магнетизм, учение о переселении душ. Возможно, интерес ко всему «потустороннему» лишь приблизил трагическую развязку: утром 26 января 1855 года прохожие обнаружили бездыханное тело поэта, повесившегося на садовой решетке в самом центре Парижа…
Он прожил жизнь свою то весел, как скворец,
То грустен и влюблен, то странно беззаботен,
То – как никто другой, то – как и сотни сотен…
И постучалась Смерть у двери, наконец.
И попросил ее он обождать немного,
Поспешно дописал последний свой сонет,
И после в темный гроб он лег, задувши свет
И на груди своей сложивши руки строго.
Ах, часто леностью его душа грешна,
Он сохнуть оставлял в чернильнице чернила,
Он мало что узнал, хоть увлекался всем,
Но в тихий зимний день, когда от жизни бренной
Он позван был к иной, как говорят, нетленной,
Он, уходя, шепнул: «Я приходил – зачем?»
Согласно одной из версий, самоубийство Жерара де Нерваля связано с прогрессированием той же болезни, что и Бодлера (сифилиса). В письмах последнего есть фраза, которую можно интерпретировать именно таким образом: «Я почувствовал себя больным той самой болезнью, которой страдал Жерар, а именно – страхом, что не смогу больше ни думать, ни писать». Речь, по-видимому, идет о страхе распада личности в результате поражения мозга. Бодлер не имел приятельских отношений с Нервалем, но периодически они встречались, и он мог знать то, что Нерваль так тщательно скрывал…
Мечтой жизни Нерваля стало торжество жизни над судьбой. Он жаждал стать всемогущим, но не в смысле преодоления жизненных невзгод, но – в сфере духовной, творческой. В «Парадоксах и истине» (1844) Нерваль писал:
Я не прошу у Бога менять что-нибудь в событиях, но изменить меня относительно вещей: даровать мне способность сотворить вселенную, которой бы я сам распоряжался, власть повелевать моей вечной грезой вместо того, чтобы ее претерпевать. И тогда я буду поистине богом.
Судя по всему, эту свою мечту ему удалось осуществить в поэзии. Марсель Пруст, явно предпочитавший Нерваля Бодлеру, по этому поводу сказал следующее:
Если писатель пытался себя самого определить, уловить и осветить смутные нюансы, глубокие законы, почти неуловимые впечатления души, так это Жерар де Нерваль… Он нашел способ не только лишь рисовать и придать картине цвета своей мечты.
Поэтическое наследие Нерваля состоит из двух небольших циклов: «Оделетты» и «Химер», опубликованных в приложениях к другим его книгам. Иногда к его лирике относят повести «Сильвия» и «Аурелия», насыщенные сновидческими фантазиями и народными поверьями Франции.
«Оделетты», или «Малые оды», немного напоминают – и содержанием, и строфико-метрическими приемами – лирику вагантов:
Пройдут, как грезы,
Здесь час и год!
Утихнут грозы,
И грусть уйдет,
Как след угрозы
С затихших вод.
Впасть на мгновенье
В блаженный бред!
Лишь в нетерпенье
Страстей секрет:
Миг наслажденья —
И их уж нет!
В «Химерах», вопреки просветленному очарованию «малых од», мы слышим опережающие время мучительные прозрения. Сплавляя метафизику и мифы, одушевленную тайнопись мироздания и экзистенциальное мироощущение, причащаясь сновидениями к сокровенному смыслу жизни, Нерваль все ближе подходил к горестному открытию, к жуткой догадке о потерянности человека во вселенском хаосе бытия. Обилие мистических намеков, реминисценций, обильная символика, образующая глубинные пласты нервалевской мысли, вера в сон как иную жизнь, жажда доискаться заповедной истины человеческого удела – всё это перебрасывает мост от романтиков к Бодлеру и далее к экзистенциальным поэтам современности.
Отгадку как собственной участи на земле, так и таинств вселенной Нерваль, переводчик «Фауста» Гёте на французский язык и поклонник немецких романтиков, пробует отыскать в легенде. Отголоски мистерий Ближнего Востока (Нерваль ездил туда в продолжительное путешествие), древнегреческих мифов, христианских преданий, старинного фольклора, алхимических учений, позднейшего масонства – все это сплетено здесь в причудливо личную нервалевскую мифологию, добычу наперебой оспаривающих друг друга толкователей. Подобному сознанию, во всем склонному видеть тайнопись, мироздание чудится одушевленным в каждой своей клеточке, поющим на тысячи голосов для уха, умеющего их расслышать…
Вошедшие в мировую сокровищницу поэзии «Золотые стихи» Нерваля глубоко экзистенциальны и во многом предвосхищают идеи Тейяра де Шардена, Хайдеггера и Камю.
Золотые стихи
Очнись! Все в мире чувствует.
Пифагор
Ты веришь, человек, что нам одним судьбою
Дан разум и без нас вселенная пуста;
Да, мысль твоя вольна, но с нею неспроста
Мир не считается наедине с собою.
В любом цветке душа распахнута с мольбою;
Чем бессловесней тварь, тем жарче немота;
Мистерия любви в металле отлита —
Все в мире чувствует! И властно над тобою.
Как соглядатая, страшись слепой стены —
Крупицы разума везде растворены,
И злом не оскверняй глагол непробужденный.
Бог и в убожестве является порой,
И, как под веками зрачок новорожденный,
Упорно зреет дух под каменной корой.
Поэт отказывается пропеть оду человеку, но видит в нем божественно предопределенную частицу бытия, Наблюдателя, увенчавшего эволюцию растворенного в мире разума. Мистерия жизни заключается именно в животворящей мощи природы, совпадении «земных происшествий» с иными мирами и иным, похожим на сон, существованием.
Причаститься к сокровенному смыслу, а быть может, преднамеренному умыслу этого неумолчного бытийного круговорота, в котором смерть и воскрешение чередуются как залог надежды, Нерваль хотел бы через сновидчество. В вихрении грез, по его предположениям, вещает о себе впрямую, без вмешательства рассудка, сама природа, ее судьбоносные божества-зиждители. Вникнув в эту заповедную правду, душа, омраченная жизненными утратами, не раз смущенная жуткими предчувствиями и догадками о своей потерянности во вселенском хаосе, могла бы обрести согласие с собственным прошлым, настоящим и будущим, примиренно вписаться в распорядок и ход вещей. Жажда допытаться обетованной истины своих земных дорог – а ведь такая истина рано или поздно, осмысленно или неосознанно манит каждого как утешающее оправдание пережитого – и составляет притягательность «Химер», делая их доступными и для тех, кто не искушен в мистико-мифологических намеках, образующих подспудный пласт нервалевской мысли.









































