Текст книги "Антропофаг"
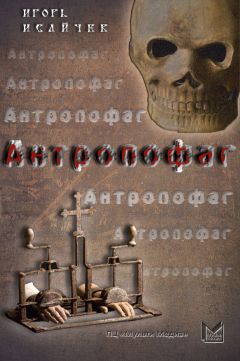
Автор книги: Игорь Исайчев
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Чему быть – того не миновать, – озорно подмигнул перевалившийся через край доктор зябко вздрогнувшему надзирателю и, подсвечивая себе фонарем, полез вниз по опасно потрескивающим ступеням.
Не подающий признаков жизни арестант лежал, уткнувшись лицом в жидкую грязь, неловко подвернув под себя правую руку, распрямив левую вдоль тела и подтянув колени к животу. Грубое полосатое рубище, чтобы оно намертво не присохло к сплошной, сочащейся бурой сукровицей ране, в которую превратилась его спина, было задрано до самой шеи. Об этом позаботились проявившие неожиданную сердечность надзиратели, доставлявшие узника после экзекуции.
Вначале лекарю показалось, что он опоздал. Но, достаточно повидав на своем веку и давно привыкнув не доверять первому обманчивому впечатлению, тертый эскулап наклонился и, пачкаясь в липкой, еще не успевшей до конца свернуться крови, нащупал на шее едва ощутимо трепещущую жилку.
Удовлетворенно крякнув, старик пристроил фонарь над головой и, порывшись в свисающем с плеча видавшем виды вытертом фельдшерском кофре с несчетным количеством отделений, извлек из него небольшую деревянную шкатулку. Ее содержимым – растолченным в порошок корнем только ему известного растения не скупясь, присыпал до костей располосованную спину несчастного. После настал черед глиняного пузырька причудливой формы с плотно притертой пробкой. Лекарь, вполголоса чертыхаясь, долго тужился, пытаясь выковырнуть затычку, пару раз, едва не выпустив сосуд из пальцев, однако, в конце концов, справился с ней.
Ловко разжав арестанту зубы лезвием небольшого раскладного ножа, он, стараясь не расплескать ни капли, влил в глотку пациента мутноватую жидкость, тут же перебившую остро перечным, с едва уловимым привкусом гвоздики, духом разлитый вокруг смрад. И лишь удостоверившись, что пациент не подавился, а благополучно сглотнул, бережно опустил бритую голову с безобразно вспухшей на лбу черной, с синюшными отливами, отметиной клейма. Потом, не спеша разгибаться, крючковатым мизинцем подцепил перечеркнувший шею узника витой шнурок от затейливого нательного креста. С любопытством повертев в искусно отлитое серебряное распятие, неподдельно изумился:
– Как же это наши лиходеи на этакую красоту не позарились?.. Видать и впрямь смертничек-то заговоренный. – Он осенил себя крестным знамением и вздохнул: – Чудны дела твои, Господи…
К закату следующего, после порки дня, бывший смертник очнулся от боли, вновь впившейся в каждый вершок истерзанного тела. С великой натугой сумев разлепить лишь один глаз на запекшемся твердокаменной коростой лице и страшась шевельнуться, целую вечность вспоминал – кто же он, и как очутился в подземелье?
А когда муть в голове чуть рассеялась, узника остро резанула догадка, что его, так и не удушенного до смерти хитрой петлей виртуоза-палача, а лишь лишившегося чувств во время казни, погребли заживо. Но, стоило Ефиму содрогнуться от ужаса, ледяной удавкой захлестнувшего горло, как оглушительный в мертвой тишине ямы звон кандалов тут же вернул его в действительность.
Невольно постанывая от болезненных толчков крови в висках и острого жжения в изувеченной спине, он, выпрямив дрожащие от напряжения руки, оторвал грудь от земли. Переждав приступ тошнотворного головокружения и, судорожно сглотнув подкативший к горлу горький ком, Ефим сел, по-турецки скрестив скованные ноги и сильно нагнувшись вперед, подсознательно опасаясь прикоснуться открытыми ранами к сплошь проросшему осклизлой плесенью дереву стен.
Однако ангел-хранитель чудесным образом избавивший Ефима от веревки не оставил его и после, подослав к нему старика-лекаря. Пока он валялся без памяти в мокрой грязи, порошок, лечебную силу которого стократ усилил пахучий настой, исподволь сделал свое дело. Снадобья все же сумели погасить уже тлевший внутри обреченного на мучительную смерть арестанта беспощадный антонов огонь. Словно по мановению волшебной палочки всего за одну ночь перестали кровить оставленные треххвосткой кошмарные язвы, даже начавшие по закраинам прорастать прозрачно-розовой кожей.
Кое-как оттерев со второго глаза запекшуюся кровь и приобвыкнув к мраку, Ефим обнаружил неподалеку от себя глиняный кувшин и миску, наполненную чем-то серым и густо-застывшим. Забыв о боли, насквозь пронзающей тело при любом, самом малом движении, Ефим судорожно рванулся к кувшину. Едва не разбив его цепью ручных оков, выстукивая зубами мелкую дробь по тверди на совесть обожженной глины, он припал к холодному, скользкому краю. Плеская на грудь, одним длинным глотком вытянул застоявшуюся воду, показавшуюся ему слаще меда.
Проглотившего все до последней капли Ефима, обессилено выпустившего из ослабших пальцев глухо шлепнувшийся наземь и тут же завалившийся на бок кувшин, мотнуло из стороны в сторону, словно зараз он хватанул не жалкую кружку прогорклой воды, а уж никак не менее полштофа забористого вина. В голове у него зашумело, а слипшиеся с голодухи кишки отозвались тяжелым рокотом. Вспомнив о миске, Ефим, давясь, и пачкая успевшую отрасти за время заключения неопрятно-клочковатую бороду, принялся жадно набивать себе рот липким варевом, по-простецки выуживая его сложенными щепотью плохо гнущимися пальцами, черными от перемешенной с засохшей кровью земли.
Но, не успел он, все же сумев задавить в себе порыв по-собачьи вылизать плошку, утереть губы, как заскрежетал скверно смазанный замок, и гулко ударила о камень откинутая решетка. Сверху, будто с самого неба, ожесточенно заспорили два голоса:
– Хоть режь меня, Иван Семеныч, а нынче я за мертвяком нипочем не полезу, потому как твой черед! – истерил один, на что второй, низкий и прокурено хриплый, лениво возражал: – Ты, Порша, хоть и добрый мне приятель, однова особо-то не нахальничай. Без году неделя на службе, а все ж тебе не так, да не эдак. Полно ужо голосить-то, словно баба на сносях. Лучше вон вниз лестницу скинь. Один ляд упокойничка на пару доставать. Одному-то никак не с руки будет.
Моментально осоловевший после еды Ефим лишь чудом сумел увернуться от пролетевшей буквально в двух вершках массивной лестницы, чуть не снесшей ему голову, и тут же завопил благим матом:
– Эй, вы, там, наверху!!! Белены объелись, что ли?!
Голоса настороженно смолкли, а над краем ямы появилось светлое пятно фонаря и два смутно белеющих лица, напряженно всматривающихся вниз едва различимо поблескивающими в неверном, тускло-дерганом свете, глазами.
– Вот те раз! – неподдельно изумился старший из надзирателей, повернувшийся к ошарашено безмолвствующему товарищу. – А, мертвяк-то наш жив живехонек. И чего ж теперь делать? Не в мертвецкую же его волочь, а, Порша?
Он, напряженно размышляя, крепко почесал затылок, машинально сдвинул фуражку на нос и чуть не упустил вниз. Ловко подхватив ее буквально над самым краем и нахлобучив на положенное по циркуляру о ношении форменной одежды место, принял трудное решение:
– Побегу-ка я с докладом к начальству, а ты здесь покудова покарауль.
Юный трусоватый напарник, не горя желанием оставаться один на один с ожившим покойником, пусть и сидящим в глубокой яме, попытался, было, воспротивиться, но старший его уже не слушал. Отбрасывая своим фонарем громадные тени, очумело мечущиеся по сочащимся гнилой сыростью замшелым стенам, он часто зацокал коваными каблуками по вытоптанному граниту ведущих вверх ступеней.
Новость о том, что брошенный на верную смерть в карцере арестант наперекор всему вновь выжил, не порадовала адъютанта, уже с облегчением списавшего его со счетов. Однако поручик так и не сумел стать прожженным душегубом, и вопреки ожиданиям матерого надзирателя не дал распоряжения по-тихому удавить везунчика, а всего лишь раздраженно отмахнулся:
– И стоило меня беспокоить по таким пустякам? Шагу уже самостоятельно ступить не можете. Неужто неясно как поступить? – и, окатив ледяным взглядом тупо преданно таращившегося надзирателя, обреченно вздохнул: – В общую мерзавца.
…Российская дорога… Бесконечный скорбный путь… То пудрящий соленое от знойного пота лицо омерзительно хрустящей на зубах мелкой пылью, то плещущий в глаза ледяной осенней грязью из-под копыт коня встречного путника, либо наотмашь обжигающий сорвавшимся со свинцового, грозно нависшего над самой головой неба, рубящим метельным порывом.
Мерно колыхаясь, ползет ощетинившаяся тусклыми штыками охраны уныло бряцающая кандалами серая змея этапа. Пеший конвой сплошь нестроевые инвалиды. Регулярная армия добивает захватчиков в Европе и лучшие солдаты, как и кони, там. Плетущимся по бокам колонны серолицым изможденным охранникам не многим слаще каторжников, разве что их руки с ногами свободны от оков.
Невольно ощутив на плечах тяжесть грубой, насквозь пропыленной робы, – на Руси издревле не зарекаются от тюрьмы, да от сумы, – пригорюнится свесивший с телеги обутые в потрепанные лапти мужик, понукая лошаденку поскорей обойти неспешно тянущуюся скорбную колонну, и кинет украдкой краюху черняшки прямиком в звенящий цепями строй. Нахмурится ближний конвойный, покосится сурово на смельчака, да вздохнув, сделает вид, что ничего не заметил…
Не успел одичавший в подземелье Ефим освоиться в душной, под завязку забитой арестантами камере, день и ночь до крови раздирающими себя черными ломаными ногтями, на кончиках которых со смачным треском лопались выловленные кровососы, как очнулась канцелярия губернского тюремного инспектора. Доставленным курьером на имя начальника тюрьмы циркуляр подтверждал, что лишенный всех ранее жалованных привилегий отставной канонир вместо смертной казни через повешение теперь приговорен к пожизненным каторжными работам на Нерчинских свинцовых рудниках.
И вот уже скоро месяц как Ефим, скованный одной цепью с отлученным от церкви попом, месит грязь в глубоких колеях, по щиколотку утопая в мутных лужах, налитых по-осеннему студеными обложными дождями. Бывший священник костляв, с запавшими и постоянно текущими мутными глазами, ввалившимися серыми, без кровинки щеками, проросшими жалкой, совсем не поповской жидкой порослью, и как-то неприлично, по-мальчишечьи желторот. По прикидкам Ефима он едва ли успел разменять четверть века.
Чтобы каторжники не смогли на ходу сговориться о побеге, им под страхом полусотни шомполов категорически запрещено перекидывать даже парой случайных слов. Охранники, поначалу рьяно придерживающиеся устава, однако быстро сообразили, что чуть слышное бормотание сквозь зубы, заменяющее узникам полноценную дорожную беседу, хоть немного, но облегчает адское бремя бесконечного пути. И, чтобы реже тратить собственные силы, подгоняя штыками и прикладами выбившихся из сил отстающих подконвойных, закрыли глаза на отступление от инструкций.
Так, поначалу слушая через силу, исключительно по-нужде, Ефим, мало-помалу проникся историей грехопадения расстриги. Словно на подмостках развернулась перед ним драма, казалось, так удачно складывающейся жизни товарища по несчастью.
Как особа духовного звания, с началом войны с Наполеоном тот, еще, будучи студиозусом, счастливо избежал мобилизации в действующую армию, и пока захватчики жгли древнюю столицу, блестяще окончил семинарию, приняв монашеский постриг. Сразу же после окончания рукоположенный в сан отец Серапион, в миру бывший мещанин из забытый богом провинции Федор Сковородкин, был направлен служить в главный храм губернии. И вот тут у молодого, подающего большие надежды священника, обласканного самим архиереем, вдруг ударило в голову. Дьявольские соблазны мирской жизни, такой живой, сверкающей и влекущей после многолетнего семинарского воздержания, все же совратили с пути истинного так и не сумевшую обрести истинную крепость веры душу.
А тут, как на грех, волею случая он попал на театральную премьеру, и потрясенный великолепием форм примы, с первого взгляда без памяти влюбился в нее. Актриса же, к несказанному изумлению монаха благосклонно приняла нескладные ухаживания юного провинциала. Это уж потом, когда пришло горькое похмелье, отец Серапион с безысходным запоздалым раскаянием осознал, в какую паутину, он, обезумев от страсти, влип.
Как оказалось, распутная хищница за бокалом шампанского выдумала изощренную забаву, заключив пари с известным ловеласом – главным импресарио театра о том, что запросто соблазнит навек повязанного обетом безбрачия экзотического воздыхателя. И это ей удалось с необычайной, удивившую даже саму коварную прелюбодейку, легкостью.
Однажды ночью, окончательно потерявший остатки разума монах, не имея сил унять пылающую в груди преступную страсть, тайком пробрался в апартаменты вдруг ни с того, ни сего потерявшей к нему всяческий интерес, отказавшей от дома актрисы и к своему ужасу застал ее в постели с писаным красавцем, – ожившим изваянием античного бога, – антрепренером. Ослепленный выжигающий глаза изнутри вспышкой безумной ревности он, недолго думая, размозжил обоим любовникам головы, очень кстати подвернувшейся под руку увесистой чугунной кочергой.
Прибежавшие на шум и дикие крики о помощи слуги так и застали забрызганного с ног до головы липкой кровью и отвратительной, серой, с розовыми прожилками слизью, даже не попытавшегося скрыться с места преступления убийцу. Сидящий широко раскинув ноги, посередь натекшей с кровати багровой лужи новоиспеченный батюшка, которого била крупная нервная дрожь, не мигая, уставился остановившимся взглядом в крапленую алыми кляксами драпировку на стене. Громко икая и ежеминутно механически крестясь, он лишь что-то неразборчиво бормотал себе под нос. У его же бедра, придавив к полу край уже успевшей напитаться кровью рясы, резала глаз не привычно черная от копоти, а ярко-бордовая кочерга, густо облепленная выдранными с корнем короткими смоляными мужскими и длинными белокурыми женскими волосами.
– Не поверишь, – сглатывая половину звуков и присвистывая сквозь прорехи вместо выбитых на следствии передних зубов, шепелявил прикованный к Ефиму сосед, – с той ночи никак от крови руки отмыть не могу, – безуспешно пытался он выпростать из-под слишком длинного рукава серые грязные пальцы. – Тру-тру, и золой, и щелоком, и тертым кирпичом, все одно не берет. Это мне, видать, божья кара такая… А тебя-то, за какие грехи?.. Слыхал, тебе и в петле побывать довелось… И каково оно там, на эшафоте-то?
Непроизвольно вздрогнувший от тут же нахлынувших жутких воспоминаний, разбуженных бесцеремонным вопросом, Ефим ожесточенно огрызнулся:
– А ты сам в петлю слазай. Вот и узнаешь, каково.
Ничуть не обидевший на откровенную резкость расстрига задумчиво пожевал тонкими серыми губами и все же решившись, тихонько просвистел:
– Сколь раз уж намеревался, да так и не отважился… Грех смертоубийства всяко замолю. Господь-то, как известно, милостив… А коли руки на себя наложу, тогда уж полный каюк. Никакая молитва не поможет. Прямая дорога к чертям на вертел.
Ефим, которого тоже не раз мучили мысли о самоубийстве, с невольным сочувствием покосился на соседа и уже мягче отозвался:
– И сколько же за пару душ загубленных на суде отмеряли-то?
Несостоявшийся священник тяжко вздохнул, а затем бесшабашно ухмыльнулся, обнажив белоснежные обломки когда-то великолепных зубов:
– Да по-полной отсыпали. Перед заседанием епископ лично от церкви отлучил, да еще похлопотал о самой суровой каре для вероотступника. Вот и получил я вечную каторгу… Благо на виселицу не отправили.
– А меня вот отправили, – задушено, будто петля вновь стиснула горло, хрипнул в ответ Ефим. – Да вот вишь как вышло. Знать и для меня еще не отлили сковородку в геенне огненной…
Бесконечные дни, похожие друг на друга как близнецы, складывались в недели, а недели в месяцы. Казалось, до скончания века будет хрустеть под ногами дорожная хлябь, прихваченная еще робким, не вошедшим в полную силу морозцем, и припорошенная первым робким снежком. Когда же даже двужильный, еще с войны привыкший к долгим пешим переходам Ефим начал терять остатки сил и как-то в сердцах вслух прорычал: «Да когда ж уже кончиться эта пытка?!» – бредущий перед ним пожилой арестант с неровно выжженным на лбу словом «вор» и уродливо-рваными ушами и ноздрями, обернулся, сбиваясь с ноги. Смерив насмешливым взглядом запыхавшегося отставного канонира, фыркнул:
– Эх, паря, по всему видать, это первая твоя ходка. Иначе бы ты так в рудники не спешил. Доверься затоку, а я-то, как сам видишь, – он, звякнув цепями, с натугой поднял скованные руки и коснулся пальцами кончика изуродованного носа, – не понаслышке знаю, что нас ждет. Тебе, как говоришь: – эта пытка? – еще не раз беспечной прогулкой вспомнится.
Ефима, случайно поймавшего наполненный тьмой безысходности взгляд старого каторжанина, будто ошпарили кипятком. Покрывшись мгновенно запарившей на морозе горячей испариной, он вдруг впервые с отчаянной кристальной ясностью осознал всю безмерную жуть черной бездонной пропасти приговора – пожизненно…
Но все в жизни, как и сама жизнь, имеет свой конец. К середине декабря, по санному пути, а порой и по колено в свежевыпавшем, еще не слежавшемся, мягком как пух снегу, изрядно поредевший этап добрел до деревянных, потемневших от времени и непогоды, ворот Нерчинской кандальной тюрьмы.
Перезваниваясь накаленными набирающим силу морозом оковами и выдыхая клубы подкрашенного розовыми лучами под вечер выкатившегося из серого марева солнца, до предела утомленные узники нетерпеливо переминались с ноги на ногу в предвкушении долгожданного отдыха. И всего лишь пара бывалых каторжников не тешила себя напрасными надеждами, прекрасно представляя, что ожидает их за стискивающими неширокий, до земли вытоптанный людскими подошвами и лошадиными копытами тюремный двор стенами, сложенными из неохватных вековых лиственниц.
А пока начальник конвоя докладывал в канцелярии о количестве дошедших, и заверял список тех, кого закопали в безвестных могилах на деревенских погостах, а порой и в чистом поле, с высокого крыльца двухэтажного дома, где обреталось все местное начальство, поскрипывая покоробленными, давно просящими ремонта ступенями, спустился главный тюремный инспектор. Высокий крепыш средних лет, сыто-упитанный, с залихватски подкрученными кончиками волосок к волоску уложенных усов и пушистыми бакенбардами, наезжающими на горящие свежим, юношеским румянцем пухлые щеки, глубоко засунув привычно сжатые кулаки в карманы новенькой, с иголочки, дохи, вразвалку, по-хозяйски проскрипел до зеркального блеска начищенными высокими сапогами вдоль изломанного серого строя. Выдыхая, в отличие от гнусно смердящих колодников, прозрачный пар с отчетливо уловимым в холодном воздухе сладковатым коньячным духом, смерил первую шеренгу каменной тяжести взглядом из-под низко надвинутой на лоб бобровой шапки. Затем вернулся обратно на крыльцо, чтобы его было видно и из задних рядов. Прочистил себе горло кашлем и, спугивая с кучи кухонных отбросов в дальнем углу двора дюжину обиженно загалдевших облезлых ворон, оглушительно гаркнул:
– С прибытием, канальи!!! – его лицо исказилось пробежавшей судорогой, и на миг из-под благообразной маски проступил жуткий, невольно вгоняющий в дрожь лик жаждущего мук и крови жертвы, изувера. – Добро пожаловать в преисподнюю!
Перебивая пробежавший по строю невнятный гул, инспектор гулко расхохотался:
– А вы как себе помышляли, висельники?! Милостью государя нашего мне доверено взыскать за все сотворенные вами мерзости! И будьте уверены – взыщу сполна! А дабы никому не повадно было даже помыслить о побеге, сейчас вы увидите, что будет с тем, кто все же рискнет.
Повинуясь его жесту, как чертик из коробки откуда-то сбоку выскочил живчик-надзиратель в затертом, лоснящемся тулупе и, громыхнув висящей на поясе увесистой связкой ключей, отомкнул малозаметную дверцу. Из темного нутра барака вывернулись два изрядно потрепанных жизнью арестанта, почему-то не закованные в уже ставшие привычными кандалы, и небрежно, словно определенное на убой животное, за ноги выволокли обнаженное, сплошь исполосованное глубокими, обильно кровоточащими рубцами тело.
Оставляя за собой алую полосу, они дотащили безвольно прыгающего затылком по земле несчастного до торчавшей на целый аршин из-под основания крыши стропилы. Загодя припасенной пенькой туго стянули лодыжки беглеца-неудачника, и ловко закинув свободный конец, вздернули его вниз головой. На истоптанном снегу под импровизированной виселицей, как чернила по пористой бумаге, тут же начали расплываться, множась на глазах, яркие, будто ягоды подмерзшей рябины, пятна.
Стоявший во второй шеренге Ефим передернулся, ощущая нестерпимый зуд и волну острых мелких проколов в так же когда-то спущенной и лишь чудом заросшей от снадобий старика-лекаря спине, и обреченно сам у себя поинтересовался: «Если это цветочки, то какие же тогда будут ягодки?»
Тут в щели, приотворившейся за спиной инспектора двери, показалась блестящая лысина, окаймленная слипшимся от пота венчиком редких волос, и козлиный тенорок обидчиво заблеял:
– Пал Афанасич, ну, что ты право? Прям, как впервой этап видишь. Дамы заждались. Да и самовар вот-вот простынет.
Начальник тюрьмы, недовольно покривившись, вполоборота разражено бросил:
– Ступай уже, прикажи чай подавать. А обществу скажи, сей момент буду, – и, дождавшись, пока дверь захлопнется, уже без сатанинских обертонов в голосе деловито распорядился, пальцем подманив к себе надзирателя: – Конвой разместить в казарме и накормить от пуза. Каторжных, которые пожизненно – в барак воспитуемых и к тачкам нынче же приковать. Остальных – к колодникам. И не вздумай никого без моего ведома за мзду расковывать, – погрозил он кулаком возмущенно всплеснувшему руками и невольно вильнувшему в сторону плутоватым взглядом тюремщику. – А то знаю я тебя, шельму.
После того, как крыльцо опустело, оставшийся за главного старший надзиратель, покопавшись за пазухой, извлек свисток на шнурке и оглушил строй арестантов пронзительной трелью, вновь поднявшей зашумевшую крыльями стаю воронья. Широко расставив ноги, он величественно подбоченился, раздул грудь и, побурев от натуги в явном желании быть похожим на начальника, грозно прорычал:
– Слушать сюда, грязные ублюдки! Если хотите продлить свое жалкое существование на лишний день, навсегда проглотите свои поганые языки и крепко-накрепко зарубите на носах, – и тут случайно наткнувшись глазами на каторжника с начисто срезанной переносицей, сбился с тона, не удержавшись от язвительного смешка, – у кого они еще остались, – здесь даже грязь под моими ногами важнее вас. А тот, кто бунтовать вздумает, – надзиратель злобно ощерился, – позавидует этому куску мяса. – Его оттопыренный большой палец небрежно ткнул за плечо, где набирающий силу до костей пробирающий ветерок понемногу раскачивал больше не подающего признаков жизни повешенного.
Посчитав, что к сказанному добавить больше нечего, старший надзиратель, всунув свисток в узкий промежуток меж седыми щетинистыми усами и пегой клочковатой бородой, надувая щеки, пронзительно засвистел, откровенно упиваясь неприятно режущим уши звуком. Неприметно подтянувшиеся к тому времени отлично вымуштрованные смотрители, словно стая голодных волков на беззащитную отару овец, разом кинулись на арестантов, вмиг оттеснив тех, кому после финального удара судейского молотка уже не суждено было в этой жизни глотнуть воздуха свободы. Эту, меньшую группу колодников, в самой середке которой мелко переступал со всех сторон крепко стиснутый Ефим, грубыми толчками в спины загнали во вросший в землю барак, с нависающей над самой головой дощатым закопченным потолком.
Внутри измученных каторжан встретило неожиданное туманно-влажное сумрачное тепло, особенно желанное после утомительного дневного перехода и долгого топтания на морозе. Однако они, начав потихоньку оттаивать, рано обрадовались. В глубине, ближе к дальней стене, подсвеченный багряными отблесками адского пламени, ревевшего в раскаленном горне, кузнец, проворно орудуя молотом, одного за другим связал арестантов, в силу пожизненного приговора причисленных к самому жестоко угнетаемому разряду – воспитуемых, с двухпудовыми деревянными тачками, сгрудившимися неподалеку.
Всю дорогу до рудников не закрывавший рта расстрига, по привычке через слово призывавший уповать на божью волю, ссылаясь для примера на себя, за двойное убийство получившего всего лишь пожизненную каторгу и жалкие полсотни плетей от обессиленного чахоткой задрыги палача, откровенно приуныл, с натугой толкая перед собой неповоротливую тачку, так и не сумев с первого раза перекреститься прикрепленной к грубо оструганной рукоятке правой рукой. Ефиму тоже пришлось несладко. Застуженная на этапе рана на ноге немилосердно ломила, а на спине саднил каждый из бесчисленных шрамов.
Когда каждого из воспитуемых снабдили личным якорем, служащим не столько гарантией от побега, сколько дополнительной карой, призванной предельно усилить и без того невыносимые муки, их вновь выгнали на мороз. Выстроив неровную колонну в затылок друг другу и, понукая отрывистыми злыми командами, перегнали к кордегардии, где в холодных угарных сенях пара цирюльников из солдат тупейшими бритвами обрили каждому полголовы. И лишь после этого окончательно обезображенных, еле держащихся на ногах острожников отправили к месту ночлега, в ветхий, почерневший от времени и покрытый мохнатой порослью лишайников барак.
С непривычки больно ударяясь голенями о каменной твердости ребра тачек, под густой злобный матерок и гулкий стук по промерзшей земле скрипуче болтающихся на сношенных осях колес, каторжники, цепляясь макушками о притолоку, с трудом протискивались в слишком узкий дверной проем и оказывались в слепых сумерках, которые не в силах были рассеять редкие слабо потрескивающие лучины, торчащие из щелей меж бревен. А когда, наконец, глаза пообвыклись с разлитым внутри мраком, то их взору предстали два длинных ряда сплошных нар, тянущихся вдоль стен. На них, то, свернувшись калачиком и накинувши на голову полу вытертого, заляпанного глиной халата, то, вольно раскинувшись на отшлифованных до тусклого блеска досках, расположились десятка полтора мужиков разного возраста, также как и вновь прибывшие связанные цепями с горбатящимися на полу тачками.
Дышалось внутри, особенно после острой морозной свежести двора, тяжко. С порога в нос бил, крепко настоянный на едкой кислоте запаршивевших, годами не знавших бани, человеческих тел, гнило-плесневый дух. Под ногами чавкала невыносимо разящая мочой, разъезженная тачечными колесами жижа. Похоже, что обитатели барака лишний раз не утруждали себя облегчаться в смердящий у выхода осклизлый жбан параши, справляя малую нужду прямиком под нары. У дальней стены нелепым бельмом светилась неожиданная в царящем вокруг нищенском убожестве свежебеленная печка-голландка.
Когда с тоскливым скрежетом распахнулась входная дверь и внутрь, в клубах пара с грохотом и руганью в барак повалили люди, по нарам пробежала волна возбуждения. То тут, то там погнали по углам влажный сумрак как по волшебству вспыхивающие золотые огонечки сальных свечей. И уже протаял до этого терявшийся во мгле длинный засаленный стол, неряшливо усеянный черствыми крошками, плесневелыми корками и сплошь уставленный закопченными чайниками и мятыми кружками.
Затолкав внутрь всех «тачечников», смотрители, не переступая порога, замкнули тяжелую, для крепости подбитую свежими досками дверь на тяжеленный амбарный замок. Стоило замолкнуть скрежету ключа, как на козырном месте у печки на локте приподнялся каторжник в новеньком, с иголочки халате, небрежно свисающем с одного острого плеча. Он пнул в спину босой серо-желтой от мозолей и въевшейся грязи пяткой сидевшего подле него на корточках прямо в зловонной грязи оборванца:
– Никак ослеп, болван? Вишь, в кой-то веки свежатинка подвалила. А ну-ка, щипни их по шустрому.
Намедни в пух и прах проигравшийся в карты жиган, ставший холопом «Ивана», послушно подхватился и, волоча за собой тачку, бочком зашлепал драными лаптями по раскисшему земляному полу к растеряно сгрудившимся на входе этапникам. Первым на его пути оказался подслеповато хлопающий глазами расстрига, левой рукой пытавшийся смахнуть с мороза выступившую на лице влагу.
Подтянувший свою тачку вплотную, чтобы дать свободу рукам, не говоря ни слова, жиган принялся по-хозяйски деловито шарить по карманам бывшего попа. Пока тот застыл, опешив от такой бесцеремонной наглости, к нему протиснулся Ефим, и левой рукой вцепившись в нечесаные лохмы, свисавшие с левой, небритой стороны головы, поддернув правой цепь повыше, каменной твердости кулаком с одного удара свернул жигану скулу. Тот с удивленным хрюком опрокинулся на спину и, потеряв один лапоть, засучил ногами, тонко, по-бабьи вереща.
Тут же с нар, сбросив халат и как был босиком, резво сорвался пославший мазурика долговязый, как коломенская верста, каторжник. В отличие от своего клеврета, его запястья были на удивление свободны от железа. Расставив циркулем длинные ноги, он с хрустом рванул богато расшитый ворот поразительно чистой рубахи, и визгливо заблажил:
– Ты это что ж творишь, каналья?! Ты на кого руку, тля, поднял?! Да ты, гнида, хоть представляешь, кто я?! – дылда обернулся на застывших в предвкушении захватывающего зрелища обитателей барака и грохнул себя кулаком в грудь. – Здесь я – «Иван».
Ощущая, как внутри, подкатывая обжигающей лавой к глазам, вскипает мутящее разум знакомое черное бешенство, наливающее тело свирепой мощью, Ефим, грозно прозвонив всеми своими оковами, поухватистей примерился к рукояткам тачки, и как пушинку вздернув два пуда сырого дерева над головой, сквозь зубы процедил:
– А по мне хоть Иван, хоть Федор. Зараз по плечи в землю вколочу, и вся недолга.
И грозный «Иван», с момента появления на каторге державший в железном кулаке барак воспитуемых, дрогнув, отступил перед малорослым, сухим, припадающим на одну ногу колодником с налитыми дьявольской тьмой глазами, который с какой-то неизвестно откуда берущейся, поистине бесовскою силой, играючи управлялся с тяжеленной тачкой. Невольно подавшись назад и упершись в покачнувшийся, звякнувший посудой стол, он выставил перед собой раскрытые ладони и не в силах скрыть испуга, севшим голосом заблеял:
– Но-но, паря… Ты это… Того… Ты это брось… Мы ж так, шуткуем… По-свойски значит…
Все еще продолжая держать тачку над головой, Ефим, насупившись, отрывисто бросил:
– Как-то не по нутру мне твои шутки, дядя. Еще разок сам так пошутишь, аль кто из своры твоей сподобится, любому башку на раз снесу. Так и знай. – После чего, брызнув жидкой грязью по сторонам, в том числе и в лицо «Ивану», с такой силой грохнул тачкой о пол, что лишь чудом не сломал ось и не расколол пополам колесо.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































