Текст книги "Дом на задворках вселенной"
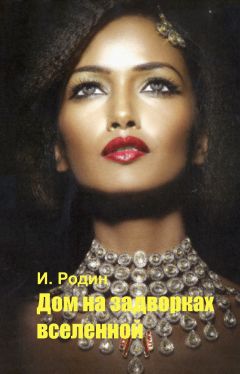
Автор книги: Игорь Родин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Вернулся я домой злой и подавленный. До утра, помню, вымучивал какие-то идиотские стихи, писал, как Ленский перед дуэлью, «темно и вяло», пока не заснул там же, за столом.
После этого Достоевского я не брал в руки примерно с месяц. Правда, это вовсе не означало, что я разочаровался в его идеях или усомнился в его значимости как философа и писателя. Просто я понял, что нельзя прочитанное воспринимать буквально, так сказать, реалистично. Осознав, что это все же в большей степени некие метафоры, овеществленные стороны одной личности, а не конкретные персонажи, взятые из жизни, я занялся вопросом более основательно. Проштудировав критическую литературу и даже выпросив на ночь у кого-то из знакомых «Миросозерцание Достоевского» Бердяева, я сделался едва ли не спецом в этой области. Я даже начал говорить всем, что пишу статью по вопросам творчества Достоевского (я ее и вправду начал, намереваясь впоследствии отослать в какой-нибудь солидный толстый журнал). На большинство моих знакомых-интеллектуалов, а также особ женского пола, это производило впечатление, и я был нимало удивлен, услышав мнение, которое не походило ни на что, услышанное или прочитанное мной ранее. При этом мнение не было ни глупым, ни необычным. Оно было просто несообразным. Не сообразным абсолютно ни с чем. Но оно было цельным. Это чувствовалось сразу.
Не подав вида, что фраза, брошенная вскользь Чернецким, меня задела за живое, я решил при случае более подробно поговорить на эту тему, так сказать, с пристрастием, с профессиональным интересом.
Но ожидания не оправдались. Мое знакомство с Чернецким не получило развития, так как он скоро из грузчиков «уволился», и мы больше не виделись.
Теперь как раз его я и увидел в кафе за столиком. Рядом с ним сидела какая-то довольно смазливая и нахально держащая себя девица. Одета она была в брюки и светлый джемпер с полосой на груди, что довольно комично сочеталось с галстуком Чернецкого, который был почти аналогичной расцветки. Волосы у нее были собраны сбоку в хвост, который, когда она делала движение головой, начинал болтаться из стороны в сторону. Она что-то говорила Чернецкому, хотя тот явно не слушал, а тянул из бокала коктейль и думал, видимо, о чем-то своем. На физиономии его застыла какая-то довольно раздражительная, впрочем, едва заметная, гримаса, как у человека, который на чем-то хочет сосредоточиться, а ему мешают это сделать.
Не знаю почему, но я обрадовался. Трудно сказать сейчас, чему именно я тогда обрадовался больше: тому, что встретил знакомого, или появившейся возможности хоть как-то занять остаток вечера. Немного поколебавшись, я направился к столику. На полпути у меня вдруг появилась мысль, что я тут буду, видимо, совсем некстати, и чем ближе я подходил, тем сильнее становилась неловкость и чувство страха за то, что я сейчас буду навязываться. Постепенно я пришел к решению, что подходить вовсе не следует, но спустя еще несколько секунд остановился на промежуточном варианте – подойти, но при первом же признаке того, что мое присутствие тяготит, распрощаться и уйти.
Я подошел и поздоровался. Некоторое время было тихо, потом Чернецкий, видимо, наконец отвлекшись от своих дум, поднял глаза и остановил на мне непонимающий взгляд.
– Здравствуйте, – растягивая слоги, произнес он.
На мгновение в его лице появилось что-то похожее на сомнение, хотя, может, мне это только показалось. Но то, что он меня бесспорно узнал, а теперь лишь прикидывается, я знал наверняка, так как когда он поднял на меня свой взгляд, тот был уже непонимающим, а ведь до того как меня увидеть, Чернецкий явно не мог знать, кто стоит перед ним. Это доказывает, что узнал он меня еще по голосу, а к тому времени, когда повернул голову, уже решил меня не узнавать.
Внезапно это все меня разозлило. Я уже проклинал себя за то, что вздумал подойти и поставил себя тем самым в дурацкое положение.
Я хотел повернуться и уйти, но тут встретился взглядом с девицей, и решение мое изменилось. В ее взгляде было столько раздражения и неприязни, что я решил во что бы то ни стало остаться.
Я сел на стул и, стараясь вести себя как можно развязнее, представился. Далее напомнил, где мы могли встречаться и т. д.
Чернецкий запрокинул голову и, прикрыв глаза, стал делать вид, что вспоминает, а девица отчетливо произнесла: «Очень приятно». Мне определенно показалось, что Чернецкий покосился на нее, хотя и не могу сказать наверняка, какое выражение было у него в это время в глазах. Повернувшись ко мне, он промычал что-то неопределенное и уставился все тем же непонимающим взглядом. Воцарилось неловкое молчание. Машинально я взял со стола салфетку и теперь вертел ее в руке. Сцена явно затягивалась. Все это начинало меня бесить, особенно девица с ее вызывающим видом. Опустив глаза и заметив, что в салфетке образовалась дыра, я положил ее обратно.
Я хотел было уже встать, но тут девица, видимо, желая поторопить меня, спросила: «Вы хотели что-то сказать?» Это окончательно вывело меня из себя.
– Да, – сказал я, – именно вам, – я остановился и сглотнул: в горле отчего-то вдруг сделалось сухо. – Знаете, тот, кто сказал, что этот хвост вам идет, солгал. Сие украшение делает вас похожей на маленькую злую лошадку, которая, однако, стоит ее только хорошенько втянуть хлыстом, тут же покорно принимается за работу. Причем одного раза, как правило, бывает недостаточно. Это нужно делать периодически. Как… как лекарство… – я начал задыхаться и остановился.
Отчего я тогда сказал именно это, я не знаю до сих пор. К тому же мысль о хвосте, а тем более в форме такой откровенной грубости, мне до самого последнего мгновения не приходила в голову.
Девица вспыхнула, однако, вовремя спохватившись, бесстрастно спросила: «А какое отношение, простите, мой хвост имеет к вам?»
Чернецкий же все это время беззвучно смеялся, хотя, как ни странно, это на меня тогда не произвело никакого впечатления. Мне было просто нестерпимо стыдно. Что это он вдруг так развеселился, я не знал, да и, откровенно говоря, мне тогда на это было решительно наплевать. Раздражение достигло своего предела. Я поднялся со стула.
– Я, видимо, не вовремя подошел и поэтому прошу извинить… – сказал я, запинаясь.
Но тут Чернецкий замахал рукой и, не переставая смеяться, почти прокричал:
– А ведь я вспомнил. Точно вспомнил. Еще в самом начале, а теперь так, дурака валял. Вот просто ее позлить хотел… – и он показал на девицу.
Хотя слова эти и были сказаны, видимо, в шутку, за ними скрывалась доля истины: уж очень он делано смеялся. По всей вероятности, Чернецкий был чем-то сильно раздражен.
Девица повернулась к нему.
– Тебе не кажется, что эти все твои психологические опыты сейчас не вовремя?
Он вдруг прекратил смеяться.
– Отчего же?
– Я думаю, достаточно уже этого! – и она обвела взглядом зал.
– Нет, отчего же? Может быть, именно это как раз и вовремя. Кто это определил? – удивленно произнес Чернецкий. – Садись, – добавил он, обращаясь ко мне. – Не обращай внимания. Ерунда.
Что он имел в виду, говоря «ерунда», я не понял. То ли свое притворство, то ли выступления девицы, то ли и то и другое вместе – не знаю.
Я сел. Торопиться мне было некуда, да и этой, с хвостом, тоже хотелось хоть как-то отомстить.
Некоторое время Чернецкий пристально разглядывал меня в упор, так, что мне стало и впрямь как-то не по себе, потом опять рассмеялся.
Натянутость не проходила, и после обычных, традиционных фраз типа «Ну, как живешь?», «Как учишься?» и «Ну, как вообще?» опять воцарилось молчание. Вопросы были пустыми, ничего не значащими. Однако мы довольно долго мусолили этот нудный разговор, как если бы в нем заключался какой-то особый, аллегорический смысл. Наконец я иссяк. За мной замолчал и Чернецкий. Тишина опустилась сверху, как старое ватное одеяло.
Чувствовал я себя с каждой минутой все более и более неуютно, хотя вида старался не показывать.
Девица явно бойкотировала не только меня, но и Чернецкого и зло манипулировала в бокале соломинкой. Чернецкий же, казалось, не обращал на нее ни малейшего внимания.
Спектакль этот, где подтекста было явно больше, чем самого текста, мне был совсем не по душе, и чем дольше все продолжалось, тем более дурацкой представлялась ситуация. Она должна была неизбежно как-то разрешиться, и мысль о том, что это непременно будет скандал, последние минуты не покидала меня.
Однако на самом деле все оказалось гораздо проще.
Около столика, будто черт из коробки, внезапно возник кавказской внешности тип и попросил разрешения пригласить девицу на танец. Та поднялась с места и, даже не оглянувшись, пошла с ним к эстраде.
Чернецкий как-то странно усмехнулся и сделал приличный глоток из бокала.
– Нехорошо получилось как-то, – после некоторой паузы сказал я.
Чернецкий поднял бровь:
– Да? Чем же?
– Мне показалось, что она была против моего присутствия.
– Разумеется, – Чернецкий опять сделал глоток из бокала. – Все просто. Ей важно навязать мне свою волю и прибрать к рукам, а мне, соответственно, – сохранить то, что ей сохранять совершенно ни к чему. Шарик налево, шарик направо – всего лишь. С чего ты взял, что это нехорошо?
Я не нашелся, что ответить, и промолчал.
– Если разобраться, – продолжал Чернецкий, – может оказаться, что ее вообще возле меня держит только самолюбие. Как игрока, который все время проигрывает, но тешит себя надеждой на то, что рано или поздно отыграется.
Он помолчал. Я сел поудобней и положил руки на стол. Сделал я это некстати, так как вышло, будто я перебил Чернецкого. Я смутился и посмотрел на него. Тот усмехнулся и продолжил:
– А ведь стоит ей один раз одержать верх, только один, так она, пожалуй, еще и презирать меня вздумает, – и Чернецкий зачем-то покрутил рукой в воздухе.
– Что ж, по-моему самолюбие – достоинство, а не недостаток, – сказал я, понимая, что должен что-то сказать.
– Не в том дело. Вот например. В детстве, я помню, играл в одну забавную игру. Ловишь улитку, кладешь на руку. Она, конечно, спрячется, вся уйдет в раковину, а ты стоишь и говоришь: «Улитка, улитка, высунь рожки! Улитка, улитка, высунь рожки!» Она их выпустит, но только ты дотронешься до них, как они тотчас уходят обратно. Приходится повторять все снова. Мы даже соревнования устраивали, у кого улитка быстрее рога выпустит. Очень интересно.
Чернецкий достал из пачки, лежащей на столе, сигарету и закурил. Глубоко затянувшись, он пустил белесую струйку дыма вверх.
– А однажды я попробовал ничего не говорить, а улитка все равно выпустила рога. Я помню, очень расстроился, но потом решил, что слова здесь и впрямь не нужны. Может, она делает это просто из самолюбия. Кто знает…
Голос Чернецкого постепенно становился все тише и тише, и я, улучшив момент, обернулся, чтобы посмотреть, где находилась его спутница. Однако в толпе танцующих я ее не нашел и вновь повернулся к Чернецкому.
– Я все это, собственно, к чему? – казалось, Чернецкий не смотрит в мою сторону. – Не о ней же в конце концов… Просто самое лучшее – не лезть во все эти дела… Тем более что тебя они совершенно не касаются. Я это не к тому, что, мол, не твое дело. Просто не обращай внимания – вот и все.
Чернецкий остановился. Надо сказать, во все время этой речи с лица у него не сходила какая-то в высшей степени странная полуусмешка, так что я начал было уже подозревать, что она вовсе и не относится к тому, о чем он говорил. И вообще, на протяжении всего нашего разговора, до самого его конца (я потом много думал об этом), меня не оставляло чувство, что Чернецкий больше говорит сам с собой, чем обращаясь ко мне. Казалось, он произносил какой-то странный монолог. И даже не монолог, а часть его, начинающуюся откуда-то с середины. Понять что-либо до конца было сложно. Однако я был рад встрече. Может, если бы я понимал тогда, что кроется подо всей этой игрой, я бы и отнесся к происходящему по-иному.
– Н-да, – продолжил между тем Чернецкий. – Как написал один очень умный тип, нет ничего нового под солнцем, все суета и томление духа. На что другой, правда много позже, возразил: мол-де все в мире относительно, так что вы очень уж не расстраивайтесь…
Я посмотрел на пальцы Чернецкого, несколько нервно барабанящие по краю фужера. Перехватив мой взгляд, Чернецкий усмехнулся и отставил фужер в сторону.
«Интересно, что у него на уме? – подумал я. – Прямо детектив какой-то…»
Однако ирония не помогла. Во мне неодолимо боролись два желания: с одной стороны – желание встать и уйти, таким образом блюдя приличия и не усугубляя конфликт между Чернецким и девицей, с другой – желание остаться и выяснить, в чем тут дело. В конце концов я прибегнул к приему, к которому обращался довольно часто, а именно – вообразить, что все происходящее – некая игра, где мне отведена вполне определенная роль, а роль эдакого Штирлица в данном случае мне весьма импонировала.
Танец кончился, девица вернулась и заняла свое место. Вид у нее был все такой же надменный. Чернецкий сидел ссутулившись, думая о чем-то своем. Девица что-то сказала, и он очнулся. Официант принес коктейль, и Чернецкий как бы даже повеселел, словно радуясь тому, что смог избавиться на какое-то время от тяготивших его мыслей. Покосившись на девицу и отпив глоток из бокала, он вдруг сказал, что теперь пришло время поговорить об искусстве, потому что «когда встречаются интеллигентные люди и нужна тема для беседы, они всегда говорят об искусстве».
– Для того оно по большей части и существует, – добавил Чернецкий и опять усмехнулся.
Очень кратко и предельно ясно отозвавшись о современной живописи (живопись и скульптура, несомненно, умерли), он вдруг ни с того ни с сего спросил, как мне нравится Чюрленис. Я сказал, что мало его знаю, так как видел только репродукции, да и то в очень посредственном альбоме.
– А вообще мне он нравится, – закончил я.
Чернецкий покосился на девицу.
– А тебе нравится Чюрленис? – спросил он ее.
Та посмотрела на него и после некоторой паузы спросила:
– А кто это?
– Монгольский художник эпохи Возрождения, – быстро и небрежно ответил Чернецкий, и если бы я не знал, кто такой Чюрленис, то наверняка принял бы его слова за чистую монету. Внезапно я вспомнил об Алексе и подумал, что Чернецкий сделал точь-в-точь как он.
Девица вновь пожала плечами и принялась за коктейль. Видно было, что она тоже на взводе, но все же старается не подать вида. До конца я так и не понял, действительно она не знала, кто такой Чюрленис, или это была тоже какая-то игра.
– Зря. Зря, что только по посредственному альбому, – продолжил Чернецкий речь в своей странной манере, не обращаясь ни к кому. – Мне в свое время очень понравилось. Этакий гений болезненного воображения. Полное подчинение формы идее, парение в, так сказать, надоблачных сферах. У меня тогда даже мысль возникла, что это какой-то особый вид богоборчества. Создание собственного мира. И солнце такое… Какое-то исступленно-яркое, неживое. Волчье… Как где-нибудь в стратосфере… – постепенно Чернецкий впадал в состояние наигранной эйфории. На лице появилась улыбка, взгляд уперся куда-то в стену.
– У меня тогда еще появилась идея, что все гении были сумасшедшими. Не ново, конечно, но тем не менее забавно, верно? Ведь обыкновенный человек такого никогда не создаст. По определению. Для этого нужна такая колоссальная зацикленность на чем-то одном, что вряд ли нормальный человек выдержит. Я еще, помню, что-то вроде повести о художнике писать стал. Об очень одиноком и очень гениальном. Повесть изобиловала психологическими сентенциями низкого пошиба, как учебник по психологии для вечерних отделений филологических факультетов. Короче, дрянь, и я ее сжег. И вовсе не потому, что там, например, Гоголь жег свои «Мертвые души», а чисто из нежелания, чтобы кто-нибудь, пусть и случайно, прочел всю эту ахинею. Правда, потом месяца полтора я скорбел по этому поводу (хотя, черт его знает, тем, кому читал, нравилось, а некоторым даже очень). Но не в этом дело. Жаль только тему. А тема была хорошая…
Чернецкий прикрыл глаза и посмотрел на потолок.
– Подумай только, все гении – уроды, шизики, а если точнее – мутанты, которые в природе, как явление противоестественное, обречены на гибель. Но самое главное – шкала ценностей. Что считать нормальным? Средний уровень, то есть животный, с его всеобъемлющим стремлением к выживанию, или уродство, болезнь, возвышающую человека до уровня Творца и неминуемо ведущую к саморазрушению?
Чернецкий на минуту остановился, потом рассмеялся, однако вышло это у него как-то неубедительно. По-моему, он просто валял дурака.
– Что-то по-моему я сегодня слишком много говорю. Хотя что тут такого? Люди должны общаться. Это снимает напряжение и вследствие упомянутого смягчает нравы. Да и настроение у меня сегодня к тому располагает. Так что давайте беседовать! Вы не против? Так на чем я остановился? Ах, да! Если болезнь – норма, то что же тогда болезнь?
– Хватит!
Девица зло смотрела на Чернецкого. Она была в бешенстве.
– Почему хватит? Почему это хватит? Интересно ведь. К тому же у меня сегодня праздник. Верно? Ведь праздник сегодня? – обратился Чернецкий к девице и, не дожидаясь ответа, сказал: – Праздник. И я имею полное право на хорошее настроение. Верно? – спросил он теперь уже у меня.
Я кивнул.
– Ну вот, что я говорил? Итак, на чем мы остановились?
Обстановка накалялась, и я чувствовал себя все более неуютно. Едва заметная усмешка, не сходившая с лица Чернецкого все это время, стала более явной, как если бы теперь он хотел показать, будто не воспринимает всерьез того, что говорил минуту назад.
– Забавно, а ведь, пожалуй, стоит только объявить во всеуслышанье, по телевизору, например, что все гении – шизики, а все шизики, соответственно, – гении, так на следующий день от них отбоя не будет в больницах и прочих местах скопления творческого элемента. К тому же это очень просто – быть гением. Достаточно лишь не быть таким, как все. Если все делают одно, надо непременно делать другое. Все рисуют медведей на дереве и девочек с персиками или там с какими-нибудь пейсиками, а ты – бац! – «черный квадрат»! Что такое? Кто такой? Все в недоумении и смятении. А ты им опять – бац! – взял пару полотеров, налил краски на холст – и родилась «композиция № 7» или там какая-нибудь восемь с половиной!
Чернецкий скорчил пророческую мину и воздел кверху перст. Вышло довольно уморительно.
– И вот здесь наступает самое главное: этап упрямого дудения в свою дуду. Все в один голос кричат: «чушь собачья!», а ты – бац! – «композицию № 155!» или какую-нибудь «желтую Венеру» совершенно отвратительного вида. Главное – тупо стоять на своем. Еще лучше – сочинить в жизни какой-нибудь скандальчик, создать некий прецедент – единство, так сказать, жизни и искусства, формы и содержания. Пусть людям будет не только на что посмотреть, но и обсудить и даже, не побоюсь этого слова, посплетничать. Люди обожают скабрезные истории. Уверен, если бы Ван Гог не отрезал себе ухо и не умер где-то в дурдоме, вряд ли бы он стал так знаменит. Короче, если повезет, тебя поднимут еще при жизни. Поднимут, понесут, и тут уж их не остановишь. Хоть коровьего дерьма на холст набросай, все равно скажут, что это гениально. Правда, при таком раскладе вряд ли можно удержаться от тотального, абсолютного презрения к окружающим, а соответственно, от полной творческой и жизненной апатии. Но с другой стороны, «кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей…»
Чернецкий допил из бокала и заказал у проходившего мимо официанта еще.
– Так что с одиночеством и сознанием конечной бесцельности творчества придется смириться, – продолжил он свои витийствования, делая при этом движение, словно стоял на кафедре и читал лекцию для каких-нибудь гуманитарных недорослей. – Цели нет, есть только непрерывное движение, сила… Любой истинный творец творит исключительно для себя, без всяких там гуманистических благоглупостей. Для удовлетворения, так сказать, созидательного зуда. А все это, – Чернецкий обвел взглядом зал с трапезничающими людьми, – именно и есть то самое дерьмо, о котором упоминалось выше, да еще размазанное по холсту. Похоже, тот, кто это создавал, был порядочный халтурщик, а? – Чернецкий, хохотнув, кивнул на потолок. – В меру хитрый, в меру сластолюбивый… Этакий барин… Любит, чтобы носили по улицам в паланкине под балдахином и с этим… как его? – пилосом или фаллосом что ли. Хреновина такая впереди…
Чернецкий опять повернулся к девице.
– Нет, что-то я сегодня определенно много говорю. Настроение, должно быть, хорошее. С чего бы это?
Он выдержал паузу, потом спросил:
– А ты хотела бы прокатиться в роскошном паланкине с фаллосом?
– С чем? – переспросила та с презрением.
– Ну, с символом власти и красоты, разумеется, – ответил Чернецкий. Я тогда подумал еще, что второй раз шутки вроде «монгольского художника эпохи Возрождения» идут не очень удачно. Проще говоря, фуфло. Но тогда я ничего говорить не стал, так как Чернецкий, похоже и впрямь был чем-то не на шутку раздражен.
Девица пожала плечами.
– Впрочем, вернемся к нашим баранам, – усмехнулся Чернецкий и обвел взглядом зал. – Не трудно, однако, догадаться, что не всем так везет, как описывалось выше. Очередь к паланкину большая. Времени много надо да и сил. Так что пока вполне можно играть роль непризнанного гения. Дивиденды также весьма значительны. Во-первых, – богемный образ жизни. По секрету скажу, вся настоящая богема именно такая. Во-вторых, работать слишком много не надо, так как всегда можно сказать, что именно сейчас обдумываешь, в муках, так сказать, рожаешь, новый шедевр, который пока не в состоянии понять косное человечество. Еще бы, ведь у тебя, как и у любого гения, впереди вечность. То есть проще говоря, вместо того, чтобы делать дело, лепить горбатого. Многие всю жизнь в этом плавают. И неплохо себя чувствуют. С возрастом, правда, все труднее становится вешать девкам лапшу на уши, но тут уж от фантазии зависит, ну и от возраста девок, конечно… Ну да ладно, бог с ними… Между прочим, у меня сегодня особый день, – заявил вдруг Чернецкий безо всякого перехода, однако договорить не успел, так как в это самое время у столика вновь возник тип кавказской наружности и повторил тот же церемониал, что и в первый раз.
Девица ушла, и Чернецкий замолчал, а я не решался спросить у него, что за такой особенный день сегодня, и чего это он вдруг так разошелся. Отпив из бокала, он откинулся на спинку стула. Воцарилось молчание. Чернецкий как бы остывал после своего монолога, и я ему не мешал. Однако молчание затягивалось.
Чернецкий как будто не собирался его нарушать, и я решился.
– Знаешь, когда ты сказал про Чюрлениса, что это монгольский художник эпохи Возрождения, то напомнил мне одного моего приятеля. Точнее, я его уже давно не видел, так что просто знакомого.
Чернецкий удивленно поднял брови и, пока я ему рассказывал про Алекса, не произнес ни слова. Похоже было на то, что рассказ его заинтересовал. Он, не отрываясь и как-то пристально, смотрел на меня, так что временами у меня создавалось впечатление, что он думает о чем-то другом, хотя это впечатление, как выяснилось позже, было обманчиво.
– Интересно, – пробормотал он, как только возникла пауза.
– Да, – заторопился я, боясь, что потом мне ничего не удастся вставить, – тем более что это не просто случай, но целое явление, тип. Может быть, даже самый главный тип. В принципе, он ведь в каждом из нас сидит. Эдакий актер, лицедей. И ведь все неосознанно. Хотя стоит только осознать, как все прояснится… Или, по крайней мере, станет понятнее… – я слишком разгорячился и, устыдившись своей поспешности, осекся.
Чернецкий все так же не отрываясь смотрел на меня. Внезапно он сделал движение и, будто отвечая на мой вопрос, пробормотал:
– Нет, нет, нормально. Не слишком экспрессивно. Даже убедительно… Буду изживать в себе лицедея, – добавил затем с все той же странной полуусмешкой.
– Только не думай, что я навязываюсь, – ляпнул я вдруг в каком-то порыве откровенности.
– Ну, это просто глупо.
Чернецкий обернулся и замолчал. К столику вновь подошла его подруга и изящно уселась на стул.
– Надоело, – раздраженно бросила она, сделав жест рукой в сторону эстрады.
Чернецкий неопределенно покрутил головой и, обращаясь ко мне, сказал:
– Ты что-то про лицедея, кажется, не дорассказал.
– Да я, в общем-то, все.
– А мне показалось…
– Хотя могу, впрочем, случай еще один рассказать.
Я остановился и попытался собраться с мыслями. Это, однако, не получилось, и вышло все довольно сбивчиво.
– Он как-то раз, помнится, «расколол» даже какую-то певицу из Большого театра. Это Алекс, один мой приятель, – добавил я, поворачиваясь к девице, чтобы ей было понятно, о ком идет речь. Она отвернулась.
– Так вот. Певицу… Замужнюю. Литовцем почему-то прикинулся. Правда, к чести той надо сказать, трудился часа полтора, не меньше…
– А меня Давид в ресторан «Москва» звал, – негромко перебила девица.
– Куда? В «Москву»? – спросил Чернецкий и присвистнул. – Поздно ведь уже. А кто это – Давид?
– Мой друг с Кавказа, – она усмехнулась. – Его так назвали, оказывается, в честь царя Давида… Господи, маразм какой!
Она поднесла бокал с соломинкой ко рту, но потом, видимо, передумала и поставила на место.
– Что именно маразм? – переспросил Чернецкий.
Та как будто не расслышала вопроса, и я заметил, что она смотрит в одну точку, как если бы думала совсем о другом.
– Так что именно глупо? – опять задал свой вопрос Чернецкий, попутно несколько смягчая формулировку.
– Что? Да все глупо… Глупо называть кого бы то ни было в честь кого-то, – девица нервно рассмеялась и посмотрела на Чернецкого. В ней вдруг произошла какая-то перемена, и я никак не мог понять, чем это вызвано.
Чернецкий отпил коктейль и облизал губы.
– Ну, и?
– Что «ну, и»?
– Как тебе Давид?
– Ничего, очень внимателен и элегантен.
– Неужели?
– Чего не скажешь о некоторых.
– Тебе, конечно, виднее. Что ж, успеха тебе с Давидом. Привет!
Эта последняя фраза Чернецкого прозвучала столь неожиданно, что я в первый момент даже не понял, о чем идет речь. Такого поворота событий я не ожидал.
Девица вспыхнула, потом встала, быстро достала из сумочки, висевшей на спинке стула, десять рублей и положила на стол.
– Это за ужин, на бедность не принимаем! – сказала она и демонстративно направилась к кавказскому типу, который уже собирался уходить. Когда тот увидел, что она идет к нему, то сразу вскочил и засуетился, обнажая в людоедской улыбке три золотых зуба.
Они направились к лестнице и скоро пропали из вида.
Минута прошла в молчании.
– Все-таки нехорошо получилось, – опять было начал я.
– Ерунда, все ерунда, – прервал меня Чернецкий и рассмеялся. – Это же все игра. Сюжет для калейдоскопа, да еще детского. Я даже уверен, что она не пойдет с ним. В крайнем случае поужинает за его счет, а потом сделает ручкой. Не тот случай. Завтра же позвонит. А не позвонит – тем лучше. Откровенно говоря, все это очень утомляет, – Чернецкий усмехнулся. – Только лишняя трата времени и денег, – Чернецкий бросил взгляд на червонец, лежащий на столе, и поправился: – Хотя, нет, на этот раз только время, без денег. Но и это не мало. Фуфло это все.
– Но у меня создалось впечатление, что она страдает…
Чернецкий удивленно посмотрел на меня, даже, как мне показалось, еще более внимательно, чем раньше, потом запрокинул голову и расхохотался.
– Юноша, да вы никак Шиллера начитались? Или, может, Достоевского? Ну, что ж, давайте поговорим о Достоевском.
Взяв десятку, оставленную девицей, он положил ее в пепельницу. Затем чиркнул спичкой и поджег купюру с двух сторон. Зеленоватый огонь медленно пополз по замусоленной бумаге. Чернецкий же в это время, скроив трагическую физиономию и отстукивая такт ладонью по столу, запел на какой-то разухабистый блатной мотив:
Настасья Филипповна,
Что ты со мной сделала?
Настасья Филипповна,
Девочка ты моя смелая.
Настасья Филипповна,
Ты меня покинула,
Настасья Филипповна
Баксы в печку кинула!
Исполнял он эту ахинею столь проникновенно и самозабвенно, что я, не удержавшись, рассмеялся.
– Только жаль, масштаб не тот, – счел я даже нужным сострить.
– Ну, тут уж, извиняйте, батьку. Про сто тыщ написать всякий дурак может, а вот настоящий чирик сжечь – кишка тонка, – в тон отозвался Чернецкий.
– Не жалко? – задал я провокационный вопрос.
– Ужасть как! – отозвался Чернецкий. – Аж плакать хочется. Но…
Воздев перст к потолку, Чернецкий, «окая» и, видимо, изображая Достоевского, изрек:
– Только страдая, человек может мыслить!
– Ну а если серьезно?
– Если серьезно, то хрен с ней. Я свободный человек, каковым, в принципе, и должен быть каждый. Как кот ученый. Идешь направо – песнь заводишь, налево – сказку говоришь. Ты, насколько я могу судить, пока тоже свободен. Хотя считаю своим долгом предупредить, что со склонностью, пардон, к достоевщине ты долго на воле не погуляешь. Обязательно какая-нибудь фря подвернется. У них нюх на подобные вещи, точно тебе говорю. И ведь что самое обидное, ты с ней в Грушенек да Сонь Мармеладовых играться будешь, эдаким Иваном Карамазовым вокруг виться, а в одно прекрасное утро примитивно обнаружишь рядом с собой не Грушеньку, не Соню Мармеладову и даже не Ольгу Ларину в худшие ее годы, а обыкновенную Хавронью, простую и без затей. Ешь ее с кашей. Но жизнь уже как-то устоялась, дети, не дай бог, пошли… И – ух! Куда ты мчишься птица-тройка? Не дает ответа. И только колокольчик динь-динь-динь…
Чернецкий остановился и, допив то, что оставалось в бокале, откинулся на спинку стула. Я покачал головой:
– Н-да, мрачноватая перспектива. Что же в таком случае делать, как говаривал один известный гуманист, – задал я вопрос, одновременно показывая, что тоже в литературе не фрайер.
Чернецкий усмехнулся.
– Для того, чтобы любоваться грацией тигриц и пантер, вовсе не обязательно входить в клетку. Если, конечно, нет природной склонности к дрессуре… Слушай, ну их в болото, честное слово. Меня от них уже тошнит.
Сказал он это вроде бы даже убедительно (несмотря, может, на некоторую излишнюю образность), но я никак не мог понять, серьезно он это, или же это опять «монгольский художник эпохи Возрождения».
Купюра догорела и теперь лежала в виде свернутого в трубочку серого листка. Чернецкий ткнул ее окурком, и та рассыпалась.
– Самое главное – не стоять на месте, – опять начал он в своей странной манере, словно с середины. – И к черту все, что этому мешает. Какое мне дело до того, что кому-то кажется, что я должен вести себя таким образом, а не другим?
– Хорошо, но неужели невозможно нормальное, равноправное сосуществование?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































