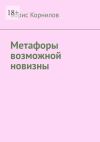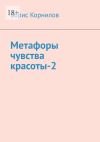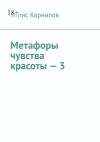Текст книги "Сюжет и смысл"

Автор книги: Игорь Силантьев
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Игорь Силантьев
Сюжет и смысл
© И. В. Силантьев, 2018
© Издательский Дом ЯСК, 2018
© Языки славянской культуры, 2018
* * *
Предисловие
В этой небольшой по объему книге собраны различные работы автора, выходившие в научной периодике в последние годы и объединенные двумя сквозными ключевыми идеями. Во-первых, это идея сюжета как аутопоэтического принципа смыслопорождения. Смысл тотально не задан словесному произведению, а свободно возникает в результате работы самого текста, актуализированного в субъективированной культурной коммуникации. Поэтому в семиотическом плане сюжет не может не быть метафорической конструкцией. В связи с этим в книге большое внимание уделяется сюжето– и смыслопорождающей работе метафоры. Вторая идея сопряжена с первой. Это идея дискурса как потока, в том числе потока речи, и в том числе речи художественной. Значимые ее элементы встречаются в этом потоке и образуют сцепления сюжета как такового. Без движения нет сюжета, а без сюжета нет смысла.
Глава 1. Сюжет и смысл
Наши вводные теоретические рассуждения охватывают понятийно-терминологическое поле, представленное в трех парадигмах: факт – событие – нарратив; фабула – сюжет; нарратология – сюжетология.
Под фактами мы понимаем целостные динамические моменты, которые человек вычленяет из определенного процесса или ситуации, руководствуясь определенной точкой зрения. В данной трактовке факт не всегда соотносим с обыденными значениями этого термина как чего-то безусловно реального, «на самом деле существующего». Поскольку процессы, к которым имеет отношение человек, могут носить ментальный характер, постольку и выделяемые из них факты могут быть ментальными фактами – например, картины сна или фантазии.
Если для квалификации факта достаточно критерия отмеченности (с определенной точки зрения, позиции), то событие предполагает вовлеченность человека в отмеченный им факт или совокупность фактов. При этом вовлеченность может быть не только социально-прагматичная, но и ценностно-личностная, и поэтому событие не только ментально, но и аксиологично.
Так, ментально существенные и ценностно значимые для человека факты его личного и социального жизненного целого воспринимаются им каксобытия его судьбы. Незапланированные и неожиданные, но в той же мере значимые для человека повороты и нарушения его повседневности воспринимаются как события авантюрного характера, приключения, вторгающиеся в жизнь человека. Возможна (и вполне характерна) ситуация личностного вовлечения в сверхличные события общественной и мировой истории, и в таком случае судьба человека в большей или меньшей мере приобретает надличностный, в порой и эпохальный смысл. Подчеркнем, что речь идет о вовлечении личностном, а не просто личном, т. е. вовлечении ценностно-смысловом, а не только и просто внешнебиографическом.
Таким образом, событие можно трактовать как результат личностного вовлечения в определенный факт в процессе сопричастного осмысления и аксиологизации этого факта. При этом событие неизбежно обретает свойства автокоммуникативного явления[1]1
В понимании феномена автокоммуникации мы опираемся на определения, данные Ю. М. Лотманом в работе [Лотман 2000: 163–176].
[Закрыть], потому что индивидуальный или коллективный субъект сознания, присваивая определенный факт и образуя тем самым смыслы своей сопричастности происходящему, адресует эти смыслы в первую очередь самому себе.
В последующих трактовках собственно нарратива мы можем оттолкнуться от самого простого его определения: это последовательность событий, изложенных в определенном коммуникативном акте. Подчеркнем, что вне зоны актуальной коммуникации не может быть и события как такового: не поведанного и не явленного в акте коммуникации события не существует, оно формируется и живет только как сообщение, посланное другому или себе как другому. Событие – это знак изменения самого себя, который индивид в первую очередь и адресует самому себе.
Вместе с тем в данном определении нарратива находит отражение и его внешняя сторона: нарратив есть, собственно говоря, линейное изложение в речи рассказа об определенных событиях. Наша речь линейна (если, конечно, в первую очередь принимать во внимание ее вербальный компонент), и нарратив, развертываемый посредством речи, также не может не быть линейным. Другое дело, что внутри своего линейного изложения события могут быть выстроены не в соответствии с их характерными взаимосвязями, перепутаны и переставлены – но здесь мы уже имеем дело со спонтанными или специальными стратегиями повествования, являющимися предметом психологии или поэтики.
Обратимся к вопросу о разграничении фабулы и сюжета, не теряющему своей литературоведческой актуальности.
События нарратива можно увидеть с точки зрения их естественных причинно-следственных и пространственно-временных отношений – т. е. отношений смежности, по Р. О. Якобсону [Якобсон 1990: 114]. Это аспект фабулы нарратива.
Вместе с тем, события нарратива можно осмыслить в плане их произвольных со– и противопоставлений, т. е. в отношениях сходства, и в необходимом отвлечении от фабульных связей[2]2
Ср.: [Шмид 2003: 240, 243–244].
[Закрыть]. Это аспект сюжета нарратива.
В отправной точке понимания фабулы и сюжета мы солидарны с концепциями Л. Е. Пинского, различавшего «сюжет-фабулу» и «сюжет-ситуацию» [Пинский 1989: 322–338] (при том, что сам выбор терминов, на наш взгляд, не вполне точен, так как не проясняет собственных отношений фабулы и сюжета) и Н. Д. Тамарченко, писавшего о «сюжетном событии» и «сюжетной ситуации» [Тамарченко 1999: 113–120] и вкладывавшего в данные термины, по существу, различение фабульного и сюжетного аспектов нарратива.
В целом фабульная синтагма событий, увиденная в плане их разносторонних смысловых отношений, предстает в виде парадигмы сюжетных ситуаций. Фабула синтагматична, сюжет парадигматичен. Поэтому на уровне критического суждения или литературоведческого метаописания фабулу можно пересказать, а сюжет – только раскрыть[3]3
Применительно к лирике об этом писал Ю. Н. Чумаков: «Лирическая фабула, как и в случае с повествовательной прозой, – это схема движения, логически спрямленный пересказ, ориентированный на выход из эстетического ряда в соседние. Лирический сюжет – это кусок поэтического пространства, который исключает линейную последовательность чего бы то ни было. В нем осуществляется вместо этого смена нелинейных отображений, которые, меняясь, сохраняют свое соприсутствие, демонстрируя таким образом множественность и цельность вещи» (цит. по [Капинос, Куликова 2006: 305].
[Закрыть].
Важно понимать, что ни фабула, ни сюжет не являются первичной реальностью нарратива как исходного, явленного нам в коммуникативном акте линейного изложения событий. Фабула и сюжет – это два соотнесенных ментальных измерения нарратива, создаваемых в процессе его целостной интерпретации.
Фабула характеризуется центростремительным вектором. Это значит, что все читатели как субъекты определенной культурно-исторической эпохи практически одинаково реконструируют фабулу, поскольку опираются на общий объем обыденного и культурного опыта.
Напротив, сюжет характеризуется центробежным вектором. По существу, сюжетов порождается столько, сколько происходит прочтений и интерпретаций текста произведения читателями. Каждый читатель в рамках своей творческой индивидуальности конструирует свой сюжет произведения как сумму и систему смысловых со– и противоположений событий нарратива и как итоговый смысл прочитанного.
Вместе с тем не следует полагать, что в этом вопросе мы занимаем позицию некоего рецептивного релятивизма. Фактором, задающим общее направление сюжетных интерпретаций, конечно же, выступает смыслообразующая интенция самого автора – большинство читательских сюжетов так или иначе локализуют свои смыслы в общих рамках генерального проективного сюжета, заданного автором произведения. Не менее важно и другое: при всем многообразии читательских интерпретаций всегда действует мощный фильтр, который эпоха накладывает на многообразие порожденных сюжетов произведения, и только определенная часть их признается культурно значимыми, актуальными для воспроизведения. Как правило, такие сюжеты далее транслируются активными речевыми субъектами словесной культуры, такими как критики, литературоведы, учителя, журналисты, философы и др.
В итоге мы приходим к идее сюжета как универсального аутопоэтического принципа смыслопорождения. Смысл тотально и однозначно не задан словесному произведению, а свободно и множественно возникает в результате работы самого текста, актуализированного в бесконечных субъективированных культурных коммуникациях. Фабула произведения одна – а сюжетов произведения много и бесконечно много. Фабула реконструируется, сюжеты – конструируются.
Художественная литература знает случаи, когда фабула становится собственно элементом нарратива, но уже на его метауровне, в качестве предмета внимания и обсуждения персонажей. Так, знаменитые новеллы Конан-Дойла о Шерлоке Холмсе, как правило, завершаются заключительной беседой сыщика и его друга доктора Ватсона. В этой беседе Холмс раскрывает Ватсону (а также «непроницательному» читателю) действительную последовательность и связь криминальных событий. Таким образом, фабула первичного нарратива новеллы оказывается эксплицированной в самом дискурсе произведения и становится явным элементом его нарративной структуры.
В итоге мы приходим к разграничению предмета нарратологии и сюжетологии.
Предметом нарратологии выступает собственно нарратив, или повествование, увиденное как в аспекте его событийной природы и событийного состава, так и собственно в коммуникативном аспекте. Основной категориальной производной этого предмета выступает категория повествователя, или нарратора, как это исчерпывающе показано в «Нарратологии» В. Шмида [Шмид 2003].
Предметом сюжетологии выступает собственно сюжет как система смысловых со– и противопоставлений событий нарратива, в его разносторонних связях с общей системой поэтики произведения.
Более того – и это окончательно разграничивает предметы нарратологии и сюжетологии – предметом последней может быть внесобытийный сюжет как со– и противопоставление несобытийных и анарративных факторов художественного смыслообразования, таких как описание, деталь, реплика, ремарка, а также собственно слово, и звук, и ритм, особенно в лирике [Капинос, Куликова 2006: 266–272], и, наконец, невербальные смыслообразующие факторы – визуальный и аудиальный образ, предмет, ситуация как таковая. Таким образом, сюжетология, в отличие от нарратологии, выходит за пределы поля, определенного феноменом события как такового, и ее материалом становится, например, искусство абстрактной живописи или инсталляции.
В свете сказанного обратим внимание на феномен лирического сюжета, который, в отличие от эпического сюжета, не сопровождается сопутствующим фабульным началом. Сюжет в лирике – это динамическая парадигма лирических событий[4]4
Более подробно о лирическом событии см. в главе «Мотив в лирике».
[Закрыть], увиденных в их смысловых со– и противоположениях, взятых как в отдельности, так и в совокупности, в общем итоге.
В классическом родовом формате лирики событийность освобождена от необходимости ее фабульной интерпретации как реконструкции естественных связей между явленными в лирическом произведении событиями. Закон фабульной связности, необходимый для эпического произведения, не распространяется на поэтику лирического текста. Поэтому читатель, освобожденный от задачи и необходимости совершать реконструкцию фабулы, весь свой творческий потенциал прочтения и понимания произведения направляет на поиск смысловой конструкции лирического сюжета как такового.
Основной категориальной производной предмета сюжетологии выступает категория мотива, в случае существования событийного субстрата сюжета, и категория темы, или, точнее, художественного концепта, – в случае формирования внесобытийного сюжета.
Нарратология и сюжетология различаются не только в предметном, но и в общеметодологическом плане.
Методология нарратологии определяется теорией и прагматикой коммуникации: нарратолог изучает повествование о событиях в плане того, кем, кому и как это сообщено, кем, кому и как это рассказано, – отсюда устойчивое и последовательное внимание к инстанциям повествователя и самим субъектным формам повествования.
Методология сюжетологии определяется теоретической поэтикой: сюжетолог изучает повествование о событиях в плане того, как это сложено, как это сделано и почему сложенное и сделанное так приводит к тем или иным конфигурациям художественного смысла, – и это, очевидно, дает широкий простор для формальных штудий, с одной стороны, и для литературоведческих исследований интерпретационного характера, с другой.
В рамках проблематики нашей книги важно отметить, что именно сфера сюжетных смыслов выступает благоприятной средой и необходимым условием возникновения и функционирования трансферных механизмов в дискурсах культуры, в первую очередь применительно к художественной литературе. Смысл как таковой – это, по существу, ментальное событие понимания как встречи субъектов в коммуникативном акте, и за субъектами – встречи, пересечения, перехода одного в другой самих дискурсов, представленных в акте коммуникации высказываниями субъектов.
Глава 2. Принцип незавершенности произведения в современной сетевой литературе
Европейская литературная поэтика от Аристотеля до современных литературоведческих теорий по определению и умолчанию ожидает от автора создания законченного в смысловом отношении текста и завершенного в эстетическом отношении произведения. В соответствии с этой тотальной поэтической нормой автор литературного произведения – будь то пьеса, сонет, роман или что другое – приводит свое произведение в некий завершенный и окончательный вид.
Особенно отчетливо этот принцип проявляется в литературе эпического рода: повествовательная фабула должна быть закончена и досказана, а герой в действии должен прийти к своему окончательному ценностному и смысловому статусу. Линии развития фабулы и героя должны слиться и завершиться в финале, который в поэтологической традиции именуется привычным школьным словом «развязка».
За рамками художественной литературы принцип законченности / завершенности текста и самого словесного произведения носит всё тот же всеобъемлющий характер. В соответствии с этим принципом организованы многообразные речевые жанры, иначе – жанры дискурсов, соотносящихся с социокультурными сферами общения – деловой, юридической, публидиетической, научной, образовательной и др. Трудно представить намеренно не законченное деловое письмо и направленное при этом адресату, или договор без реквизитов или подписей сторон, или научную статью, оборванную на полуслове и лишенную выводов и обобщений.
Таким образом, в систему авторской практики и читательского ожидания в современной словесной культуре входит обязательная установка на создание и восприятие целого текста и целостного произведения[5]5
Вместе с тем сама проблема незавершенности литературного произведения в последнее время становится предметом заинтересованного литературоведческого внимания – см., в частности, работы: [Абрамовских 2014; Феномен незавершенности 2014].
[Закрыть].
Ведение личного дневника также укладывается в классическую парадигму законченности / завершенности. Дневник подразумевает определенную целостность записи, которая ограничивается хронологическими, личностными и, в самом широком смысле, идеологическими рамками. Ведущий дневник пишет о том, что произошло с ним за день, за неделю или за любой другой – но заведомо конечный – промежуток времени и жизни. При этом записи в личном дневнике преимущественно ориентированы именно на личность пишущего – это его дневник, история его личности, написанная в рамках его личностной идеологии как некоего целостного взгляда на собственную жизнь, судьбу и мир.
В мире частных интернет-коммуникаций, в том числе в блогосфере, мы можем наблюдать принципиально иную картину. В основе построения самой блогосферы лежит обратный принцип относительной незавершенности текста и его последующего развития в сети посредством читательских и собственно авторских комментариев, с возможностью его спонтанного коллективного завершения. Таким образом, у текстов блогосферы нет классического единого, окончательного и безусловного автора, который создает целый текст и целостное произведение, а есть автор вопроса, зачина, темы, отправной позиции и мнения, иногда коммуникативной провокации, и к его начальному авторству спонтанно и разнородно присоединяется соавторство других голосов в сети. В итоге произведение в значительной мере обобществляется и только в совокупности причастных к нему соавторских голосов получает свою относительную завершенность, а текст его, скорее, не заканчивается, а исчерпывается в своем развитии и движении от комментария к комментарию.
Всё это в теории противоречит, а на практике противостоит принципу законченного текста и завершенного произведения, но в этом нет проблемы, поскольку текстовая традиция и сам дискурс блогосферы выстраиваются не в русле поэтики, а в русле риторики.
Мы говорим не об учебной риторике как своде правил построения публичной речи, раскрытия темы, убеждения собеседника и т. д. Речь идет о риторике неотрефлектированной, непроизвольной, характерной для стихии свободного, неподготовленного устного выступления, для стихии произвольного диалога и спора. Здесь автору не дано доделать или переделать текст выступления, да и самого текста нет, а есть речь, изначально незамкнутая и завершаемая в известной мере спонтанно – при ощущении достижения риторической цели, а может быть, и из-за тривиальной нехватки времени или потери внимания собеседника. Но так же люди пишут и в блогосфере и социальных сетях – урывками, в промежутках между делами, просмотром телепередач, чаепитием и т. п.
Самое интересное и значительное здесь – это то, что стратегия неполноты коммуникации – назовем ее так в нашем рабочем формате – захватывает и собственно художественные, или как минимум претендующие на художественную самодостаточность тексты литературы в интернете, или т. н. «сетературы».
Таково, в частности, творчество безвременно умершего русского писателя Дмитрия Горчева. Его тексты безупречно художественны, хотя некоторые могут быть неприемлемы в контекстах нормированной культуры. Порой вполне ощутимо авторское стремление закончить эти тексты и завершить их в статусе целостного произведения. Однако бытуют эти тексты в среде моментальных откликов и комментариев блогосферы, что разрывает их потенциальную самодостаточность. Читатели блога Горчева по большей части воспринимают эти тексты не как законченные произведения, а как «месседжи» с диалоговой перспективой, как записи в интернет-дневнике, собственно в блоге, и отвечают на них по-разному, кто во что горазд: кто-то в меру своих талантов подхватывает зачин писателя, кто-то отвечает в игровом стиле, а кто-то – и на банальном бытовом уровне. Сам производитель текстов, понимая это, уже и не стремится их обособить и оцельнить – и вместе с тем обособиться как собственно литературный автор. Поэтому в позиции и в самой инстанции высказывающегося остается очень много от биографического, реального Горчева – лирического созерцателя жизни и даун-шифтера [Силантьев 2011].
Приведем несколько характерных текстов из блога писателя (здесь и ниже сохранены орфография и пунктуация источников).
13.01.2010. Продукты.
Очень удобно в деревне зимой с продуктами.
Это летом чуть не уследил – и вот уже потекло, прокисло, протухло, весь дом провоняло, а остальное мухи съели. Ну или сороки… ‹…› Или крот выкопался, схватил что попало и бегом обратно в нору запихивать. А не видит же ‹…›, слепой, вот и запихает куда-нибудь в галошу. Наденешь эту галошу – а там как-то внутри нехорошо.
А зимой он пусть попробует выкопаться – я вчера лопату, воткнутую в землю еще по осени в огороде, полчаса выколупывал из этой земли ломом.
И продукты тоже: купишь в автолавке кирпич молока, кирпич кефира и что-то еще каменное, кажется, яйца, и пролежит оно хоть до самого апреля, если конечно не класть их в теплое место вроде холодильника.
Вчера вот, разбирая шкаф в сенях, нашел пакет картошки. Хотел было эту картошку почистить, но ни один ножик ее не взял, даже швейцарский. Ну, порубил топором на куски и так сварил. Получилось замечательное сладкое блюдо: чистый батат, которого я ни разу не ел.
Хорошо, в общем.
Перед нами вполне законченная лирическая миниатюра, написанная в тонких тональностях иронической идиллии и достойная отдельной странички в книге избранных произведений автора. На первый взгляд, она не нуждается в каких-либо распространениях – но это если ее поместить именно в книгу как в заповедник авторских текстов, охраняемый традициями бумажной культуры. На самом деле этот текст живет в сети и открыт для живого диалогического отклика, дописывания и переписывания.
Вот первый отклик, практически снимающий тонкие эстетические смыслы авторского текста и переводящий смыслы произведения в житейское измерение:
У меня на балконе замерз пакет луку, привезенного с дачи. Выбросить хотел, да потом передумал. И не зря, как оказалось – лук этот самый режется вполне себе хорошо, и ‹…› глаза не выедает. А будучи пассерованным – вполне себе луковый лук получается. В боржч набросал – вкусно. В фарш для чебуреков положил (вернее, мясо в этот лук добавил) – чуть пальцы себе не пооткусывали, так вкусно получилось).
Любопытно, что автор (Дмитрий Горчев) моментально откликается, поддерживая житейскую тональность диалога:
Да, лук я тоже нашел на крыльце. Главное – не дать ему оттаять до приготовления.
Автору отвечает другой голос:
Ага. У нас пока на балконе держится устойчивый минус, лук активно потребляется – думаю, в морозилку перекладывать будет нечего)). Хорошо было в Сибири. На балкон можно было положить целую свыню, убитую в ноябре, и всю зиму от нее отпиливать по ноге раз в неделю. Еще у меня там стоял бак с квашеною капустой – топором нарубил тарелку закуси, лука туда накрошил, маслом полил – и красота).
Житейский разговор продолжается, собеседники обмениваются личными наблюдениями и предпочтениями, и тут некий голос переводит сложившийся дискурс в русло лингвостилистических рефлексий (что, кстати, весьма характерно для частного общения в интернете):
А у нас, ловлю себя на желании говорить на деревенский лад и, говорю, – ноне такой колотун, что все храню на кухне под окном и ничего, ня киснет (курсив наш. – И. С).
Разговор весьма гармонично заканчивается репликой, наделенной интенцией вкусовой (подлинно эстетической) оценки:
Браво! потрясающе пишете!!!!!!!!!! опять меня сейчас из кабинета выгонят за громкий неадекватный ржач!)).
Эта реплика, несмотря на ее своеобразный формат, действительно завершает данное произведение – на уровне прагматики читательского восприятия авторского текста.
Обратимся к другому тексту.
20.01.2010. Рецепт.
Рецепт приготовления чего угодно в русской печке:
Протопить русскую печку.
Положить, насыпать, нарубить или напилить в казан что угодно, но желательно съедобное. Можно и не рубить – главное, чтобы влезло.
Посыпать или залить чем угодно. Можно также ничем не посыпать и не заливать.
Поставить в печь и забыть.
Вспомнить, достать и есть. Время воспоминания может быть любым – хоть две минуты, хоть двое суток.
Если есть невозможно, отдать собаке-степану.
Всё.
Этот текст снова вызывает лингвостилистический комментарий, развернутый в ироническом ключе:
Если в рецепте фигурирует русская печь, то необходимо использование слова «ухват». Его можно поставить в произвольное место, но без него нельзя обойтись. Иначе текст становится разбалансированным, даже тяжелый казан не уравновешивает русскую печь.
Иронисту вторит другой ценитель языка:
Слово «казан» добавляет в исконно русский рецепт нечто тюркское.
Далее читателей-комментаторов влечет в фольклорные аллюзии:
Топор добавлять по вкусу. На крайняк – ношку от табурета.
Авторский текст в итоге завершается анекдотом от очередного комментатора:
Русская печь это о! Мой дед, притопав с работы, съел на ужин поросячью еду из печи, потом долго хвалил бабушку за ее кулинарные способности. Когда бабушка узнала, чем ужинал дед, был нещадно бит.
Сетевое творчество Горчева динамично, как творчество всякого подлинного автора. И в первую очередь это проявляется в поисках автором своего героя. Горчев разрабатывает этого героя как некую матрицу, в которой представлены различные коммуникативно-смысловые векторы его как адресанта своего сообщения. Соответственно, меняется и предполагаемый адресат – это и читатель, в том числе реальный сетевой, это и имманентный читатель самого автора.
Сущность горчевского героя определятся как минимум двумя измерениями: это автобиографический герой и это лирический герой.
Автобиографичность героя Горчева, разумеется, не полная и не зеркальная, а отстраненная и (устраненная (воспользуемся термином В. Б. Шкловского). Наблюдательный художник, Горчев создает необходимый зазор между собой и тем, о котором пишет в своем блоге, ненавязчиво, как бы ненароком окружая последнего эстетическими завершающими смыслами – это лирический созерцатель и одновременно иронически настроенный резонер, впрочем, сразу прощающий свои упреки и забывающий о них, это и мягкий сатирик, это и философ примитива.
Лирический герой Горчева погружен в повседневность. Но это особенная повседневность – в ней обыденность и привычная поверхностность вещей, лиц, действий часто и неожиданно оборачивается экзистенциальным пределом, неизбежное и невыносимое переживание которого удел нашего героя.
В основании горчевской матрицы находится, если так можно выразиться, герой спонтанного действия и переживания, в полной мере отвечающий открытому и незавершенному характеру самого блога писателя. Приведем характерный пример.
02.07.2001. Вчера внезапно нажрался на совершенно ровном месте. Два дня ходил, зевал, чесал выступающие части, жарко, противно. Под вечер вдруг возбудился: а вот бы сейчас винца выпить, красного и прохладного. ‹…› Ну и купил, раз уж такое дело, две бутылки вина-киндзмараули, да и выжрал под интернет. А глаза-то утром и не открываются. Я и так, и сяк – не открываются и все тут. Так до метро с закрытыми глазами и дошел. На станции пионерская встала передо мной одноногая беременная старушка, а я и рад бы ей место уступить, а не могу. Так и не уступил, вот сволочь какая.
Герой спонтанного действия и переживания сменяется героем-рефлектером. Рефлексия очень важна в системе горчевской риторики – это тонкий инструмент конструирования собственного, имманентного читателя, с которым в реальности онлайн-диалога консолидируется или же нет реальный читатель блога автора.
25.01.2001. Тиранозавр.
Сделал из бумаги модельку тиранозавера реке. Очень трогательного, на мягких подгибающихся ножках, как енот и папуас, с тоненьким крысиным хвостиком. Смотрю на него – очень жалобный, зубки кривенькие, бедолага. ‹…›
А утром возникла Страшная проблема: как этого тиранозаврика отнести Людям? Не для себя же я его делал. Расклеивать скотч, накотором он держится – даже страшно подумать. В литровую банку он не лезет, да и нету у меня ни одной чистой банки, кто ж их вымоет. Везти в руках на коленях в метро – заберут в дурдом раньше времени…
04.07.2001. Вот за что люблю бомжей и все время про них пишу: приятные они. Какая-нибудь ‹…› с грязными ногами как скажет?: «Молодой чеек, угостите меня сигареткой!» Тьфу ей в харю. А бомж не так: он пройдет мимо не торопясь, встанет в отдалении, чтобы не напрягать и спросит солидно: «Табачком не богат, Батя?» Или Бригадир. А то даже Гражданин Начальник. Не дашь – не обидится, поковыляет дальше по своим важным делам. И даже не подумает про тебя плохого. Не злой.
Следующую клетку в матрице Горчева занимает герой-сюрреалист, нередко занимающий и рефлектирующую позицию. Впрочем, сюрреализм – это не более чем рабочий термин первого приближения к пониманию этой стороны имагинативной поэтики Горчева.
В его текстах мы видим не искажение формата обыденной реальности, что характерно для сюрреализма, а принципиальный уход от этого формата в новую реальность, не сводимую никакими трансформациями к обыденному миру человека. Это, скорее, показатель глубинной взаимосвязи горчевской поэтики с миром художественных открытий обэриутов. Таково видение мира горчевским героем, к примеру, в шутливой миниатюре про голубей от 25.01.2001, озаглавленной «Птица мира».
В прошлом году у меня на балконе свила гнездо Птица Мира. Я как-то пожалел выгрести совком для мусора это гнездо, там лежали два грязненьких яйца, одно поменьше, другое побольше. Из того, которое побольше, вылупилось очень неприятное Существо, покрытое жесткими серыми волосами. Потом я его за какими-то важными делами забросил, а однажды выглянул на балкон – ‹…› висит под потолком огромное, черное, как ворон-невермор, но вниз головой, с красными глазами, страшное. В общем, прижилось. Иногда гремит подоконником: водит своих баб по родным местам, типа вот моя деревня. ‹…›
В следующем тексте герой-сюрреалист Горчева вполне дает волю своей развенчивающей фантазии.
01.08.2001. Плохие деньги.
Ровно в пять часов утра в дверь позвонили. Я открыл: там стоит двести пятьдесят один покемон. Они, оказывается все примерно одного размера – с крупную мышь, и у каждого в лапах или в зубах, если лап нет, по сто долларов.
Они обошли мою квартиру по периметру с идиотской песенкой как у тараканов из рекламы, потом низко мне поклонились, оставили доллары и ушли гуськом.
Я взял одну бумажку, пошел в обменник. Женщина в обменнике нехорошо прищурилась: а вам эти деньги наверное покемоны принесли, нет? Я застеснялся: да, говорю, покемоны. Вообще-то я обычно довольно честный. «Плохие это деньги, нехорошие» – говорит женщина и кнопочку потихоньку жмет. Ну я убежал конечно кое-как. Потом уже покемонам стало неудобно за плохие деньги и они подстроили, будто бы это все приснилось. Только таких снов не бывает, я точно знаю.
Замыкает горчевскую матрицу иронический герой, наиболее значимый для автора, его Alter ego в экзистенциальном смысле, и в то же время смысловой центр эстетической парадигмы его творчества. Вот, например, как иронический герой в миниатюре от 11.07.2001, озаглавленной «Про тринадцать рублей», размышляет о непростом отношении простого человека к деньгам:
Пересчитал все свои деньги из кармана: тринадцать рублей до получки. Никто не верит, что дома у меня, где-нибудь в приглашении на казнь, не припрятана сотенка-другая на непредвиденные обстоятельства. А вот. А не припрятана. Очень это недальновидно.
На тринадцать рублей можно купить бутылку пива-бочкарев или пачку сигарет-элементс. Вот этот выбор омерзителен. Если я куплю пиво-бочкарев, я его выпью и подумаю: а вот бы сейчас покурить! И наоборот. Поэтому я ничего вообще покупать не стану, буду ходить и думать: захочу – пива-бочкарев куплю, захочу – сигарет-элементс, чего душа пожелает, того и куплю. ‹…›
А вообще, в магазинах не нужно ничего покупать. Они в магазинах торгуют одним золотом троллей. Купишь прекрасное, принесешь домой – а оно кислое, строчка кривая и показывает так себе. Такой дряни уже столько накопилось, что приходится ногой в мусорном ведре утрамбовывать, не выбрасывать же – деньги плочены. Деньги нужно гладить утюгом, складывать в толстые стопочки и любоваться: вот захочу и Наморе поеду или пасеку себе куплю на Алтае, да много чего можно придумать. Только вот не получаются стопочки никак. Дали вроде бы Кучу Денег, а залез в карман, пересчитал – опять тринадцать рублей. Куда делись? Ну ладно, помню карандаш купил в канцтоварах. Загадка какая-то.