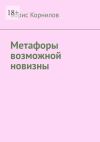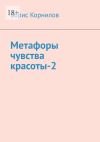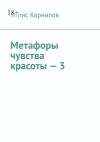Текст книги "Сюжет и смысл"

Автор книги: Игорь Силантьев
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Заметное место в творчестве Горчева занимает советская тема. Отношение Горчева к советским реалиям, периодически всплывающим в его дневниковых записях, проникнуто противоречивыми и в то же время характерными для человека его лет смыслами и оценками.
С одной стороны, это типичное для интеллигента-выходца из СССР недоверие, неприятие, а порой и откровенная ненависть к расхожим мифам и идеологемам, представленным в советской литературе и средствах массовой информации, в особенности периода детства писателя. Это вполне понятно, так как именно с такими мифами и внешними идеями, воспринятыми некритично в детстве и юношестве, человек борется наиболее осознанно и активно, стремясь освободиться от них. Для Горчева такими агрессивными носителями советского идеомифа выступают стихи Михалкова (миниатюра от 20.12.2008) и обезоруживающая наивное детское сознание газета «Пионерская правда», неутомимо творящая узаконенное идеологическое насилие над несовершеннолетними (миниатюра от 15.08.2001). Здесь же ключевой миф угрозы ядерной войны и ее центральный образ – ядерный гриб, а также идеологема из «цитатнега» Владимира Ильича о целесообразности «кухарочного» управления государством (миниатюра от 29.06.2001), и венчающий весь этот ряд отчуждающих советизмов гипермифологический образ холода, навсегда замораживающего человека в его идеологически заданных представлениях о себе, жизни и мире (миниатюра от 17.12.2009 – «Ненавижу холод»). Примечательно, что автобиографический герой Горчева своей сказочной находчивостью (Иванушка-дурачок?) преодолевает и побеждает этот режимный вселенский холод.
С другой стороны, рядом с неприятием и ироническим преодолением всего советского идеологического соседствует совсем иное – это ностальгическое отношение к советскому быту и житейскому укладу. В деталях и мелочах запечатлена счастливая и неповторимая в своей наивности и нетронутой жизненной прямоте пора детства и юношества автора. Здесь ключевыми выступают два взаимосвязанных лирических сюжета домашних заготовок (консервирования – миниатюра от 29.07.2001) и сушки «целлофановых» мешков (миниатюра от 12.01.2009.), при том что оба бытовых таинства происходят в алтаре быта советского человека – на кухне.
Иронические сравнения проблем утилизации и избавления от мусора в советскую эпоху и в современной автору действительности выходят не в пользу последней, и таким образом советское, развенчанное было автором на уровне мифа и идеи, берет реванш на уровне быта и самого жизненного порядка. Советское, увиденное сквозь призму ностальгии, остается в духовном мире героя Горчева и приобретает собственно эстетические очертания, оказывается приобщенным к красоте путешествия, открытия и личного подвига, а в конечном итоге получает и свое философское объяснение в рамках авторской идеи «общества непотребления» (миниатюра от 09.04.2009).
22.10.2009. Так вот. Когда я был маленьким дурацким мальчиком, который не выговаривал ровно половину букв русского алфавита (тридцать три делите пополам без дробей сами – это не моя проблема), я читал книжки из замечательной серии про всякую географию – Тура Хейердала, Пири и Амундсена, Обручева и этого, как его, забыл фамилию, который залез на Эверест, а потом отстригал у себя ножницами пальцы на ногах. Я с наслаждением читал про закупку где-то в Перу бальсовых бревен, съеденных со слезами на глазах собак, и про не то норвежца, не то датчанина, который на плоту Кон-Тики пошел на корму посрать и получил по жопе акульим хвостом.
И верил я тогда, что жизнь моя бесконечна и я тоже буду отстригать у себя на ногах пальцы и плыть куда-то без руля и без ветрил на соломенной лодке…
Иногда приходится слышать, что творческие люди ощущают приход своей смерти. Дмитрий Горчев, по всей видимости, был из числа таких людей, и за два с небольшим месяца до своей смерти написал следующий текст, который мы в знак уважения перед тончайшим даром автора приводим практически полностью[6]6
Это произведение Дм. Горчева издавалось и в художественной периодике: [Горчев 2017].
[Закрыть].
08.01.2010. Про смерть.
Про смерть я задумался однажды при очень неподходящих обстоятельствах.
Было мне лет девять и проводил я летние каникулы у тетки в деревне. И вот как-то вечером я сидел и читал книжку Тура Хейердала, не то Аку-Аку, не то Кон-Тики, а тетка сидела на койке напротив и стригла ногти на ногах.
Я оторвался на минуту от книжки и неожиданно подумал: «А ведь она когда-нибудь умрет» (тетке сейчас, кстати, сильно за девяносто и она по сей день жива, чего и далее ей желаю). Нет, я конечно, знал и раньше, что люди умирают, но знал как-то теоретически. Ну, помирают где-то там, а может и не помирают. Взрослые эти вообще чего только не напридумают.
А тут вдруг я понял, что это правда: вот сидит, допустим, тетка, сидит – и вдруг хлоп! и померла.
Мысль меня эта почему-то так поразила, что я дня два ходил такой потрясенный, что у меня даже разболелся зуб. И болел он целую неделю непрерывно. Мне время от времени засовывали в рот таблетку анальгина и тогда зуб болел слабее, но боль все равно никуда не уходила, а просто пряталась за соседним зубом и я уже не мог ничего разобрать – где боль, а где смерть.
А еще некоторые говорят, что будто бы детство – счастливая пора. ‹…›
А потом я однажды проснулся днем: а зуб не болит! То есть вообще нигде не болит. Умер наверное.
Я шатаясь выполз в огуречник, выдернул морковку, вытер об штаны и съел. Потом съел очень твердое и кислое яблоко – нет, все равно ничего не болит.
И солнце эдак светит, как светило потом всего еще в один счастливый день, когда я уволился с должности школьного учителя. И какая, скажите, смерть, когда такое солнце?
Я лег на траву под яблоню и впервые в жизни увидел богомола. Был он смешной, зеленый и было совершенно непонятно, почему это существо не разваливается и на чем вообще эти спички держатся.
Богомол посмотрел на меня мрачно, тяжело вздохнул и убрел куда-то: видимо размножаться.
Этот внешне простой текст написан по строгим диалектическим правилам, что еще раз подтверждает наш тезис об имманентной риторичности творчества Горчева. Здесь звучит собственно тезис (о смерти), который три раза затухающими импульсами поднимается в тексте. В нем звучит и антитезис – о живой боли, о жизни, о солнце. В нем, наконец, в комической тональности звучит синтез, следуя которому нелепый и мрачный богомол, комически символизирующий смерть, отправляется творить жизнь.
И первый же читательский отклик в блоге Горчева улавливает и развивает эту комическую тональность:
Неудивительна мрачность богомола – у него процесс размножения сопряжен со смертельным риском.
Другого читателя ироническая лиричность Горчева настраивает на свой собственный лирический лад:
Я четко запомнила этот момент осознания смерти. Мне было около 4-х. Я должна была днем спать. Был солнечный день, а мама мыла пол. И вдруг я поняла, что мама умрет. Вот как Вы поняли, что умрет тетка. Какое-то время мне было страшно. Очень. Я тихо-тихо поплакала в подушку, я почему-то поняла, что маме об этом никак нельзя говорить. Потом солнце и свежесть все победили, и я заснула. Удивительное существо человек.
Мама жива до сих пор.
Подытоживает дискуссию и завершает самый горчевский текст краткая и точная реплика, раскрывающая формулу художественного смысла произведения и одновременно дающая ему высшую читательскую оценку:
Зуб умер, а солнце все равно светит, и будет светить. Круто написано, или просто вовремя. Спасибо.
Незаконченность авторского текста и незавершенность авторского произведения, обращенного в открытый космос блогосферы, тем не менее не приводят к неполноте коммуникации между людьми, прячущимися за различными «никами»-псевдонимами. Именно они, участники блога, своими разнохарактерными и разнонаправленными комментариями коллективно завершают авторское незавершенное произведение, вместе приходя к итоговым смыслам и оценкам.
Глава 3. Литературный журнал как сюжетное высказывание
В этой главе предметом нашего внимания выступит смысловая конструкция литературно-исследовательского журнала «Просодия», который с 2014 г. выходит в Ростове-на-Дону. Мы рассмотрим тексты и композицию первого номера журнала [Prosödia 2014].
В редакторском введении, написанном В. И. Козловым, отчетливо звучат три смыслообразующих соположения сюжетогенного характера.
Первое: «поэзия – университет». Текст констатирует одинаковые судьбы первого и второго начал и их неизбежное схождение в пространстве воспринимающего сознания молодых интеллектуалов, в связи с чем ставится проблема языка современной поэзии, который университетской молодежи нужно помочь освоить.
Второе соположение: «поэзия – филология». Актуальная поэзия нуждается в адекватном и методологически глубоком и точном филологическом прочтении. «Наша базовая ценность – установка на добросовестное прочтение произведения, что особенно важно во времена, когда писателей – временно – больше, чем читателей. Условие ответственного прочтения – понимание историко-литературных сюжетов и жанровых традиций. Это и есть умение читать текст, это то, в чем, как никогда, нуждаются сегодня стихи, это – культура чтения» (с. З)[7]7
Здесь и ниже цитируется текст журнала [Prosödia, 2014] с указанием страниц в круглых скобках
[Закрыть].
Данное соположение орнаментально подкреплено автоинтерпретацией названия издания: «Само название нашего журнала воплощает изначальную связь поэзии и науки о ней. Prosödia – латинская калька с др.-греч. προσωδία – "акцент, ударение". У русского слова «просодия» два значения: звуковая организация речи, находящая наивысшее воплощение в стихе, а также стихосложение, наука о стихе» (с. 4).
Третье соположение: «опора на отечественную традицию – тенденция заимствования» поэтического опыта из других традиций. Устремленность нового журнала связывается редакцией с надеждой на освоение «собственного – великого – поэтического наследия» (с. 4).
Ключевым текстом раздела «Поэзия», на наш взгляд, выступает стихотворение Олеси Николаевой «Сага», являющееся лирическим осмыслением экзистенциального феномена пошлости человеческой судьбы в аспектах ее ограниченной и предсказуемой изменчивости. «…Пять лет проходит», «…Десять лет проходит», «…Двадцать лет проходит» – ничего не изменяется в смысле жизни героя, меняются только житейские варианты и версии его судьбы, с тем чтобы снова не осуществиться.
Многовариантность, сценарность, стандартность – вот те смыслы, которые входят в сюжет журнала как точки одновременно притяжения и последующего принципиального отталкивания. Журнал – вариант нестандартного сценария дискурсного события в сфере современной поэзии и ее актуального осмысления и изучения.
Сюжетно продуктивен раздел «Интермедия».
Интермедия-1 – фотографическая. Первые значения самого термина подчеркивают скрытый комизм презентации петербургского фотографа Михаила Малышева, представленного во вводной заметке в шутовской шапке с ушами и усами. Сами фотопортреты также содержат комическую нотку. Это и отражение тяжеловатого утра на лице одного из портретных персонажей с прикрытым правым глазом, и следующий за ним портрет девушки – снова с закрытым волосами глазом, но уже левым. Это и портрет старика одновременно анфас и в профиль – и снова в центре внимания глаз, в профиле левый, одновременно анфас – правый, и портрет курящего как бы вообще без глаз, без взгляда, потому что задуманное нечеткое изображение еще и подернуто табачным дымом. Это, наконец, и финальный портрет девушки с лицом в пол-оборота, и вновь один глаз спрятан в тени, а второй полуприкрыт и не явлен, по сравнению с линиями волос, носа, губ и в целом овала лица. Но это не смешное комическое, а серьезное, даже горькое комическое.
Интермедия-2 – живописная. Журнал, как сказано в резюме, публикует несколько иллюстраций «к посмертному сборнику стихов Ю[рия] А[ндреевича] Жданова (1919–2006), крупного российского ученого-химика, ректора Ростовского госуниверситета в 1957–1988 годы» (с. 75). В фокусе работ художника один и тот же диалогический образ – человек и звездное небо (в четвертой – зверь, волк и звездное небо, но это сцепление не нарушает, а лишь подчеркивает общую логику образности автора, сополагающего земное живое и неземное звездное, вечное и недостижимое).
Интермедия-3 посвящена графическим работам Леты Югай. В смысловом центре цикла находится характерный образ Гиппокампуса – крылатого коня с рыбьим хвостом. Возникает нехитрое искушение интерпретатора соотнести этот образ с поэзией и стихией полета морской волны как всепроникающей сущности. В то же время синтетичная фактура мифического животного, соединяющего воздух, воду и землю, как нельзя лучше отвечает идее синтеза поэтического творчества, живого отклика на него и рассудительного итога, заложенного в основу дискурсной конструкции самого журнала.
Замечательные стихи белорусского поэта Андрея Хадановича в переводах Игоря Белова подготавливают читателя в разделе «Переводы» к восприятию подборки стихотворений современных грузинских поэтов – «выборки из только что вышедшей в издательстве ОГИ двуязычной Антологии новой грузинской поэзии (М.: ОГИ, 2014)», как указано в аннотации.
В рамках интерпретации журнала как сюжета, исподволь сопровожденного комическими смыслами, мы бы выделили – на фоне тяжело-серьезной тональности грузинской подборки в целом – стихотворение Шоты Иаташвили «Грузинский кофе» (перевод Владимира Саришвили), заканчивающееся тезисами, против которых не поспоришь: «…Грузинского кофе не сыщешь – как ни был бы прыток, / грузинский фасованный чай – ароматный напиток» (с. 91).
Важен для понимания смысловой палитры журнала концепт, развернутый в разделе «Отклики» в рецензии В. И. Козлова на книгу Виталия Пуханова, – это концепт верлибра как проникающего внутрь человеческой экзистенции текста: «…у нас прижился, скорее, тот извод верлибра, который тяготеет к сюрреалистической миниатюре. ‹…› Но есть и другая традиция, основанная не столько на парадоксальной емкости картинки, сколько на предельной психологической точности наблюдений за человеком. Верлибр первого типа тяготеет к внешнему миру – даже человека он превращает в элемент пейзажа. Верлибр второго типа, напротив, собирает образ человека из всего, до чего может дотянуться. Первый ближе к афористичной антологической надписи, за строками которой мы видим глядящего издалека автора, второй – ближе к рассуждению…» (с. 51–52).
Представляется, что одна из ключевых стратегий построения сюжетного высказывания самого журнала «Просодия» метафорически сопряжена с данным концептом. Журнал собирает образ поэзии «из всего, до чего может дотянуться» и не через «афористичное» называние, как то часто делает поверхностная критика, а через «рассуждение».
В силлабо-тонических текстах В. Пуханова автор рецензии видит иронию и даже ерничество и констатирует несочетаемость этого версификационного модуса с сокровенными интенциями пухановского верлибра – и это тоже смысловой ключ к пониманию самого журнала. Журнал серьезен и проникновенен к уму читателя, хотя и позволяет себе в интермедиях затрагивать комическое – но, как мы отмечали выше, комическое в его серьезном модусе.
Еще одна рецензия, на наш взгляд, имеет значение для понимания смысловой полифонии журнала – это развернутый отклик на издание произведений С. Е. Нельдихена «Органное многоголосие». Органное многоголосие – это неотъемлемая черта и самого журнала, в котором на равных правах звучат голоса поэтов и их критиков, и подытоживающих их диалоги исследователей.
Этот текст важен еще и как открывающий серию размышлений о художественном творчестве ушедших авторов и эпох, самых разных, близких и далеких.
Таковы рецензии на книгу «Поэтический мир прерафаэлитов. Новые переводы» и на сборник очерков и эссе Евгения Головина «Где сталкиваются миражи».
Любопытно, что редактор присваивает рецензиям разных авторов свои собственные названия, выводя тем самым данные тексты из стандартного жанрового ряда в смысловую метаструктуру, имеющую непосредственное отношение к нашей проблеме. Это целенаправленное движение в сторону построения диалогического коммуникативного пространства журнала. Каждый редакторский метатекст заключает в себе потенциальное сюжетное движение смысла: «Раздвоение Пуханова», «Седьмая часть света» (о книге стихов Ирины Ермаковой «Седьмая»), «Десятая муза Сергея Нельдихена», «Бунт архаистов» (об антологии поэтов-прерафаэлитов), «Диалог переводчика с идеологией» (о Евгении Головине), «Идеальный поэт» (о книге Б. М. Гаспарова «Борис Пастернак: по ту сторону поэтики (Философия. Музыка. Быт)»), «Окуджава в борьбе со своей репутацией».
Раздел «Штудии» открывается краеугольной для журнала статьей В. И. Козлова о творчестве Евгения Рейна. В этом тексте есть два опорных концепта, также отвечающих, на наш взгляд, сюжетной архитектонике самого журнала: «Творчество Рейна не столько путь, сколько единый сгусток, который сам автор в названиях пытается схватить с разных сторон» (с. 83); «Сюжетика же, ее реконструкция, позволяет увидеть, насколько всё взаимосвязано – или бессвязно – в тексте или в творчестве поэта. И если бессвязно, то этого не скрыть, а если взаимосвязано, то появляется возможность увидеть происхождение уникальных черт авторского языка» (с. 84–85).
Журнал, если воспользоваться словами автора статьи, – это также «единый сгусток», в котором все «взаимосвязано», и это позволяет реконструировать его «сюжетику».
Аргументом, окончательно выделяющим журнал в разряд неординарных событий современной литературно-критической периодики, становится публикуемая в завершение текстового ряда поэма Чьело Д'Алькамо «Прения» в переводе современного российского поэта и переводчика Александра Триандафилиди, что окончательно свидетельствует о фундаментальном поэтологическом характере нового периодического издания.
Журнал «Prosödia», таким образом, заявляет себя как журнал о поэзии вообще и в целом, что предполагает его дальнейшее антологическое и одновременно аналитическое развитие. И онтологическое также.
Глава 4. «Воображаемая словесность» Ю. С. Степанова: от героя к сюжету
Последняя книга Ю. С. Степанова «Мыслящий тростник. Книга о „Воображаемой словесности“» (Калуга, 2010) представляет собой отчаянную и одновременно удавшуюся и поэтому уникальную попытку выхода авторского голоса за рамки строгого научного дискурса. Сделаем предположение, что в его рамках автору, подводившему итоги всей своей жизни, было уже не то чтобы тесно, но малосмысленно.
Дискурс любой гуманитарной научной дисциплины, сколько бы ни была она внешне свободной в силу своей «неточности» (в противоположность «точным» наукам) – будь то история, литературоведение, искусствознание, отчасти лингвистика – так или иначе всё равно ограничивает, замыкает волю автора, как ограничивает движения тела одежда. Научный дискурс может быть не строг, но он обязательно плотен и тяжел, как плотна и тяжела шинель, и в этом все дело. В дискурсе науки нельзя быть откровенно легкомысленным, нельзя смеяться или плакать, нельзя занозить себя воспоминаниями и обращаться к умершему или несуществующему.
Последовательная реализация двух принципов, несвойственных конструкции научного дискурса, помогает Ю. С. Степанову преодолеть его рамки. Первый принцип можно назвать расподоблением, разведением инстанций автора и героя.
Преодоление дисциплинарного формата невозможно вне инициативного начала личности. Поэтому книга Ю. С. Степанова глубоко личностна. Она предельно откровенна, вычерпывает и предъявляет читателю глубины авторского «я». Но тут есть одна значимая и закономерная непростота, хотя и вполне очевидная с позиции теоретической поэтики. Всякий личностно ориентированный текст, будь то мемуары или письма, или, тем более, некое лирическое целое, отчуждает реальную и собственную личность биографического лица до статуса автора. «Воображаемая словесность, – утверждает Ю. С. Степанов, – …это некоторый собственный опыт автора»[8]8
Здесь и далее текст книги цитируется по изданию: [Степанов, 2010], с указанием страниц в круглых скобках.
[Закрыть] (С. 3). Об этом многие писали (и в первую очередь М. М. Бахтин), и это теперь, в принципе, является общим местом теории литературного творчества. Книга Ю. С. Степанова не исключает, а только подтверждает общее правило. Механизм отчуждения авторского «я» от биографической личности неизбежен, закономерен. Иначе просто не получится законченного, завершенного произведения. А перед нами именно произведение.
Но одновременно происходит противоположное: биографическое лицо отчуждается до статуса героя. Поэтому в книге Ю. С. Степанова инстанция «я» находится в процессе сложного и динамического взаимодействия трех указанных выше начал – собственно биографического «я», авторского «я» и «я» героя, неизбежного, своего собственного героя, которого каждый из нас в какой-то мере, полной или неполной, вынашивает в себе и предъявляет, как минимум, самому себе.
Вот один очень показательный пример. В главе «Под знаком „Экзистенциала“» есть небольшой раздел 11, озаглавленный так: «Под влиянием Л. Толстого „Записки человека, знающего, что умирает“. Ю. Степанов (личный опыт)». Ввиду краткости этого текста приведем его полностью:
Примером для текста в «Воображаемой словесности» для меня служит Лев Толстой, – то, что опубликовано в нашем разделе выше (из «Записок сумасшедшего» Л. Н. Толстого – И. С).
В моем случае реально это было так: у меня закружилась голова, и я стал плохо ориентироваться, говорят даже, что я упал со страшным грохотом, будто бы даже это было похоже на падение металлических музейных доспехов. К счастью или к несчастью, наше место находится в Москве, около Исторического музея, и врачи воспользовались для описания моего состояния известным им термином – падение доспехов. Короче, меня доставили в одну знаменитую (и очень хорошую) больницу, и вот я здесь как «доставленный по скорой помощи» с «грохотом упавший». Я понял, что «это я умираю».
Но для существа книги «О воображаемой словесности» важно не это, а то, что я понял, что значит умирать. А теперь посмотрите, как в «Словесности» понял это Марсель Пруст (С. 57).
Данный текст удивительно точно демонстрирует отслоение феномена «я» от его прямой биографической субстанции и превращение его, с одной стороны, в героя, пусть и автобиографического, а с другой стороны, облечение его высшим и отстраняющим статусом автора.
Вот позиция героя характерно ставится в кавычки, которые отчетливо оттеняют ее, выделяют в общем дискурсе книги: «Короче, меня доставили в одну знаменитую (и очень хорошую) больницу, и вот я здесь как „доставленный по скорой помощи“ с „грохотом упавший“. Я понял, что „это я умираю“». А вот проявленная в тексте позиция автора: «Примером для текста в „Воображаемой словесности“ для меня служит Лев Толстой, – то, что опубликовано в нашем разделе выше»; «А теперь посмотрите, как в „Словесности“ понял это Марсель Пруст».
Стремление выскользнуть, выбраться из кожи, из чешуи биографического (автобиографического) бытия свойственно авторскому голосу на протяжении всей книги. Она и начинается своего рода «декларацией независимости» авторского «я» от несвободы биографизма:
…мне сказали:
– Вы написали, что не родились от родителей. Но это документ, «Автобиография»!
– Не написал, а сказал в докладе, это была цитата. Из великого автора.
– Но Вы не великий автор.
– Нет.
– Значит, все-таки озвучили!
– Да, виноват, озвучил. И не говорите, пожалуйста, так громко, я не глухой.
– Но все-таки напишите объяснение. Можно своими словами. Кто Ваши родители? От кого Вы родились?
– От кого-то в ментальном мире (С. 5).
Герой Ю. С. Степанова родился «от кого-то в ментальном мире» – и этот мир значил для него, а равно и для самого автора, несравненно больше мира реально-биографического.
Обратим внимание на то, что инстанция автора также эксплицируется в тексте, и тем самым оказывается неизбежно соотнесенной с инстанцией героя. Сопутствует этому своего рода эффект самоотражения, что-то вроде двух зеркал, поставленных друг против друга: «В этой книге кроме „Категорий“, может быть, существует что-то, что принадлежит тексту (и сознанию Автора), внутри чего и действует сам Автор со своим текстом» (С. 9). И следом – пересечение и смыкание автора с героем:
…умножения сущностей удалось избежать. Три наших категории – это не так много. У Аристотеля было десять! (это еще говорит автор – И. С).
Отличие моего подхода только в том, чем я окружен и пропитан. А пропитан я Москвой и ее окрестностями. (В меньшей степени Парижем.) ‹…› Мне и моим друзьям приходится иной раз (не часто) ночевать под мостом (кажется, в поэзии это уже традиция, Блок бродил под мостами, особенное в дождь и слякоть) (С. 10; это уже слова не автора, а его героя – И. С).
Второй ключевой принцип, выводящий произведение Ю. С. Степанова за пределы научного дискурса, – это принцип сюжетной организации текста. Конечно же, этот принцип сопряжен с первым, и более того, является необходимым условием его осуществления.
Во вводной первой главе мы определяли основной принцип сюжетного построения как принцип смыслового со– и противоположения различных аспектов произведения. В системе эпического произведения это в первую очередь нарративные презентации событий, составляющих повествование. В системе лирического произведения это, как правило, стихотворные синтагмы и вложенные в них парадигмальные метафоры. В книге Ю. С. Степанова это, как правило, отдельные тексты малой формы, вполне самостоятельные, самодостаточные, связанные чаще не логическим движением мысли, а непрямым ассоциативным ходом воспоминаний и переживаний. Как замечает сам автор: «…наша книга не поддается нормальному разделению на главы» (С. 38). Это зарисовки, словно бы записи из несуществующего дневника, напоминания самому себе, и только потом уже – всем иным. Это сюжетный, а не логико-тематический текст. Это текст, по определению автора, «воображаемой словесности», главная черта которой – «не игра воображения, а полная свобода: „Что хочу и как хочу, – так и пишу. „Общепринято“ – „не общепринято“, – не важно» (С. 3). Важно другое – свобода сочленения смыслов, свобода сюжетосложения.
Так, в разделе «Под знаком „Экзистенциала“» сюжетная парадигма начинает строиться с текста о летчике Викторе Талалихине. Текст носит название «„Экзистенциал с человеческим лицом“. Виктор Талалихин. 1941 год. Геройство и знак беды». Последнее словосочетание особенно важно. Нам открывается сюжет бедового существования, и открывают его именно эти смыслы – геройства и собственно беды. Герой Ю. С. Степанова сталкивается с этими смыслами в своем московском военном детстве: «Мы, москвичи, даже все московские мальчишки тех лет знали его (Талалихина – И. С.) как „своего героя“ – он жил в коренной Москве, прямо недалеко от наших дворов» (С. 19). Эстетика «беды», «бедового» военного летчика-героя захватывала московского мальчишку, а умудренный жизнью автор связывал этот смысл с топикой русских «бедовых» мест: «Город… (откуда приехал Талалихин – И. С.) был „бедовый“ по своему прошлому: прежде на месте Вольска была слобода Малыковка, основанная «пришлыми людьми» (попцовой вольницей). Во время пугачевщины вся встала на сторону самозванца» (С. 19). Смысловой вектор «бедовости» сопровождал героя Ю. С. Степанова с юных лет, поэтому и Талалихин с его «бедовым» подвигом запал в душу мальчишке. Сама «Воображаемая словесность» – если хотите, книга также совершенно бедовая.
В конструировании сюжета очень важны синтагматические связи и отношения, несмотря на то, что сюжет как парадигма смыслов в конечном счете преодолевает синтагматику. Но оттолкнуться ведь нужно от чего-то. От сопоставления – к противопоставлению. От соседства – к родству или неравенству. Сам Ю. С. Степанов смыслопорождающую роль синтагматики текста определяет в формуле «сплошности текста»: «Сплошность не означает тождественности всех частей текста. Что после чего, – последовательность разделяет и играет роль» (С. 83).
В книге Ю. С. Степанова смыслы «беда» и «бедовое» граничат со смыслами «смерти» («Скончалась Софья Владимировна Герье…») и застарелости («Это был деревянный старинный дом… Всё было пропитано запахом сухого дерева и лета. Возможно, они где-то тут держали еще с прошлого года бессмертник или пижму», а в пустой комнате «бесшумно передвигались какие-то старухи в черных платьях до пят»). И венчает эту конструкцию «огромный купеческого образца деревянный сундук», такой, на которых «из-за нехватки „жилплощади“ в Москве… поселяли женщин („прислугу“) на кухне»).
Сундук был вдвойне непростой. Во-первых, на дне его «лежал слой явно старинных книг». Снова юного героя – с его «румяной физиономией» и розовыми щечками» – совершенно необоснованно и абсурдно тащит, влечет к себе старость! Во-вторых, на дне сундука прячется смерть и невозвратность: «…Но если у вас тут будут девушки, – будьте осторожны, не давайте им перегибаться внутрь сундука. Две уже так перекинулись и вниз головой!» (С. 22–23). Однако это смешной итог, в своем сюжете похожий на смерть хармсовских старух, вываливавшихся из окон, – поэтому итог ненастоящий.
Удивительно, но смыслы несопрягаемых «юности» и «старости» автор соединяет в образе своего учителя Д. Е. Михальчи: «…Так он и остался в моей памяти как символ „вечной молодости-старости“, стоящим возле калитки филологического факультета» (С. 24).
Следующий фрагмент, наполненный воспоминаниями о Н. Н. Мельниковой и ее библиотечном мире, вновь актуализирует предельно значимое для автора, как мы уже начинаем понимать, со– и противоположение смыслов «старого», «прежнего» и «нового», «юного», которое представляет герой. Теперь все, в том числе и многие филологи, говорят «пергамент» – а раньше говорили «пергамен». И герою книги, уже пожилому профессору и академику, в лицо «хрипло хохочет» редакторша, упрекая его в плохом зрении – ведь он «без конца пропускает в слове „пергамент“ и производном букву „т“» (С. 28). Мир «пергаменов» и других рукописей и редких книг (тоже, разумеется, «древних и старинных») сопровождает Наталья Николаевна Мельникова, «более чем пожилая, уже старая женщина» (С. 27), которая угощает юных студентов «смоквой», «особым угощением для разных приятных домашних дел». И снова – для пожилых, старых: «Когда взрослые или пожилые люди (бабушки особенно) приходили в гости к детям, то ни конфет, ни жидкого варенья (на блюдечках) давать им не полагалось. Смокву – пожалуйста» (С. 29).
Мы начинаем понимать, что автор пытается выразить свой собственный глубокий, экзистенциальный (не зря же под знаком «экзистенциала») конфликт. Это конфликт воспоминаний и живущего в них юного героя, только вступающего в мир взрослой жизни, науки, знания, людей, – и сопряженного с окончательной авторской позицией героя, пришедшего к итогу своей жизни. Этим конфликтом, как лучом, отраженным кристаллом, пронизаны страницы книги и ее смыслы. Это ее первый сюжет.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?