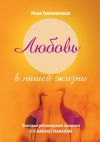Читать книгу "Музыкальная поэтика. В шести лекциях"

Автор книги: Игорь Стравинский
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Игорь Федорович Стравинский
Музыкальная поэтика. В шести лекциях
Igor Stravinsky
POETICS OF MUSIC
In the form of six lessons
Публикуется с разрешения издательства Harvard University Press (США) при содействии Агентства Александра Корженевского (Россия).
© President and Fellows of Harvard College, 1942, 1947, 1970
© Перевод. ИП Макеева Е. П., 2020
© Издание на русском языке AST Publishers, 2021
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
***
Игорь Федорович Стравинский (1882–1971) – композитор, дирижер, пианист, один из величайших музыкантов XX века.
Предисловие Йоргоса Сефериса
[1]1
Йоргос Сеферис (1900–1971) – греческий поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе, дипломат. – Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечания переводчика.
[Закрыть]
Если бы я мог свободно выбирать, где бы хотел находиться в 1939/40 учебном году, то присоединился бы к молодой аудитории Игоря Стравинского в Гарвардском университете. Возможно, я унаследовал нечто из традиций старинных средневековых гильдий. Именно в этом духе – с позиции ремесленника ушедшей эпохи – я понимаю слова Стравинского, когда он хвалит «несравненное инструментальное письмо Баха» и отмечает, что можно ощутить запах канифоли[2]2
Смычок натирают канифолью для его лучшего сцепления со струнами, что способствует извлечению более четкого и чистого звука.
[Закрыть] его скрипок и почувствовать вкус язычков гобоев[3]3
Igor Stravinsky and Robert Craft, Conversations with Igor Stravinsky (Doubleday: New York, 1959). P. 31. – Примечание иностранного издателя.
[Закрыть]. И в том же самом духе осмелюсь сказать, что заветы именитых мастеров могут иметь не меньший вес, чем их творения.
С того момента как этот великий композитор читал лекции в Гарварде, собрание сочинений о его жизни и творчестве пополнилось важными страницами. Я имею в виду его «Диалоги» с Робертом Крафтом[4]4
Роберт Крафт (1923–2015) – американский дирижер, музыкальный критик, биограф И. Ф. Стравинского.
[Закрыть], который сослужил Стравинскому ту же службу, что и молодой Эккерман[5]5
Иоганн Петер Эккерман (1792–1854) – немецкий поэт и литератор, исследователь творчества И. Ф. Гёте, его друг и секретарь.
[Закрыть] – Гёте. И все же я должен подчеркнуть – и настаиваю на этом, – что гарвардские «Лекции», не заменившие в свое время книгу Chroniques de ma vie[6]6
«Хроника моей жизни» – автобиография Игоря Стравинского.
[Закрыть] (Париж, 1935 год), лишь обогащаются новыми размышлениями о музыке и воспоминаниями, которыми Стравинский с тех пор с нами поделился, и ни в коем случае не устаревают.
Эти шесть лекций были опубликованы на французском языке под названием Poétique musicale sous forme de six leçons[7]7
«Музыкальная поэтика в шести лекциях» (фр.).
[Закрыть] и принадлежат к выдающейся серии лекций Чарльза Элиота Нортона по поэтике в Гарвардском университете. Первоначальный текст давно не печатается и сейчас уже недоступен.
Стравинский рассказывал, как он был благодарен, что смог проверить черновик этого текста вместе со своим другом Полем Валери[8]8
Поль Валери (1871–1945) – французский поэт, прозаик, философ.
[Закрыть], так как французский для него неродной язык[9]9
Igor Stravinsky and Robert Craft, Memoirs and Commentaries (Faber and Faber: London, 1960). P. 74. – Примеч. иностр. изд.
[Закрыть]. Это сотрудничество двух приверженцев точности поистине очаровательно. Не менее очаровательна и поучительна и другая деталь, которой музыкант поделился с нами: «Даже сейчас, спустя полвека после того, как я покинул мир, говорящий на русском, я по-прежнему думаю по-русски, а на других языках говорю, переводя с него»[10]10
Igor Stravinsky and Robert Craft, Expositions and Development (Faber and Faber: London, 1962). P. 18. – Примеч. иностр. изд.
[Закрыть]. Вавилонская башня и дух стремления к единству, я думаю, несовместимы.
Стравинский в Гарварде напоминает мне Поля Валери. Когда я учился в Париже примерно году в 1922-м, Валери очень много значил для меня. И позднее, когда я говорил с людьми старше меня, которые знали его, я всегда бывал тронут: они все любили Валери. Я никогда не забуду один осенний вечер в крошечном кабинете Т. С. Элиота в издательстве «Фабер и Фабер», когда поэт, написавший «Квартеты»[11]11
«Четыре квартета», цикл из четырех поэм Томаса Стернза Элиота.
[Закрыть], заканчивая наш разговор о Валери, произнес: «Он был настолько умен, что в нем вообще не было тщеславия».
И сейчас, когда пишу эти непритязательные строки, чтобы отдать дань уважения музыканту нашего времени, к которому всю свою жизнь испытываю сильную привязанность, я вспоминаю фразу из одного из писем Валери: «…en matière musicale les mots du métier ne me disent rien que de vague ou d’intimidant»[12]12
«…в вопросах музыки слова профессии не говорят мне ничего, кроме чего-то неясного или пугающего» (фр.).
[Закрыть]. Я разделяю эти чувства и потому сильно колебался, когда размышлял, стоит ли мне согласиться написать даже эти несколько слов. И мои сомнения только усилились от наблюдения самого Стравинского: «Как же обманчивы все литературные описания музыкальной формы!»[13]13
Conversations with Igor Stravinsky. P. 17. – Примеч. иностр. изд.
[Закрыть] Это действительно так, и это не проблема одной лишь музыки. Я думаю, что в заблуждение вводит перенос всякого художественного замысла из среды, которая дала ему жизнь, в какую-то другую, которая неизбежно будет чуждой. Приведу пример.
Мы все знакомы с эпизодом из книги второй «Энеиды»[14]14
«Энеида» – эпическая поэма древнеримского поэта Вергилия.
[Закрыть], в котором змеи душат Лаокоона и его сыновей. Боюсь, было бы трудно утверждать, что картина Эль Греко (ею мы имеем возможность восхищаться в Национальной галерее в Вашингтоне), изображающая эту сцену, или знаменитая родосская скульптура передают точно, без искажения, замысел Вергилия. И то же самое можно сказать и о L’Après-midi d’un faune[15]15
«Послеполуденный отдых фавна» (фр.).
[Закрыть] Стефана Малларме и великолепном музыкальном сочинении Дебюсси, навеянном этим стихотворением. У каждого искусства свои средства выразительности и свой подход к материалу, который, благодаря творческой обработке художника, воспринимается неожиданно сильнее, представая в форме, отличной от той, в какой мы видим его в повседневной жизни. Так, слова выполняют совершенно разные функции в поэзии и в быту – когда, например, с помощью них мы объясняем что-либо другому человеку. Именно умение Стравинского объяснять удивляет и восхищает – как в его гарвардских «Лекциях», так и вообще в любых изданиях, на страницах которых он появляется и которыми мы можем время от времени наслаждаться.
Однако самое мощное выражение (я использую это слово в его точном значении) Стравинского мы должны искать не в царстве слов, а в царстве звука. Именно там он излил всего себя, там он оставил свой след как великий мастер музыки, как фигура, сопоставимая по масштабу с другим столпом нашего времени, Пабло Пикассо. Их произведения – выражения этих двух людей – оставили глубокий отпечаток на нашем времени, но следует помнить, что, если мы хотим испытать катарсис, чувство освобождения, даруемые ими, нам следует обращаться к самим работам, а не к словам-посредникам – бесчисленным словам, которые были о них написаны.
Однажды я заметил – возможно, беспечно преувеличив, – что, даже если язык, на котором мы говорим, свести к одному-единственному слову, хорошего поэта все равно будет легко отличить от поэта меньшего таланта. Пищу для таких размышлений мне дал отрывок, который Стравинский приводит в конце «Поэтики», приписывая его Ареопагиту: «Чем выше чин ангелов в небесной иерархии, – говорит этот святой, – тем меньше слов они употребляют, так что наивысший из всех произносит лишь один слог»[16]16
Poetics of Music. P. 185. – Примеч. иностр. изд.
[Закрыть].
Одно слово, один слог, один звук. Цель, к которой человек стремится, но никогда не достигает. Именно пройденный путь – долгая дорога, по которой мы идем вслепую, легко ее теряя и нащупывая вновь лишь с великим трудом, – вот что трогает нас до глубины души в жизни художника.
Я благодарен за то, что должен был написать эти несколько строк, так как в прошлом месяце у меня появился повод прослушать снова, в записях, бо́льшую часть произведений Стравинского и прочесть его «Диалоги». В одном из них – в интервью, которое попалось мне на глаза как раз вовремя, – он говорит о последних квартетах Бетховена следующее: «Квартеты – это хартия прав человека». И в другом месте: «В квартетах воплощена высокая концепция свободы»[17]17
Igor Stravinsky, “Where is thy sting?”, The New York Review of Books, 12:4 (April 24, 1969); reprinted in Igor Stravinsky and Robert Craft, Retrospectives and Conclusions (Knopf: New York, 1969). – Примеч. иностр. изд.
[Закрыть]. Должен признаться, такая точка зрения вызвала у меня некоторый дискомфорт. Но внезапно я подумал о том, что время имеет особое значение для музыки и для самого Стравинского – доказательством служат его слова о «естественном дыхании» музыки, его фраза о том, что «пульсация – это бытие музыки»[18]18
Memoirs and Commentaries. P. 113. – Примеч. иностр. изд.
[Закрыть]. В тот же момент в голове вспыхнула мысль об одном квартете, который стал частью моей жизни и который я слушал бесчисленное множество раз, – Op. 132[19]19
Струнный квартет № 15 ля минор, соч. 132 Людвига ван Бетховена.
[Закрыть], особенно его третья часть – molto adagio[20]20
Мóльто адáжио – темп в музыке: очень медленно (итал.). Также название музыкального произведения или его части в таком темпе.
[Закрыть] («Благодарственная песнь Божеству от выздоравливающего; в лидийском ладу»[21]21
Так озаглавил третью часть сам Бетховен.
[Закрыть]). И тогда я наконец ясно понял, что́ Стравинский имел в виду, говоря на второй лекции, что музыка – временно́е искусство; кроме того, подумал я, наши человеческие тела подвержены влиянию времени и это терзало и терзает человечество, которое жаждет легко дышать в вечно пышущем здоровьем теле. И здесь «l’ennui de fournir du bavardage»[22]22
Скука от разговоров (фр.).
[Закрыть] Малларме заставила меня прекратить размышления.
И еще одно. Среди множества фактов из жизни Игоря Стравинского, которые приводит Роберт Крафт, есть один, особенно волнующий меня. Крафт замечает: «Я обратил внимание, что вы всегда спите с включенным светом, помните ли вы происхождение этой потребности?» Стравинский отвечает: «Ночью я могу спать, только когда луч света проникает в мою комнату из гардеробной или другого соседнего помещения… Свет, о котором я стремлюсь помнить, исходил, должно быть, от уличного фонаря за окном, выходившим на Крюков канал…[23]23
Один из каналов Санкт-Петербурга.
[Закрыть] Что бы это ни было, однако пуповина освещения по-прежнему дает мне возможность в мои семьдесят восемь снова войти в мир надежности и защищенности, который я знал лет в семь-восемь»[24]24
Expositions and Development. P. 13. – Примеч. иностр. изд.
[Закрыть].
Удивительно слышать это от человека, который откровенно заявил: «Я не люблю вспоминать детство»[25]25
Memoirs and Conversations. P. 24. – Примеч. иностр. изд.
[Закрыть].
Все же этот пусть и тусклый, но постоянный свет, впервые засиявший для Стравинского из уличного фонаря старого Санкт-Петербурга, спустя долгое время после того, как его источник уже погас, продолжал десятилетие за десятилетием, словно свет сгоревшей звезды, освещать сон композитора и давать ему детское чувство защищенности.
В прошлом году Стравинский сказал: «Как бы там ни было, я знаю, во мне есть еще музыка. И мне нужно отдавать, я не могу только брать!»[26]26
Igor Stravinsky, “Side Effects: An Interview”, The New York Review of Books, 10:8 (March 14, 1968); reprinted in Igor Stravinsky and Robert Craft, Retrospectives and Conclusions (Knopf: New York, 1969). – Примеч. иностр. изд.
[Закрыть] Боже, даруй ему многие лета! И пусть слабый свет с ночного Крюкова канала по-прежнему посещает его плодоносные сны!
Афины, май 1969 г.
1. Знакомство
Для меня великая честь находиться сегодня[27]27
И. Ф. Стравинский читал свой курс лекций в Гарвардском университете в 1939/40 учебном году.
[Закрыть] на кафедре поэтики имени Чарльза Элиота Нортона, и я с особым удовольствием хочу поблагодарить комитет, который так любезно пригласил меня выступить перед студентами Гарвардского университета.
Не стану от вас скрывать, как я счастлив впервые говорить с аудиторией, которая готова взять на себя труд сначала познать, а потом уже судить.
До сих пор я выступал в концертных и театральных залах перед скоплениями людей, которые составляют то, что мы называем публикой. Но до сегодняшнего дня я никогда не обращался к студенческой аудитории. Будучи студентами, несомненно стремящимися приобрести достоверные знания по предметам, которые предлагаются вашему вниманию, вы не должны быть удивлены, если я предупрежу вас, что конкретный вопрос, который я собираюсь обсудить с вами, весьма серьезен, по крайней мере, более серьезен, чем принято думать. Я надеюсь, вы не испугаетесь его глубины, его особой весомости. У меня нет намерения ошеломить вас, но о музыке трудно говорить, рассматривая лишь ее материальные аспекты, и я бы чувствовал себя предателем, если бы сделал музыку темой наспех подготовленной и пересыпанной всевозможными анекдотами и занимательными отступлениями речи.
Я не позволю себе забыть, что нахожусь на кафедре поэтики. И ни для кого из вас не секрет, что точное значение слова «поэтика» – это «изучение того, как сделать некую работу». Глагол poiein, от которого оно происходит, означает не что иное, как «делать». Поэтика древних философов отнюдь не служила лирическому пустословию о природном таланте и сущности красоты. В их понимании одно слово techné («техника») относилось как к изящным, так и к прикладным искусствам и применялось и к знанию, и к изучению определенных обязательных правил ремесла. Вот почему в своей «Поэтике» Аристотель уделяет особое внимание личной работе человека, организации материала, структуризации. Поэтика музыки – именно то, о чем я и собираюсь говорить с вами, то есть я буду говорить о делании в сфере музыки. Следует сразу отметить, что мы не станем использовать музыку как предлог для того, чтобы просто приятно провести время. Лично я слишком хорошо осведомлен об ответственности, возложенной на меня, чтобы не понимать всей серьезности поставленной передо мной задачи.
Итак, если я уже щедро вознагражден, имея возможность говорить с вами, пришедшими сюда для того, чтобы взять у меня то, что я, вероятно, смогу дать, то вы, в свою очередь, я надеюсь, получите удовольствие, став свидетелями некой музыкальной исповеди.
Не тревожьтесь. Моя исповедь не будет подобна «Исповеди» Жан-Жака Руссо, и еще менее она будет подобна откровениям на сеансах с психоаналитиками, которые, скрываясь под псевдонаучной личиной, прискорбно опошляют подлинные ценности человека и его психологические и творческие способности.
Как мне кажется, моя исповедь находится где-то посередине между академическим курсом (хотелось бы обратить ваше внимание на этот термин, потому что я еще не раз употреблю его на наших занятиях) и тем, что можно назвать апологией моих личных представлений. Я использую слово «апология» не в его нынешнем значении, которое оно имеет во французском языке («восхваление»), но в значении объяснения и защиты моих собственных представлений и взглядов. Словом, имеются в виду откровения догматического характера.
Мне прекрасно известно, что слова догма и догматический, как бы редко они ни применялись к эстетическим или даже духовным предметам, не перестают задевать – а то и шокировать – иные умы, больше отличающиеся искренностью, чем силой убеждений. Именно по этой причине я настаиваю на том, чтобы вы приняли эти термины во всей полноте их законных значений. Я также советовал бы вам освоиться с ними и признать их правомерность; очень надеюсь, что у вас появится к ним вкус. Говоря о законных значениях этих терминов, я пытаюсь подчеркнуть, что применение догматического элемента в любой области деятельности, в которой он становится важным и действительно необходимым, нормально и естественно.
На самом деле, мы не можем рассматривать творческий феномен независимо от формы, в которой он проявляется. Процесс создания любой формы начинается с некоего принципа, и изучение этого принципа требует именно того, что мы именуем догмой. Иными словами, мы ощущаем потребность навести порядок в хаосе, вытянуть из переплетения возможностей и неопределенности мыслей единственную идею, с которой будем работать, и это предполагает необходимость некоторого догматизма. Таким образом, я использую слова догма и догматический, только потому что они обозначают элемент, нужный для обеспечения целостности искусства и разума, и гарантирую, что они ни в коем случае не помешают ходу нашей беседы.
Сам факт, что мы обращаемся к тому, что называем порядком – тем порядком, который позволяет догматизировать рассматриваемую нами область, не только воспитывает вкус к догматизму, но и подталкивает нас к тому, чтобы руководствоваться им в своей собственной творческой деятельности. По этой причине я и хотел бы, чтобы вы приняли этот термин.
На протяжении всего курса и по любому поводу я стану взывать к вашим чувству порядка и стремлению к дисциплине. Ибо вскормленные, наполненные и поддерживаемые позитивными концепциями, именно они составляют основу того, что называется догмой.
Сейчас же, чтобы показать вам, как будет организовано наше обучение, я должен сообщить, что мой курс примет форму лекций и ограничится развитием тезисов, необходимых для объяснения музыки. Почему я использую слово объяснение? И почему я вообще говорю о каком-то объяснении? Да потому что то, что я намерен сказать вам, не станет обезличенным изложением общих сведений, но будет объяснением музыки так, как ее понимаю я. И это объяснение не становится менее объективным из-за того, что является плодом всего лишь моего личного опыта и моих личных наблюдений.
Тот факт, что ценность и действенность такого объяснения были проверены мной на собственном опыте, убеждает меня – и гарантирует вам, – что я не просто предлагаю набор чьих-то воззрений, а скорее представляю ряд выводов, которые, хоть и сделаны одним мной, тем не менее действенны для других так же, как и для меня.
Таким образом, речь пойдет не о моих личных чувствах и предпочтениях и не о теории музыки, пропущенной сквозь призму субъективного восприятия. Мой опыт и мои исследования полностью объективны, а самоанализ подвел меня к вопросам, которыми я задаюсь для того, чтобы извлечь из своих наблюдений что-то определенное.
Идеи, которые я развиваю, положения, которые отстаиваю и которые вынес на ваше рассмотрение, чтобы отстаивать их дальше, служили и будут служить основой для музыкального творчества именно потому, что они были разработаны в ходе реальной практики. И если вы придаете хоть какое-то значение – какой бы незначительной она ни была – моей творческой работе, являющейся плодом моего сознания и моих убеждений, то тогда прошу вас поверить и в умозрительные концепции, благодаря которым моя работа родилась и которые развивались вместе с ней.
Объяснить – или разъяснить (от латинского explicare – «развернуть», «развить») – значит описать нечто, открыть его происхождение, установить связь с другими предметами или явлениями, попытаться пролить на них свет. Объяснить себя вам – это то же, что объяснить себя себе, постаравшись к тому же дать ответы на вопросы о вещах, искаженных или извращенных невежеством и злопыхательством, которые в большинстве суждений, высказываемых об искусстве, неизбежно оказываются связанными некими таинственными узами. У невежества и злопыхательства один источник, и последнее незаметно питается первым. Я не знаю, что из них более отвратительно. Само по себе невежество не преступление, конечно. Оно начинает вызывать подозрения, когда заявляет о своей искренности, ибо искренностью, как сказал Реми де Гурмон[28]28
Реми де Гурмон (1858–1915) – французский писатель и критик.
[Закрыть], едва ли можно что-то объяснить и никогда нельзя ничего оправдать. Злопыхательство же не перестает ссылаться на невежество как на смягчающее обстоятельство.
Вы легко согласитесь, что возражения и вежливая, но энергичная защита уместны в борьбе против темного сговора «невежества, немощи и злого умысла», говоря языком богословия. В этом заключается суть термина «полемика».
Итак, я обязан полемизировать. Во-первых, в связи с искажением музыкальных ценностей, о котором я только что говорил, и, во-вторых, чтобы защитить позицию, которая может показаться на первый взгляд личной, но на самом деле таковой не является. Позвольте мне объяснить второй момент: благодаря стечению обстоятельств, о котором мне хотелось бы думать как о счастливом, моя личность и моя работа с самого начала карьеры, помимо моей воли, были отмечены отличительным знаком и сыграли роль «реактива». Контакт этого реактива с музыкальной реальностью, человеческой средой и миром идей вокруг меня вызвал различные реакции, жестокость которых можно сравнить только с их произволом. Кажется, что все ошиблись адресом. Но если оставить в стороне лично мою работу, эти бездумные реакции повлияли на музыку в целом и обнажили серьезные недостатки суждений, извративших музыкальное сознание целой эпохи и лишивших силы все идеи, тезисы и гипотезы, которые выдвигались относительно одного из самых высоких талантов духа – музыки как искусства. Давайте не будем забывать, что «Петрушка», «Весна священная» и «Соловей»[29]29
Музыкальные произведения И. Ф. Стравинского.
[Закрыть] появились в период, характеризующийся глубокими изменениями, которые многое перевернули с ног на голову и взбудоражили немало умов. Не то чтобы эти изменения произошли в области эстетики или на уровне средств выражения (такого рода потрясения происходили и раньше, в начале моей деятельности). Изменения, которые я имею в виду, повлияли на общий пересмотр как базовых ценностей, так и основных элементов музыкального искусства.
Этот пересмотр, начавшийся в то время, которое я только что упомянул, до сих пор продолжается. То, что я утверждаю, очевидно и ясно читается в конкретных фактах и повседневных событиях, свидетелями которых мы являемся сейчас.
Мне известно, что некоторые считают период, когда появилась «Весна священная», революционным. Тогда свершалась революция, чьи завоевания, как говорят, сейчас находятся в процессе освоения. Я отрицаю обоснованность такой точки зрения. Я утверждаю, что было бы неправильно называть меня революционером. Когда «Весна» появилась, она вызвала много разных толков. В буре противоречивых мнений точка зрения моего друга Мориса Равеля оказалась практически единственной, отражавшей истинное положение дел. Он смог увидеть – и заявил об этом, – что новизна «Весны» кроется не в манере письма, не в оркестровке, не в техническом аппарате произведения, но в существе самой музыки.
Меня сделали революционером вопреки моему желанию. Так вот, революционные взрывы никогда не бывают полностью спонтанными. Существуют умные люди, совершающие революции со злым умыслом. Необходимо остерегаться тех, кто представляет вас в ложном свете, приписывая вам намерение, не являющееся вашим собственным. Что касается меня, то всякий раз, услышав, как кто-нибудь говорит о революции, я немедленно вспоминаю разговор, который Г. К. Честертон, по его словам, имел с владельцем гостиницы в Кале, когда сошел на берег во Франции. Владелец гостиницы горько жаловался на тяготы жизни и ограничение свобод. «Вряд ли оно того стоило: совершить три революции, чтобы каждый раз в итоге оказываться там, откуда начали», – заключил он. И тогда Честертон указал ему на то, что революция в истинном смысле слова – движение некоего объекта по замкнутой кривой, и, таким образом, всегда возвращение к тому месту, откуда это движение начинается[30]30
В английском языке слово «revolution», кроме значения «революция», имеет также значения «оборот», «виток».
[Закрыть].
В своей новизне тон работы, подобной «Весне», мог показаться высокопарным, а язык, на котором произведение говорит, – резким, но это ни в коей мере не означает, что оно революционно в самом разрушительном смысле этого слова.
Если человеку нужно всего лишь нарушить обычай, чтобы получить ярлык революционера, то тогда каждого музыканта, которому есть что сказать и который, для того чтобы высказаться, выходит за рамки сложившейся традиции, можно назвать революционером. Зачем отягощать словарь изящных искусств громоздким термином, обозначающим состояние смуты и насилия, когда есть много других слов, которые больше подходят для того, чтобы подчеркнуть оригинальность?
По правде говоря, мне было бы крайне трудно привести хотя бы один факт из истории искусства, который можно было бы квалифицировать как революционный. Искусство по своей сути созидательно. Революция же подразумевает нарушение равновесия. Говорить о революции – это говорить о временном хаосе. Искусство же – противоположность хаоса. Оно не может предаться хаосу без того, чтобы его живые произведения, да и само его существование, не оказались под угрозой.
В наши дни революционность приписывается художникам обычно с целью похвалить их – без сомнений, потому что мы живем в такое время, когда революция пользуется чем-то вроде уважения у вчерашней элиты. Поймите меня правильно, я первый признаю, что храбрость – это движущая сила прекраснейших и величайших поступков, что тем более призывает нас не ставить ее бездумно на службу хаосу и тяге к низменному из желания произвести сенсацию любой ценой. Я одобряю храбрость, я не устанавливаю ей никаких пределов. Но точно так же нет пределов и вреду, наносимому произволом.
Дабы в полной мере насладиться завоеваниями храбрости, мы должны потребовать, чтобы она не боялась безжалостного света. Мы действуем ей во благо, когда порицаем подделки, которые узурпируют ее место. Излишество портит всякий материал, всякую форму, которых касается. Оно уничтожает эффективность наиболее ценных находок и в то же время извращает вкус своих поклонников – вот почему он мечется от самых безумных сложностей к самым пошлым банальностям.
Музыкальная сложность, какой бы суровой она ни была, оправдана, пока искренна. Но чтобы среди хаоса подделок распознавать подлинные ценности, надо быть одаренным определенным природным чутьем, которое наши снобы ненавидят столь сильно за то, что сами полностью его лишены.
Наша авангардная элита, поклявшаяся вечно превосходить самое себя, требует, чтобы музыка удовлетворяла ее потребность в абсурдной какофонии.
Я говорю «какофония», не боясь, что меня запишут в обычные pompiers[31]31
Pompier – помпьерист, последователь напыщенного академизма; также пожарный (фр.). Слово «помпьеризм» (фр. pompierisme) возникло из-за сходства шлемов древнеримских воинов и чиновников, изображенных на картинах художников-академистов середины XIX века, со шлемами пожарных.
[Закрыть] или laudatores temporis acti[32]32
Восхвалители былых времен (лат.).
[Закрыть]. И, употребляя подобные слова, я уверен, что не иду против себя ни в коей мере. Моя позиция в этом отношении абсолютно такая же, какой была в то время, когда я сочинил «Весну» и люди сочли возможным назвать меня революционером. Сегодня, как и в прошлом, я остерегаюсь фальшивых денег и забочусь о том, чтобы не принимать их за чистую монету. Какофония означает плохое звучание, контрабандный товар, неблагозвучную музыку, которая не выдерживает серьезной критики. Каким бы ни было ваше мнение о музыке Арнольда Шёнберга (а он являет собой пример композитора, который развивается в направлении, существенно отличающемся от того, в котором работаю я, как с эстетической, так и с технической точки зрения), чьи произведения часто вызывали бурную реакцию или ироничные улыбки, – самодостаточный человек, вооруженный подлинной музыкальной культурой, не может не чувствовать, что композитор, написавший «Лунного Пьеро», полностью осознает, что делает, и не пытается никого обмануть. Он разработал музыкальную систему, которая отвечает его потребностям, и в рамках этой системы он в полной гармонии с самим собой, он совершенно последователен. Нельзя отвергать музыку, которая не нравится, и нарекать ее «какофонией».
Так же уродливо и тщеславие снобов, которые гордятся сомнительным знакомством с миром необъяснимого и которые наивно считают, что вращаются в достойных кругах. Они ищут не музыку, но скорее потрясение, острое ощущение, которое опьяняет и затуманивает сознание.
Итак, я признаю, что совершенно нечувствителен к очарованию революции. Весь шум, который она может поднять, не отзовется во мне ни единым звуком. Ибо революция – это одно, новаторство – другое. И даже новаторство, если оно не представлено в чрезмерной форме, не всегда находит признание у современников. Позвольте мне привести в качестве примера работу композитора, которого я намеренно выбрал потому, что его музыка, исключительное значение которой было признано уже давно и безусловно, стала настолько популярной, что звучит из каждой шарманки.
Я говорю о Шарле Гуно. Не удивляйтесь, что я остановлюсь на нем ненадолго. Мое внимание привлекает не столько сам композитор, сочинивший «Фауста», сколько пример, который Гуно показывает нам своим произведением, наиболее очевидные достоинства которого оказались неправильно понятыми, еще когда были совсем новыми, теми самыми людьми, задача которых – быть сведущими в том, о чем они должны судить.
Возьмем «Фауста». Первые критики этой знаменитой оперы отказывались признать мелодическую изобретательность Гуно, которая сегодня нам кажется доминирующей чертой его таланта. Они зашли столь далеко, что задались вопросом, имелся ли у него вообще хоть какой-нибудь мелодический дар. Они видели в Гуно «симфониста, заблудившегося в театре», «строгого музыканта», если использовать их собственные термины, и, конечно же, больше «опытного», нежели «вдохновенного». Разумеется, они упрекали его за то, что он «добивался нужного эффекта не посредством человеческих голосов, а посредством оркестра».
В 1862 году, спустя три года после первых представлений «Фауста», парижская Gazette musicale[33]33
«Музыкальный вестник» (фр.).
[Закрыть] заявила довольно категорично, что «Фауст» в целом «не является произведением мелодиста». Что касается знаменитого Скудо, слово которого было законом в Revue des Deux Mondes[34]34
«Обозрение Старого и Нового Света», или «Обозрение двух миров» (фр.).
[Закрыть], то он в том же году выразил свое мнение в следующем историческом шедевре – я никогда бы не простил себе, если бы не процитировал его вам пол-ностью:
«Месье Гуно, к своему несчастью, пребывает в восхищении от некоторых устаревших отрывков из последних квартетов Бетховена. Они – замутненный источник, из которого появляются плохие музыканты современной Германии: Листы, Вагнеры, Шуманы и даже Мендельсон, с его несколько сомнительным стилем. Если месье Гуно и в самом деле принял доктрину непрерывной мелодии, такой, как мелодия девственного леса и заходящего солнца, что составляет очарование „Тангейзера“ и „Лоэнгрина“[35]35
Оперы Рихарда Вагнера.
[Закрыть], – мелодии, которую можно сравнить с письмом Арлекина: „…что же касается точек и запятых, то я о них не задумываюсь, я предоставляю вам поместить их туда, куда вы пожелаете“, – то месье Гуно в этом случае, что, как мне хотелось бы верить, невозможно, заблудился безвозвратно».
Даже немцы подтвердили слова доброго Скудо. К примеру, в Münchener Neueste Nachrichten[36]36
«Последние новости Мюнхена», немецкая ежедневная газета, которая выходила между 1848 и 1945 годами.
[Закрыть] можно было прочесть, что Гуно не француз, а бельгиец и что его сочинения несут на себе печать не современной французской и итальянской школы, но именно немецкой школы, в рамках которой он обучался и сформировался как композитор.
Поскольку литература, которая окружает музыку со всех сторон, за последние семьдесят лет не изменилась и поскольку, несмотря на то, что музыка постоянно меняется, комментаторы отказываются учитывать эти изменения, вполне естественно, что мы должны взяться за оружие.
Итак, я намерен полемизировать и не боюсь признать это. Я буду полемизировать не для того, чтобы защитить себя, но для того, чтобы защитить музыку и ее принципы – словесно, точно так же как я защищаю их и по-иному – своими сочинениями.
А сейчас позвольте объяснить вам, как организован мой курс. Он разделен на шесть лекций, каждая из которых имеет определенное название.
Лекция, которую я только что прочитал вам, как вы без труда поймете, лишь способ знакомства. Я попытался обобщить основополагающие принципы моего курса. Вы знаете теперь, что услышите музыкальную исповедь, знаете, какой я вкладываю смысл в это понятие и что его явно субъективный характер уравновешивается моим желанием придать догматическую форму этим конфиденциальным сведениям.
Наше знакомство друг с другом под строгим руководством порядка и дисциплины не должно пугать вас, так как мой курс не будет ограничен сухим и обезличенным изложением общих представлений, но будет включать в себя настолько живое объяснение музыки, как ее понимаю я, насколько это возможно, – объяснение, данное на основе моего личного опыта, неизменно связанного с определенными ценностями.
На второй лекции мы поговорим о феномене музыки. Я оставлю в стороне неразрешимую проблему происхождения музыки, для того чтобы остановиться на самом феномене как явлении, исходящем от полноценного и гармоничного человеческого существа, наделенного чувствами и вооруженного интеллектом. Мы изучим феномен музыки как спекулятивное понятие, с точки зрения звука и времени, – и так получим диалектику творческого процесса. В этой связи я буду говорить с вами о принципах контраста и подобия. Вторая часть второй лекции будет посвящена элементам музыки и ее морфологии.