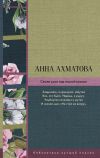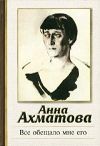Автор книги: Игорь Сухих
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
МОСКОВСКИЙ ПЛЕННИК: МАКСИМАЛЬНО ГОРЬКАЯ ЭПОХА
На Капри Горькому жить не разрешили. Теперь он поселился в Сорренто и вернулся к прежнему образу жизни: собственная работа, бесконечное чтение газет, чужих книг и рукописей, поток посетителей, существенную часть которых составляли молодые литераторы, приезжавшие из СССР.
Горький говорил, что на Капри, в первой эмиграции, он чувствовал себя «примерно, как бы в уездном русском городке». Сходный образ возникает и во время второй эмиграции, Горький признается, что четыре года (1925–1928) «прожил в тишине более устойчивой и глубокой, чем тишина русской дореволюционной деревни».
Эта тишина не только помогала «лучше работать»: в Италии Горький оканчивает роман «Дело Артамоновых» (1925), начинает писать эпическую хронику «Жизнь Клима Самгина» (1925–1936), которую так и не успеет завершить.
«Выталкивая» Горького из России, Ленин оказался прав: на расстоянии, в европейской тишине, проблемы, конфликты, ужасы послереволюционной русской жизни стали казаться менее значительными, а успехи, достижения, о которых Горький узнавал в основном из газет, напротив, значительно вырастали в масштабе.
Горький уезжал непримиримым, К. И. Чуковский, много общавшийся с ним в Петрограде, вспоминал, что тот упорно называл большевиков они и признавался: «Никогда прежде я не лукавил, а теперь, с нашей властью мне приходится лукавить, лгать, притворяться» (Дневник, 3 октября 1920 г.). С течением времени Горький психологически примиряется и практически сближается с новой властью.
После смерти Ленина писатель просит возложить к его гробу венок с надписью: «Прощай, друг! М. Горький». В воспоминаниях «В. И. Ленин» (1924,1930) вместо образа безумца, который ведет Россию к гибели («Несвоевременные мысли»), появляется другой образ, напоминающий легенду о Данко: «Нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме обезумевшего мира».
Проходит совсем немного времени – и новый вождь, И. В. Сталин, сменивший Ленина, становится горьковским личным другом и постоянным, эпистолярным и непосредственным, собеседником. «Дорогой Иосиф Виссарионович!» – начинается одно из горьковских писем. «Крепко жму Вашу лапу», – такова его концовка (29 ноября 1929 г.).
«Он верит в знанье друг о друге / Предельно крайних двух начал», – написал Б. Л. Пастернак в стихотворении «Художник» (1936), разумея, как он сам объяснял, «Сталина и себя» и сравнивая вождя с «поступком ростом в шар земной».
В случае Сталина и Горького тяготение двух противоположных начал казалось даже более естественным.
Сталин хорошо понимал значение Горького. Ему нужен был авторитет всемирно известного писателя, его обширный круг знакомств среди европейских интеллигентов, его слово, которому поверят и политики, и обычные люди.
Горький был ослеплен мечтой о построенной на разумных основаниях счастливой жизни. Поэтому, забыв о несвоевременных мыслях, раскаиваясь в них, он постепенно уверился, что новое общество наконец-то появилось, его можно увидеть своими глазами, стоит лишь пересечь границу СССР.
«Когда от жестокого разрушения революция перешла к постройке нового, Горький вернулся в Россию. То, что вызвало его отъезд, видимо, было забыто. Когда я попытался заглянуть внутрь его и узнать, что теперь думает (вернее, чувствует) „Пешков“, я услышал ответ: „У них – очень большие цели. И это оправдывает для меня все”» (Е. И. Замятин «М. Горький»).
Перед Горьким встала вечная проблема цели и средств. В тридцатые годы он начал оправдывать любые средства для достижения благородной цели.
Горький впервые посетил СССР в 1928 году (в 1921 году он уезжал еще из России). Это был год его шестидесятилетия.
В 1919 году (Горький еще не знает точной даты своего рождения) его пятидесятилетие скромно отмечается на заседании издательства «Всемирная литература». Этот вечер описал К. И. Чуковский. На юбилейные славословия Горький отвечал с иронией: «Конечно, вы преувеличиваете… Но вот что я хочу сказать: в России так повелось, что человек с двадцати лет проповедует, а думать начинает в сорок или этак в тридцать пять лет (то есть теперь он не написал бы ни «Челкаша», ни «Сокола». – Примеч. Чуковского). Что делать, но это так! <…> Я вообще не каюсь… ни о чем не жалею, но кому нужно понять, тот поймет…» Автор дневника замечает еще один забавный эпизод. Фотографируясь с его девятилетним сыном, Горький шутит: «Когда тебе будет 50 лет, не празднуй ты юбилеев, скажи, что тебе 51 или 52 года, а все печенье сам съешь» («Дневник», 30 марта 1919 г.).
Через десятилетие уже не до шуток. Шестидесятилетие Горького становится не общественным делом, а государственным мероприятием. Его особый характер отмечает еще один автор не предназначенного к печати дневника, писатель М. М. Пришвин: «Юлия Цезаря так не встречали, как Горького. <…> Надо сказать, что юбилей его сделан не обществом, не рабочими, крестьянами, писателями и почитателями, а правительством, совершенно так же, как делаются все советские праздники. Правительство может сказать сегодня: „целуйте Горького!“ и все будут целовать, завтра скажет: „плюйте на Горького!“ и все будут плевать. <…> Юбилей этот есть яркий документ государственно-бюрократического послушания русского народа» (1 июня 1928 г.).
А в конце того же года Пришвин добавит: «Читал фельетон Горького „Механическим гражданам“, в котором он самоопределяется окончательно с большевиками против интеллигенции» (7 октября 1928 г.).
На рубеже 1920-1930-х годов Горький делит время между СССР и Италией. Туберкулез, которым он болен, мешает ему жить зимой в России. Но в 1933 году он окончательно возвращается в СССР, получая в свое распоряжение предоставленный правительством бывший особняк купца-миллионера Рябушинского и дачу в Подмосковье.
Горький по-прежнему существует как человек-учреждение: создает новые журналы и книжные серии («Жизнь замечательных людей» и «Библиотека поэта» существуют и сегодня), возглавляет созданный по его инициативе Союз советских писателей, поддерживает старых и молодых авторов, разыскивает людей, которые когда-то помогали ему в молодости. Но в общественной жизни СССР собеседника Толстого и Чехова затмевает его двойник: публицист, автор газетных статей и фельетонов, поющий панегирики Сталину и неистово обличающий многочисленных врагов нового общества.
В прозе Горький давно отказался от романтических контрастов и стилистической пышности. В его поздних произведениях, особенно в мемуарах, создается объемный образ дореволюционной жизни, воспроизводятся сложные характеры, преобладает объективная манера повествования.
В горьковской публицистике последних лет, напротив, торжествует стилистика плаката, черно-белый взгляд на мир, не допускающий оговорок, сомнений, иной точки зрения. Рассчитывая на самого неподготовленного читателя, Горький не размышляет, а как гвозди вбивает в сознание запоминающиеся и оттого особенно опасные лозунги.
«Мы выступаем как судьи мира, обреченного на гибель, и как люди, утверждающие подлинный гуманизм – революционного пролетариата – гуманизм силы, призванной историей освободить весь мир трудящихся от зависти, жадности, пошлости, глупости – от всех уродств, которые на протяжении веков искажали людей труда. <…> Мы выступаем в стране, освещенной гением Владимира Ленина, в стране, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина» («Вступительная речь на открытии Первого всесоюзного съезда советских писателей», 1934). И никто уже не мог спросить писателя, как можно освободить мир от глупости, как сделать всех людей одинаково умными.
«Десятилетие 1907–1917 вполне заслуживает имени самого позорного и бесстыдного десятилетия в истории русской интеллигенции», – сказано о времени Блока, Куприна, бывших друзей Бунина и Л. Андреева («Доклад на Первом всесоюзном съезде советских писателей», 1934).
«Музыка толстых» – определен джаз, вопреки его происхождению и эстетическому значению («О музыке толстых», 1928).
Общая картина мира приобретает у Горького однозначно-плакатный вид: буржуазный ад (включая Италию, где мирно прожито столько лет) и светлый мир СССР (все недостатки которого объясняются происками «вредителей» и зарубежных врагов или «пережитками прошлого»).
«Приближается время, когда революционный пролетариат наступит, как слон, на обезумевший, суетливый муравейник лавочников, – наступит и раздавит его. Это – неизбежно. Человечество не может погибнуть оттого, что некое незначительное его меньшинство творчески одряхлело и разлагается от страха пред жизнью и от болезненной, неизлечимой жажды наживы. Гибель этого меньшинства – акт величайшей справедливости, и акт этот история повелевает совершить пролетариату. За этим великим актом начнется всемирная, дружная и братская работа народов мира, – работа свободного, прекрасного творчества новой жизни» («Пролетарский гуманизм», 1934).
Особенно устрашающий характер приобрел этот лозунг классовой борьбы, обращенный не вовне, а внутрь собственной страны. 15 ноября 1930 года две главные советские газеты – «Правда» и «Известия» – публикуют статью, заглавие которой стало лозунгом наступающего десятилетия. «Внутри страны против нас хитрейшие враги организуют пищевой голод, кулаки терроризируют крестьян-коллективистов убийствами, поджогами, различными подлостями, – против нас все, что отжило свои сроки, отведенные ему историей, и это дает нам право считать себя все еще в состоянии гражданской войны. Отсюда следует естественный вывод: если враг не сдается, – его истребляют» («Если враг не сдается, его истребляют», 1931).
Когда-то, в эпоху «Несвоевременных мыслей», Горький с ужасом цитировал матроса Железнякова, который «переводя свирепые речи своих вождей на простецкий язык человека массы, сказал, что для благополучия русского народа можно убить и миллион людей» (17/30 января 1918 г.) Теперь он сам обращается к массе с похожими лозунгами, предлагая жертвовать миллионами русских людей для будущего счастья оставшихся.
Через год в письме Сталину (кстати, в связи с разговором о М. Булгакове) Горький делает важное уточнение к первоначальному лозунгу: «Врага надобно или уничтожить, или перевоспитать» (И. В. Сталину, 12 ноября 1931 г.). Но произнесенное зажило собственной жизнью. Сталин стал соавтором горьковского изречения, заменив первоначальное истребляют на уничтожают. Но главное – он использовал лозунг для развязывания новой гражданской войны в деревне и городе. Число внутренних врагов советской власти в тридцатые годы стремительно росло. Врагом можно было объявить кого угодно.
Последние годы жизни Горького трагичны и полны тайн. Благоволение власти приобретает гомерические масштабы. В 1932 году его награждают орденом Ленина. В его честь переименовывают Нижний Новгород (теперь получалось, что Горький родился в городе Горьком). Именем Горького называют автозавод, театры, улицы, пароходы (последнюю поездку по Волге он совершает на «Максиме Горьком»).
В доме на Большой Никитской у Горького часто появляется Сталин и другие вожди. Здесь читаются литературные произведения, решаются важные государственные проблемы. Но отношения Горького с властью постепенно портятся. Кажется, он начал осознавать, что в отличие от Николая, посадившего писателя в Петропавловскую крепость, или Ленина, вытолкнувшего его за границу, новый вождь душит его в своих объятиях. Роскошный дом-особняк обернулся комфортабельной тюрьмой. Все контакты, поездки, переписка Горького тщательно контролировались.
Наблюдая эпидемию переименований, один остроумный современник предложил заодно включить в «список переименований» и всю эпоху: «Эпоха переименована в максимально горькую».
Он тяжело заболел в первый день лета. Бюллетени о его болезни две недели печатались в газетах, но для него самого готовили специальный номер «Правды», без бюллетеня. За десять дней до смерти его посетили Сталин и Молотов, о чем тоже стало широко известно.
Максим Горький умер 18 июня 1936 года. «Конец романа – конец героя – конец автора», – была его последняя фраза. После огромного траурного митинга, сопровождавшегося артиллерийскими залпами и пением «Интернационала», урна с прахом писателя была замурована в Кремлевской стене. Следующий год после его смерти историки назовут годом Большого террора. На одном из судебных процессов лечащие врачи, несдавшиеся враги, обвинялись в убийстве великого пролетарского писателя. О причинах и обстоятельствах смерти Горького и до сих пор ведется полемика.
В потоке фальшивых и искренних откликов трезво и точно прозвучал голос из Парижа одного из лучших критиков эмиграции Георгия Адамовича. Писатель следующего поколения, начинавший в среде акмеистов, Адамович, в соответствии с русской традицией, увидел в судьбе Горького драму не просто писателя, но – гражданина и человека.
«Был ли это очень большой писатель? Наиболее требовательные и компетентные из сверстников Горького оспаривали такое утверждение, оспаривают его и до сих пор. Следующее поколение отнеслось к Горькому иначе. На расстоянии открылась самая значительная в нем черта: наличие исключительной натуры, самобытной и щедрой личности. <…> В Горьком важно то, что это – первоисточник творчества. За каждой его строкой чувствуется человек, с появлением которого что-то изменилось в мире…» («Максим Горький», 1936)
Но Адамович знает о роли, сыгранной писателем в последние годы, поэтому с горечью добавляет: «…Он всегда претендовал – и претендовал основательно – на авторитет не только узкохудожественный, но и моральный… он был у самой черты духовного величия – и потерпел под конец жизни ужасное крушение…»
Максим Горький остается самой сложной и самой спорной фигурой в русской литературе XX века.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

На дне
(1902)
ГЕРОИ: БОСЯКИ КАК ФИЛОСОФЫ
В начале двадцатого века, уже получив большую известность как прозаик, Горький обращается к драматургии. «Вы знаете: я напишу цикл драм. Это – факт, – радостно сообщает он другу-издателю, которому и посвятит пьесу „На дне“. – Одну – быт интеллигенции. Куча людей без идеалов, и вдруг! – среди них один – с идеалом! Злоба, треск, вой, грохот. Другую – городской, полуинтеллигентный – рабочий – пролетариат. Совершенно нецензурная вещь. Третью – деревня. <…> Еще одну: босяки. Татарин, еврей, актер, хозяйка ночлежного дома, воры, сыщик, проститутки. Это будет страшно. У меня уже готовы планы, я вижу – лица, фигуры, слышу голоса, речи, мотивы действий – ясны, все ясно! Жаль – у меня две руки и одна голова. В этой голове все путается, в ней – шумит, как на ярмарке, порою вкатывается в один клубок, скипается в одну бесформенную груду, становится мне тогда тошно, досадно, сердце давит мысль о том, что не успеешь, а я хочу успеть. Здоровая, славная штука – жизнь! Вы чувствуете это?» (К. П. Пятницкому, между 13 и 17(26 и 30) октября 1901 г.)
Мрачные сюжеты Горький, как мы видим, задумывал в состоянии подъема, творческого воодушевления: славная штука – жизнь!
Три из четырех сюжетов задуманного цикла Горький осуществил. Не была написана только драма о деревне. Пьесой о городском полуинтеллигентном рабочем стали «Мещане» (1901). Быт интеллигенции был показан в «Дачниках» (1903) и последовавших за ними «Детях солнца» (1905). Еще одной драмой стала «На дне» (1902), главная пьеса Горького-драматурга. В ней Горький, кажется, возвращается к началу своей литературной деятельности. Однако за десять лет изменились не только жанр, но и поэтика, принципы изображения «бывших людей».
Челкаш и другие герои ранних рассказов были живописны и горды. Они с презрением относились к миру торгашей, по-аристократически носили свои лохмотья, их окружала прекрасная природа – смеющееся море, яркое солнце. Этих горьковских героев называли романтическими и сопоставляли с благородными разбойниками и таинственными беглецами романтических поэм. Персонажи множества рассказов легко сливались в обобщенный тип Босяка. Поэтому ранний Горький и получил прозвище «босяцкого Гомера».
Перенесенные из яркого роскошного пейзажа, моря и степи, в мрачную ночлежку, персонажи, кажется, потеряли прежний романтический масштаб, стали похожи на реальных золоторотцев из очерка Куприна. Они по-бытовому «пьют, дерутся и плачут». Но главное в том, что в пьесе обобщенный тип раздробляется на несколько разных характеров, людей со своей драмой и судьбой.
Население горьковской пьесы в главных чертах воспроизводит структуру русского общества. Казалось бы уравненные своим положением на нарах ночлежки, герои приносят с собой память о прошлом положении, свою историю. На дне жизни, наряду с новыми, тлеют прежние конфликты и страсти, сохраняется своя иерархия.
Дворянин Барон, свалившийся с каких-то заоблачных вершин, вспоминает о временах Екатерины, сотнях крепостных и кофе, который ему подавали в постель.
Актер когда-то под гром аплодисментов выходил на сцену под сценическим псевдонимом Сверчков-Заволжский. Сатин до убийства и тюрьмы, в которой он стал карточным шулером, вероятно, был ученым: он еще знает слова «макробиотика» и «трансцендентальный», но уже забыл их смысл. Это местная интеллигенция.
Пролетариям, слесарю Клещу, картузнику Бубнову, крючникам Татарину и Кривому Зобу, чтобы попасть в ночлежку, надо было, вероятно, просто перейти улицу.
Больше всех напоминают прежних горьковских героев, «отбросов общества», «вор, воров сын» Васька Пепел и сапожник Алешка, принципиальный бродяга, отвергающий все общепринятые законы жизни: «На, ешь меня! А я – ничего не хочу! Я – отчаянный человек! Объясните мне – кого я хуже? <…> Я – пойду… пойду лягу середь улицы – дави меня! Я – ничего не желаю!»
А возвышаются над всеми страшная семья мелких собственников, капиталистов, хозяев здешней жизни: Костылев, его жена Василиса, и поддерживающая здешний порядок власть – полицейский Медведев.
Герои драмы также довольно отчетливо распределяются на три поколения.
Костылев, Медведев – старики, приближающиеся к концу жизненного пути, они живут только сегодняшним днем.
Основная группа 35–40-летних персонажей еще строит планы, хотя понимает, что в жизни уже трудно что-то изменить. Это горьковские отцы, хотя в большинстве они не имеют ни семей, ни детей.
Пепел, Настя, Наташа ждут, мечтают, влюбляются, собираются вырваться, бежать из ночлежки. Это – горьковские дети, только начинающие жизнь, но уже остро чувствующие ее безысходность.
Однако это только одна сторона, одна важная характеристика горьковских героев. Наряду с возрастными и социальными различиями, индивидуальными психологическими характеристиками есть то, что их объединяет. Почти все они активно осмысляют и свое положение, и устройство жизни в целом.
Уже в ранних рассказах, наряду с картинностью, пышностью пейзажа, критика заметила тяготение автора к игре словом, афористичности. В пьесе «На дне» Горький передает тягу к острословию едва ли не всем персонажам. Образованные и необразованные, картузник и вор, даже отвратительная семья хозяев ночлежки не уступают друг другу в словесном щегольстве, умении выразиться эффектно, броско, глубокомысленно. (В этом отношении «На дне» вдруг начинает перекликаться с «Горем от ума»: там афористичность тоже была всеобщей стихией.)
«Когда труд – удовольствие, жизнь – хороша! Когда труд – обязанность, жизнь – рабство!» (Сатин) – «Работай, коли нравится… чем же гордиться тут? Ежели людей по работе ценить… тогда лошадь лучше всякого человека… возит и – молчит!» (Пепел) – «Ты везде лишняя… да и все люди на земле – лишние…» (Бубнов) – «Прохожий… тоже! Говорил бы – проходимец… все ближе к правде-то…» (Василиса) – «Разве доброту сердца с деньгами можно равнять? Доброта – она превыше всех благ. А долг твой мне – это так и есть долг! Значит, должен ты его мне возместить… Доброта твоя мне, старцу, безвозмездно должна быть оказана…» (Костылев)
Горьковские босяки – домашние философы. Они не только припоминают пословицы и поговорки, привычную мудрость столетий, но сами размышляют над проблемами, волновавшими великих мыслителей, упрощая их до чеканных афоризмов. «Все мы на земле странники… Говорят, – слыхал я, – что и земля-то наша в небе странница» (Лука). – «Нет у меня здесь имени… Понимаешь ли ты, как это обидно – потерять имя? Даже собаки имеют клички… <…> Без имени – нет человека…» (Актер)
Эта двуплановость персонажных характеристик находит подтверждение и на других уровнях художественного мира пьесы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?