Читать книгу "Диоген"
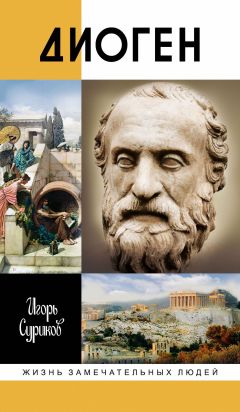
Автор книги: Игорь Суриков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Достаточно сравнить видных политиков эпохи расцвета полиса и эпохи его кризиса. Эллада V в. до н. э. породила целую плеяду государственных деятелей не просто выдающихся, но, так сказать, титанического масштаба – Мильтиада и Фемистокла, Аристида и Кимона, Перикла и продолжавшего ту же старую традицию Алкивиада. А что можно сказать в данной связи о следующем столетии? Картина несравненно бледнее. Самый крупный из политиков этого времени – несомненно, Демосфен. Но даже для него сравнение с любым из вышеперечисленных лиц оказывается довольно-таки невыгодным. А уж про остальных мало кто знает, кроме специалистов, поэтому мы даже не будем утомлять читателя перечислением их имен.
Личность стала какой-то неполной. Наступила «эпоха профессионалов», возросла специализация9, политик перестал быть универсальным знатоком всех аспектов своего ремесла – одновременно видным полководцем, выдающимся оратором, опытным финансистом, каким был в одном лице еще Перикл. Усугублявшаяся профессионализация тоже говорила о распаде некогда целостного мировосприятия. Очевидно, диалектика полисной цивилизации, в которой сосуществовали и противоборствовали коллективистское и индивидуалистическое начала, вела к тому, что подрыв первого из этих начал, как ни парадоксально, ударял и по второму. Два «полюса» эллинского бытия не могли существовать один без другого.
В IV в. до н. э. произошли изменения и в религиозных воззрениях греков. В частности, очень яркое предвестие грядущего эллинизма – впервые начавшие встречаться факты прижизненного обожествления людей. Конечно, не всех: имеются в виду видные правители и полководцы, харизматические личности10. Но в любом случае не могло быть ничего более чуждого греческой религии предшествующего периода. Один из великих поэтов V в. до н. э. говорил:
Не тщись быть Зевсом: у тебя есть всё…
Смертному – смертное!
(Пиндар. Истмийские оды. V. 14, 16)
Стремление уподобиться божеству и – равным образом – уподобить ему кого-либо иного расценивалось как проявление кощунственной, преступной гордыни. Теперь и в этом отношении времена стали иными. Вначале знаменитый спартанский полководец Лисандр – именно он выиграл для своего государства Пелопоннесскую войну – стал предметом своеобразного культа11. «Ему первому среди греков города стали воздвигать алтари и приносить жертвы как богу, и он был первым, в честь кого стали петь пеаны[15]15
Пеан – у греков один из видов священных песнопений в честь божеств.
[Закрыть]» (Плутарх. Лисандр. 18). Впрочем, столь ранний случай (пожалуй, преждевременный – это конец V в. до н. э.) предоставления божественных почестей смертному человеку на первых порах остался чем-то единичным, уникальным. Но через несколько десятилетий почва для соответствующих изменений в религиозном сознании окончательно сложилась. Некоторые шаги по собственному обожествлению, насколько можно судить, предпринимал Филипп II12. А со времен его сына Александра Македонского обожествление правителя стало чуть ли не нормой.
Вообще говоря, основной вектор перемен в менталитете в рассматриваемую нами сейчас эпоху можно охарактеризовать как путь «от гражданина к подданному». Этот процесс хорошо прослежен в исследовательской литературе на материале римской истории, но, на наш взгляд, он, безусловно, имел место и в греческом мире, хотя отличался своей спецификой13. Он проявился задолго до начала эпохи эллинизма, до Александра и даже до Филиппа II. Скорее уж практическая деятельность Филиппа явилась долгожданным ответом на животрепещущие запросы общественного сознания.
В частности, на протяжении IV в. до н. э. наблюдается постоянное нарастание монархических элементов в идеологии. Они прослеживаются у большинства крупнейших мыслителей эпохи, будь то Ксенофонт или Исократ, Платон или Аристотель (в политической философии двух последних монархия – как один из лучших возможных видов государственного устройства – занимает весьма важное место). Конечно, было бы преувеличением говорить, что в полисном греческом мире поздней классики монархические настроения стали преобладающими, задавали тон, вытеснили иные точки зрения. Однако по сравнению с предшествующим столетием такие настроения явно получили теперь гораздо более значительное развитие, и это представляется нам неоспоримым.
Таким образом, на всех уровнях менталитета, от религии до политической мысли, в IV в. до н. э. проявлялись кризисные процессы. Они говорили о том, что полисная ментальность исчерпала себя вместе с полисной цивилизацией и теперь уступала место иной системе ценностей и представлений, характерной для грядущего мира эллинистических государств. Торжество индивидуализма над коллективистскими принципами этики парадоксально, но закономерно вело от «психологии гражданина» к «психологии подданного».
Классический период в конце концов завершился установлением македонской гегемонии. Начался период эллинизма, для которого были характерны совсем иные политические, социальные, идеологические проблемы. А если бы не Македония – внешний, привходящий фактор? К чему привел бы кризис, если бы греки оказались предоставлены сами себе? Создается впечатление, что «великий греческий эксперимент» и сам собой уже заканчивался. Упомянутые выше постоянные похвалы монархической форме правления в трудах политических теоретиков IV в. до н. э., если вдуматься, просто не могут не поразить.
Греки, пожалуй, не вынесли бремени полисной свободы, устали от нее и от сопряженной с ней ответственности (процитируем видного современного исследователя: «Сказывалась усталость этноса от проделанной им в минувшие столетия тяжелой работы преобразования общества и его культуры»14), возжелали переложить эту ответственность и эту свободу на чьи-нибудь чужие плечи. Соответственно, они вступили, повторим, на путь, ведущий «от гражданина к подданному». Не Филипп II, так кто-нибудь другой рано или поздно явился бы, чтобы удовлетворить, воплотить в жизнь эти чаяния. Да и победа объединительных тенденций – не важно, привнесенных извне или вызревших изнутри – в любом случае приводила к отказу от ключевых элементов прямой демократии, характерной для полиса.
* * *
Итак, в те времена, когда в Афинах оказался Диоген, настоящее для жителей этого государства (да и не только его) было крайне нерадостным. Кризис, растянувшийся на десятилетия, – такое действительно трудно перенести. Бывают эпохи, в которые просто тягостно жить, из которых хочется бежать (в фигуральном смысле, естественно). А куда можно бежать из настоящего? Либо в прошлое, либо в будущее. И наметились оба эти «вектора эскапизма», что можно проследить и в истории философии.
Философская мысль в IV в. до н. э. развивалась под определяющим влиянием учеников Сократа. Они были многочисленны, очень сильно отличались друг от друга по своим взглядам (так что порой кажется даже удивительным, что все они называли своим наставником одного и того же человека); некоторые из них стали основателями философских школ. Такие школы, своего рода корпорации утонченных интеллектуалов, стали знаковым явлением в духовной жизни афинян интересующего нас столетия. Причем явлением новым – раньше в Афинах их не было, кружок Сократа школой в строгом смысле слова еще не назовешь. Знаменитейшим из этих учебных заведений стала Академия, созданная Платоном, напомним, в 387 г. до н. э., когда Диогена, скорее всего, еще не было в «городе Паллады». Позже, с 335 г. до н. э. (а тогда наш герой в Афинах давно уже проживал), с ней успешно конкурировал Ликей (Лицей) – детище Аристотеля.
Платон как политический мыслитель отличался крайним консерватизмом. К демократическому правлению он относился резко отрицательно, считая, что хуже его может быть только тирания. Да, в сущности, во многом то же (пусть и с некоторыми смягчающими оговорками) можно сказать и об Аристотеле; хотя и предпринимались попытки объявить его «умеренным демократом»15, в действительности демократию он относил к числу «неправильных» («искаженных», «отклоняющихся») форм государственного устройства. Как справедливо отмечает видный американский историк Джошуа Обер16, для крупнейших представителей греческой философии IV в. до н. э. в целом характерна ярко выраженная антидемократическая тенденция: по отношению к реальному полисному народовластию они в большинстве своем занимали позицию неприятия, причем неприятия полного и безоговорочного – отвергали не какие-нибудь отдельные недостатки этой системы, предлагая их исправить, а всю систему как целое, полагая ее в принципе порочной и неисправимой.
Таким образом, схолархи обеих великих школ уносились умом из настоящего в прошлое. И в Академии, и в Ликее социально-политические темы оставались в центре исследований, предлагались проекты общественного переустройства, призванные помочь преодолеть кризисные явления. Основой большинства таких проектов было укрепление полисного единства и солидарности – именно тех качеств, которые в первую очередь рушились в ходе кризиса.
Так, автором двух концепций «наилучшего государства» – в трактатах «Государство» и «Законы» – стал Платон. Эти концепции, отличаясь друг от друга (не будем здесь вдаваться в детали), при этом в равной мере предусматривали создание условий, при которых будут невозможны внутренние распри, путем полного отказа от демократии и строжайшей регламентации всей жизни граждан правителями и/или законами. Аристотель тоже не избежал выхода на проблему «идеального государства» (в трактате «Политика»). Его «рецепты» выглядят не столь жестко-тоталитарными, как платоновские, но, впрочем, роль государственного принуждения в них тоже очень велика. Аристотель делал упор на всемерную поддержку полисом своей главной опоры – «среднего» общественного слоя, зажиточных земледельцев. Выдвигались и более радикальные проекты; некоторые из них предполагали даже полное обобществление имущества, ликвидацию частной собственности, проведение в жизнь коммунистических начал17.
Нечего и говорить, что все эти программы – как радикальные, так и относительно умеренные – были утопическими и невыполнимыми. Главным их пороком являлось стремление к искусственной консервации, несмотря ни на что, полисных принципов, которые уже не соответствовали изменившимся историческим условиям. Кстати, уже само рождение подобных проектов в немалом количестве именно в IV в. до н. э. является существенным доказательством кризиса классических полисных структур. Дело в том, что не от хорошей жизни пишутся утопии. А то, что это были именно утопии, которые невозможно реализовать, бесспорно. Нацеленные на возвращение к «великому прошлому», они предполагали реставрацию коллективистских норм и традиций, которой, увы, в новую эпоху уже нельзя было достигнуть: индивидуализм торжествовал, как неоднократно отмечалось выше. Философы Академии и Ликея, так сказать, воздвигли себе «башню из слоновой кости», куда спасались от ненавистной действительности. Теоретическая политическая мысль отделилась от практической политики и стала для них в своем роде самоцелью.
Появились, с другой стороны, философские школы, в которых коллективистская, полисная проблематика уже начисто отбрасывалась; в их рамках разрабатывались только вопросы, связанные с индивидом и формами его поведения. Это как раз та линия, за которой было будущее; это – бегство от настоящего в противоположную сторону, нежели у Платона и Аристотеля. Тут должен быть упомянут в первую очередь Аристипп, основоположник киренской или гедонистической школы, признававшей высшим благом наслаждение.
Аристипп родился около 440 г. до н. э., а год его смерти в точности неизвестен. Он был уроженцем Кирены – крупного греческого города в Северной Африке, – «а в Афины он приехал, привлеченный славой Сократа» (Диоген Лаэртский. II. 65). Как будто Сократ, подобно магниту, притягивал к себе самых непохожих людей из самых разных мест – но как могло быть иначе, если о нем шел слух, что сам Дельфийский оракул объявил его мудрейшим из людей?
Аристипп вошел в его кружок, но в этом есть даже определенный парадокс: ведь трудно представить себе двух столь же непохожих друг на друга людей. Один прославлен предельно скромным образом жизни, с учеников денег не берет, во всем является образцом умеренности и неприхотливости, а другой обожает роскошь и вообще считает, что жизнь должна быть непрерывной погоней за удовольствиями, что только в этом заключается ее смысл…
Диоген Лаэртский пишет об Аристиппе: «Он первым из учеников Сократа начал брать плату со слушателей и отсылать деньги учителю. Однажды, послав ему двадцать мин[16]16
Мина – древнегреческая мера стоимости, эквивалентная 436 граммам серебра.
[Закрыть], он получил их обратно, и Сократ сказал, что демоний[17]17
Сократ заявлял, что иногда слышит «божественный голос» – демоний, дающий ему советы в различных жизненных ситуациях.
[Закрыть] запрещает ему принимать их: действительно, это было ему не по душе» (Диоген Лаэртский. II. 65). Из сказанного видно, насколько неодинаково смотрели на мир два этих человека: Аристиппу казалось нормальным то, что для Сократа было совершенно недопустимым. Конечно, к чести Аристиппа говорит то, что он вначале попытался отослать полученную плату Сократу, но, с другой стороны, он не мог не догадываться, что тот их вряд ли примет.
Ксенофонт, написавший мемуары о Сократе (который был и его учителем), передает две беседы «босоногого мудреца» с Аристиппом. В одной из них Сократ пытается отучить ученика от свойственной тому невоздержности и внушает ему необходимость умеренности (Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. II. 1). В другой – рассуждает о понятиях «хорошее» и «прекрасное». Характерно начало описания этого разговора у Ксенофонта: «Однажды Аристипп вздумал сбить Сократа, как раньше его самого сбивал Сократ…» (Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. III. 8. 1). Перед нами встает довольно своеобразная картина отношений в сократовском кружке: что за странное желание «сбивать» друг друга? Это весьма далеко от идиллии, царившей во многих догматических философских школах, где ученики с благоговейным почтением внимают мнению учителя. Нет, здесь нечто совсем другое: атмосфера постоянных споров и даже честолюбивого соперничества (уж в честолюбии-то точно нельзя было отказать очень многим из «сократовцев», будь то Аристипп или Антисфен, с которым нам уже очень скоро предстоит близко познакомиться), где сам учитель – лишь один из равных…
На первый взгляд Аристипп с его постоянно подчеркиваемым гедонизмом предстает несимпатичной фигурой. Известно, что после казни Сократа он направился ко двору знаменитого сиракузского тирана Дионисия и подвизался в числе его льстецов. Однако есть и свидетельства об Аристиппе, позволяющие предположить, что на самом деле он все-таки был гораздо сложнее одномерной гротескной карикатуры «ловца наслаждений». Например: «На вопрос, как умер Сократ, он сказал: „Так, как и я желал бы умереть“» (Диоген Лаэртский. II. 76). Уже это признание дорогого стоит!
«Однажды Дионисий предложил ему из трех гетер выбрать одну; Аристипп увел с собою всех троих… Впрочем, говорят, что он довел их только до дверей и отпустил. Так легко ему было и принять и пренебречь. Поэтому и сказал ему Стратон (а по мнению других, Платон): „Тебе одному дано ходить одинаково как в мантии, так и в лохмотьях“» (Диоген Лаэртский. II. 67).
«Кто-то привел к нему в обучение сына; Аристипп запросил пятьсот драхм. Отец сказал: „За эти деньги я могу купить раба!“ – „Купи, – сказал Аристипп, – и у тебя будет целых два раба“» (Диоген Лаэртский. II. 72).
«Сим, казначей Дионисия, – был он фригиец[18]18
То есть уроженец Фригии, области в Малой Азии. Поскольку для греков фригийцы были «варварами», они относились к ним с презрением.
[Закрыть] и человек отвратительный – показывал Аристиппу пышные комнаты с мозаичными полами; Аристипп кашлянул и сплюнул ему в лицо, а в ответ на его ярость сказал: „Нигде не было более подходящего места“» (Диоген Лаэртский. II. 75). Минуточку! А не кажется ли вам, читатель, этот эпизод уже знакомым? Ну да, конечно же, – в одной из предыдущих глав он уже приводился, но тогда в нем фигурировал не Аристипп, а Диоген, герой этой книги. Но ведь не может же быть, чтобы с двумя разными людьми случилась совершенно одинаковая история. Ясно, что перед нами, как выражаются, бродячий сюжет, очередной анекдот. Но в высшей степени характерно, что он оказался «привязан», с одной стороны, к Диогену, с другой же – к Аристиппу. Как будто противоположности сходятся… Об этом у нас в дальнейшем еще будет повод поговорить подробно. А пока отметим только, что Диоген, который сам носил, как известно, прозвище «Пес», Аристиппа называл «царским псом» (Диоген Лаэртский. II. 66). Получается, находил между собой и им нечто общее – при всем бросающемся в глаза контрасте.
Как же Аристипп и его последователи (их называют киренаиками) философски обосновывали свой гедонизм? «Они принимали два состояния души – боль и наслаждение… Между наслаждением и наслаждением нет никакой разницы, ни одно не сладостнее другого. Наслаждение для всех живых существ привлекательно, боль отвратительна. Однако здесь имеется в виду и считается конечным благом лишь телесное наслаждение… Кроме того, они различают конечное благо и счастье: именно конечное благо есть частное наслаждение, а счастье – совокупность частных наслаждений, включающая также наслаждения прошлые и будущие. К частным наслаждениям следует стремиться ради них самих, а к счастью – не ради него самого, но ради частных наслаждений. Доказательство того, что наслаждение является конечным благом, в том, что мы с детства бессознательно влечемся к нему и, достигнув его, более ничего не ищем… Наслаждение является благом, даже если оно порождается безобразнейшими вещами… Они признают, что иные не стремятся к наслаждению, но лишь из-за своей извращенности… Телесные наслаждения много выше душевных, и телесные страдания много тяжелее: потому-то они и служат преимущественным наказанием для преступников… Друзей мы любим ради выгоды, так же как заботимся о частях своего тела лишь до тех пор, пока владеем ими… Богатство также дает возможность наслаждения, самостоятельной же ценности не имеет… Нет ничего справедливого, прекрасного или безобразного по природе: все это определяется установлением и обычаем» (Диоген Лаэртский. II. 86–93).
Философия эта, называя вещи своими именами, вульгарная, примитивная. Она цинична (но вспомним, кстати, что киниками – «циниками» – назывались Диоген и его единомышленники, вроде бы антиподы киренаиков), а главное – предельно эгоистична. Думай только о себе, заботься о том, чтобы тебе было хорошо, и больше ни о чем – вот и все жизненные принципы школы Аристиппа. А окружающие, общество? А родина, твой полис? Таких категорий в учении гедонистов как бы и не существует. Будто человек живет один, в неком моральном вакууме. Потому-то в условиях кризисного IV века до н. э. со свойственным ему дрейфом от коллективистских ценностей к индивидуалистическим подобная философия и была в полной мере «философией будущего».
Но вот новый парадокс: среди слушателей Сократа – настолько разнороден был кружок, сложившийся вокруг этого мудреца, – наряду со сластолюбцем Аристиппом присутствовал и такой, который говаривал: «Я предпочел бы безумие наслаждению» (Диоген Лаэртский. VI. 3). Именно ему предстояло стать учителем героя нашей книги, и к нему мы теперь переходим.
Ученик ученика Сократа
Имя человека, который был наставником Диогена и основателем кинической школы, – Антисфен – уже несколько раз мимоходом упоминалось на страницах этой книги. Кстати, научной литературы о нем существует больше, чем о самом Диогене1, и его признают мыслителем более крупным, более глубоким и серьезным.
Антисфен – коренной афинянин; отец его, носивший то же имя, являлся видным политиком и богатым человеком, а мать – якобы фракиянкой (Диоген Лаэртский. VI. 1). Если доверять данной традиции, он был незаконнорожденным (в Афинах законным считался только брак между гражданином и гражданкой этого государства), но версия, о которой идет речь, в науке подвергается сомнению2. Родился Антисфен, по одним сведениям, около 455 г. до н. э., по другим – около 445 г. до н. э. (последнее более вероятно), умер же между 366 и 360 гг. до н. э.
Вначале он учился у Горгия – одного из крупнейших представителей движения софистов, философа и оратора, внесшего едва ли не наибольший вклад в становление у греков искусства красноречия3. Несомненно, это не осталось для Антисфена без последствий: его произведения (а он оставил после себя довольно большое наследие, от которого, к сожалению, до нас мало что дошло, да и то в основном в фрагментарном виде) отличались тщательной риторической обработкой. «Потом он примкнул к Сократу и, по его мнению, столько выиграл от этого, что даже своих собственных учеников стал убеждать вместе с ним учиться у Сократа» (Диоген Лаэртский. VI. 2). Обратим внимание на само это наличие учеников у Антисфена; получается, он вошел в число сократиков[19]19
Сократики – философы, являвшиеся учениками и последователями Сократа. Здесь – ик– древнегреческий суффикс, означавший принадлежность к какой-нибудь школе или группировке; его не следует путать с русским уменьшительным суффиксом такого же написания.
[Закрыть] в уже достаточно зрелом возрасте и достигнув известности.
Жил будущий учитель Диогена не в самих Афинах, а в приморском городке Пирее, входившем в состав афинского полиса и являвшемся его главным торговым и военным портом. Он до такой степени подпал под обаяние Сократа, что ежедневно приходил в Афины из Пирея его слушать (а путь этот был неблизким, 6–7 километров в одну сторону). Источники изображают Антисфена весьма яркой и колоритной личностью, отличавшейся жесткими, подчас сознательно эпатирующими, циничными суждениями. Вот, например, своеобразная проповедь нищеты:
«…У меня столько всего, что и сам я насилу нахожу это; но все-таки у меня в барышах остается, что евши я дохожу до того, что не бываю голоден, пивши – до того, что не чувствую жажды, одеваюсь так, что на дворе не мерзну нисколько не хуже такого богача, как Каллий[20]20
Каллием звали самого богатого из афинян.
[Закрыть]; а когда я бываю в доме, то очень теплыми хитонами кажутся мне стены, очень теплыми плащами – крыши; постелью я настолько доволен, что трудно бывает даже разбудить меня. Когда тело мое почувствует потребность в наслаждении любовью, я так бываю доволен тем, что есть, что женщины, к которым я обращаюсь, принимают меня с восторгом, потому что никто другой не хочет иметь с ними дела… Если бы отняли у меня и то, что теперь есть, ни одно занятие, как я вижу, не показалось бы мне настолько плохим, чтобы не могло доставлять мне пропитание в достаточном количестве. И в самом деле, когда мне захочется побаловать себя, я не покупаю на рынке дорогих продуктов, потому что это начетисто, а достаю их из кладовой своей души… Несомненно, и гораздо честнее должны быть люди, любящие дешевизну, чем любящие дороговизну: чем больше человеку хватает того, что есть, тем меньше он зарится на чужое… Я… всем друзьям показываю изобилие богатства в моей душе и делюсь им со всяким» (Ксенофонт. Пир. 4. 37–43).
Читаешь эти строки – и становится ясно, почему однажды Сократ, встретив Антисфена в дырявом плаще – а дыры тот еще намеренно выставлял напоказ, – сказал: «Сквозь этот плащ мне видно твое тщеславие» (Диоген Лаэртский. II. 36). Бывает такое смирение, которое, как говорится, паче гордыни. Сократ и сам одевался бедно (однако все-таки не в рванье) – но то было из-за его действительно сильно ограниченных средств к существованию. Антисфен же, происходивший из состоятельной семьи, сознательно «опростился», жил демонстративно неприхотливо и непритязательно – и, несомненно, бравировал этой своей нищетой. О себе он явно был весьма высокого мнения: обратим внимание, как он подчеркивает в своей речи богатства собственной души…
Антисфен и его последователи призывали в чем только возможно ограничивать потребности, во всем обходиться минимумом возможного. Таким образом, этот философ в многогранной личности Сократа заметил и абсолютизировал лишь одну черту – предельно скромный образ жизни. И подражал учителю только в этом, а больше, пожалуй, ни в чем. Сократ, например, был неутомимым спорщиком, любая его беседа с кем-нибудь из учеников или даже просто с малознакомым человеком выливалась в интереснейшую дискуссию о каком-либо понятии. Например, что такое мужество? Или справедливость? Или благочестие? Антисфен же вообще не признавал общих понятий, видя в мире только конкретные единичные вещи. Кроме того, одна из тем, на которые он любил порассуждать, звучала так: «О невозможности противоречия» (Диоген Лаэртский. III. 35). А ведь если невозможны противоречия – то, значит, бессмысленны и споры…
«Он первый… начал складывать вдвое свой плащ, пользоваться плащом без хитона и носить посох и суму» (Диоген Лаэртский. VI. 13). Что касается посоха и сумы – все понятно: это атрибуты бродячего нищего, просящего подаяния. А вот о плаще нужно пояснить. Имеется в виду трибон, или гиматий, – самый распространенный в античной Греции вид верхней одежды. Он представлял собой прямоугольный плащ-накидку простейшего покроя, без рукавов, застегивавшийся пряжкой под правой рукой. Летние гиматии изготовлялись из льна, зимние – из шерсти. Гиматий обычно носили (во всяком случае, когда выходили из дома) поверх хитона – нижней одежды, подобия рубахи без рукавов или с короткими рукавами. Здесь сказано именно о том, что Антисфен надевал трибон[21]21
Строго говоря, трибон – название самого простого и грубого по материи гиматия, к тому же обычно старого и потертого.
[Закрыть] прямо на голое тело. Соответственно, зимой, в холода, его и приходилось складывать вдвое, чтобы как-то компенсировать отсутствие хитона.
Впрочем, по некоторым сведениям, обыкновение, о котором тут идет речь (его же впоследствии придерживался и Диоген), восходит не к Антисфену, а еще к самому Сократу. Во всяком случае, в мемуарах Ксенофонта софист Антифонт в споре с Сократом осуждающе заявляет: «Живешь ты… так, что даже ни один раб при таком образе жизни не остался бы у своего господина: еда у тебя и питье самые скверные; гиматий ты носишь не только скверный, но один и тот же летом и зимой; ходишь ты всегда босой и без хитона» (Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. I. 6. 2). А Ксенофонт, надо полагать, знал, о чем писал: Сократа он, напомним, хорошо знал лично.
Об Антисфене, о его остроумных высказываниях ходило немало анекдотов (хотя все-таки не столько, сколько о Диогене). Вот некоторые из них. «На вопрос, какую женщину лучше брать в жены, он ответил: „Красивая будет общим достоянием, некрасивая – твоим наказанием“» (Диоген Лаэртский. VI. 3). «На вопрос, почему он так суров с учениками, он ответил: „Врачи тоже суровы с больными“» (Диоген Лаэртский. VI. 4). «Однажды ученик пожаловался ему, что потерял свои записи. „Надо было хранить их в душе“, – сказал Антисфен» (Диоген Лаэртский. VI. 5). «Когда его однажды хвалили дурные люди, он сказал: „Боюсь, не сделал ли я чего дурного?“» (Диоген Лаэртский. VI. 5). «Его попрекали, что он водится с дурными людьми; он сказал: „И врачи водятся с больными, но сами не заболевают“» (Диоген Лаэртский. VI. 6). «На вопрос, что дала ему философия, он ответил: „Умение беседовать с самим собой“» (Диоген Лаэртский. VI. 6). «На вопрос, какая наука самая необходимая, он сказал: „Наука забывать ненужное“» (Диоген Лаэртский. VI. 7).
На одном из изречений Антисфена стоит остановиться чуть подробнее. «Он советовал афинянам принять постановление: „Считать ослов конями“; когда это сочли нелепостью, он заметил: „А ведь вы простым голосованием делаете из невежественных людей – полководцев“» (Диоген Лаэртский. VI. 8). Здесь перед нами, между прочим, критика афинского демократического устройства. Причем весьма близкая к той, которая звучала из уст Сократа, говорившего: «Глупо должностных лиц в государстве выбирать посредством бобов (то есть с помощью жребия, который очень часто применялся в греческих полисах. – И. С.), тогда как никто не хочет иметь выбранного бобами рулевого, плотника, флейтиста или исполняющего другую подобную работу, ошибки в которой приносят гораздо меньше вреда, чем ошибки в государственной деятельности» (Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. I. 2. 9). Как легко заметить, в обоих случаях предмет упреков один и тот же – непрофессионализм, действительно свойственный античным прямым демократиям.
* * *
Антисфен, напомним, присутствовал при казни Сократа. Чаша с ядом осужденному была поднесена на закате, а перед тем последний день своей жизни «босоногий мудрец» посвятил беседе с учениками и другими близкими людьми. Содержание этой беседы изложил Платон в одном из самых знаменитых своих диалогов – «Федон, или О душе». Если верить ему, речь шла больше всего о бессмертии души, доказательства которого приводил Сократ. Что характерно, будущий первый киник, хотя и находился в камере, в разговоре участия не принимал (Платон, во всяком случае, не приводит ни одной его реплики). Да и неудивительно: подобная проблематика должна была быть предельно далека от него.
После смерти учителя Антисфен вырос в самостоятельную фигуру в философии, стал схолархом кинической школы. Неизвестно, в каком именно году она была им основана, но следует полагать, что это произошло раньше, чем возникла платоновская Академия (387 г. до н. э.), – кстати, Платон ведь был и помоложе лет на двадцать.
Отношения между Антисфеном и Платоном можно назвать враждебными, два мыслителя, хоть и «однокашники» в прошлом, постоянно пикировались. «…Антисфен, говорят, собираясь однажды читать вслух написанное им, пригласил Платона послушать; тот спросил, о чем чтение, и Антисфен ответил: „О невозможности противоречия“. „Как же ты сумел об этом написать?“ – спросил Платон, давая понять, что Антисфен-то и противоречит сам себе; после этого Антисфен написал против Платона диалог под названием „Сафон“, и с этих пор они держались друг с другом как чужие» (Диоген Лаэртский. III. 35).
В заголовке этого своего сочинения Антисфен грубо и издевательски переиначил имя Платона, придав ему непристойное звучание. Диалог «Сафон» не сохранился, но можно догадываться, в каком тоне там велась полемика. Впрочем, киники на то и были киники, что никакие нормы благопристойности были им не писаны. Нападал Антисфен прежде всего на учение Платона об идеях как духовных прообразах материальных вещей. Сам-то он, конечно, не допускал существования таких идей, равно как и чего бы то ни было идеального.
«Свои беседы он вел в гимнасии Киносарге, неподалеку от городских ворот; по мнению некоторых, отсюда и получила название киническая школа. Сам же он себя называл Истинный Пес» (Диоген Лаэртский. VI. 13). Философские школы вообще часто возникали в гимнасиях – ведь в этих древнегреческих «домах спорта» легче, чем где-либо, можно было встретить молодых людей, потенциальных учеников. От гимнасиев ведут свою историю и Академия4, и Ликей.
Следует отметить, что гимнасии[22]22
От древнегреческого слова gymnоs – «обнаженный». Как известно, античные греки занимались спортом без одежды, поэтому женщинам вход в гимнасии не разрешался.
[Закрыть], считавшиеся неотъемлемыми элементами греческого образа жизни5, и в целом внесли большой вклад в развитие античной цивилизации. Они располагались обычно за городскими стенами, часто в рощах, посвященных тому или иному божеству, и представляли собой сложные комплексы помещений различного назначения. Основным элементом гимнасия был обширный внутренний двор – перистиль, – с четырех сторон замкнутый колоннадами. Этот двор был предназначен для гимнастических упражнений и тренировок. Как в окружающих колоннадах, так и внутри двора располагались помещения для спортивных игр, борьбы и кулачного боя, комнаты для отдыха и натирания маслом[23]23
Раздевшись для тренировок или состязаний, эллин обязательно натирался оливковым маслом. Это была его, так сказать, «спортивная форма».
[Закрыть], бассейны и бани с холодной и горячей водой. При гимнасии были стадий (беговая дорожка)[24]24
Собственно, стадий – древнегреческая мера длины (ок. 180 м). Такова была стандартная длина беговой дорожки, поэтому она тоже называлась «стадий» (отсюда современное «стадион»).
[Закрыть] с местами для зрителей, а также обсаженные деревьями дорожки для прогулок.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































