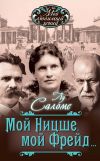Текст книги "Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта"

Автор книги: Игорь Талалаевский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Иль – что за логика?
– «Вы вот за свет: против тьмы. А в Писании сказано: свет победит; свет – сильнее; а надо со слабыми быть; почему ж не стоите за тьму и за Гада, которого ввергнут в огонь?.. Гада – жаль: бедный Гад!» Иль, – зачем он прислал мне стихи под заглавием «Бальдеру Локи»? Он в них угрожал мне стрелой; и кончал – восклицаньем:
Сумрак, сумрак – за меня!
Коль – серьезно, зачем язычок третьеклассника, «Вали»? Стихи были присланы сложенною стрелой из бумаги; такие метают учителю: в спину.
В ту же пору, зайдя на журфикс ко мне и увидавши гасильник, с прекрасно разыгранным вздрогом гасильник схватил, повертел; приподняв, над гостями – к настеннику ткнул его, перегибаяся к матери:
– «Вот как? Гасильник… Позвольте мне, Александра Дмитриевна, посмотреть, как действует гасильник?» И, опустивши в стекло, погасивши настенник, с разыгранным смехом он матери бросил:
– «Ну, я – удаляюсь». И – выскочил.
Боркман, боряся с судьбою, за палку хватается: так почему же Валерию Брюсову свет не гасить? Жутковатые игры придумывал; и деловито разыгрывал.
Так: провожая Бальмонта в далекую Мексику, встал он с бокалом вина и, протягивая над столом свою длинную руку, скривясь побледневшим лицом, он с нешуточным блеском в глазах дико выорнул:
– «Пью, чтоб корабль, относящий Бальмонта в Америку, пошел ко дну!» В ту эпоху меж ним и Бальмонтом какая-то черная кошка прошла; шутка злою гримасою выглядела…
Редко смеялся: лишь дергал губами; и зубы показывал; если ж его рассмешить (Эллис мог так смешить), то он, бросивши ногу на ногу, схватясь за колено, вцепившись в колено, над ним изогнувшися и бородою касаясь колена, краснел не от хохота, а от задоха; и сухо и дико откалывал голосом:
– «Кхо… кхо… кхо… кхо!..»
И тянул, и отталкивал – детским кошмаром, в котором мы оба кричали когда-то; таков стиль знакомства, в котором повинен не я.
Сперва связанный с Брюсовым узами дел, я стараюсь, его избегая, быть светским, почтительным, чувствуя род уважения к этой литой, как из бронзы, фигуре; мой стиль он усваивает; иногда же я чувствую перекрещение наших рапир из-за взрыва сухой его, какой-то дикой сердечности.
Кто он, – защитник или подкарауливатель?
В «Дневниках» он записывает: «Был у меня Бугаев, читал свои стихи, говорил о химии. Это едва ли не интереснейший человек в России. Зрелость и дряхлость ума при странной молодости»…
Стихи его, мне посвященные, – жуть: обещается в них… «мстить кинжалом» мне.
Но он вторгнут в мое бытие метеором упавшим; и я получаю короткие письма: он рад будет видеть тогда-то меня; или: он извещает о том-то и том-то; короткие, четкие, внешние фразы; и тут же сухая соль сведений о Петербурге, о «Новом пути»; в нем зовут-де его секретарствовать; часто предлог для свиданий фиктивен; в нем явно желанье: меня привязать к «Скорпиону», оказывая мне, начинающему литератору, крупную и бескорыстную помощь; в глубинах своих сомнительный еще мне, – внешне он мне повернулся с приязнью; я видел его Калитой, собирателем литературы в борьбе с «ханской ставкой»; в горении объединять, он, наш «мэтр», умывал ноги нам; он сносился с маститостями, усыпляя внимание: перед боем; и все – для того, чтобы нас протолкнуть; я обязан ему всей карьерой своей; я ни разу себя не почувствовал пешкой, не чувствовал «ига» его: только помощь, желанье помочь, облегчить…
Белый – Брюсову.
17 апреля 1903. Москва.
…Христос Воскрес! Завидую вам: теперь в Москве как-то особенно уныло. К яростно напряженной и лихорадочной суетне присоединяется еще и невыносимо гнетущая астральная атмосфера. Газеты сулят вихрь снегов, летящий на Москву. Быть может, холод освободит Москву от тучи уныния: пришла – уйдет. Лично для меня все отягощается еще одним странным обстоятельством: у меня такое чувство, как будто моя личность как бы оторвалась от индивидуальности: она вернулась, совсем вернулась сюда, а индивидуальность ушла туда сквозь конец – окончательно. Мне кажется, что «я» еще недавно смотрел отсюда туда – бесконечно говорил о «тамошнем» в качестве созерцающего. Теперь произошло обратное. Оттуда смотрю я сюда и еще умею говорить, как и «они», а они ничего не понимают – думают, что я все тот же. Мне хочется говорить с ними о внешнем и молчать о том, что приблизилось; как это трудно: отовсюду обращаются с умными разговорами, когда «оно» – безумная реальность. Они думают – я с ними, но из духа протеста хочется крикнуть: «Ничего не понимаю» – огорошить трезвостью тех, кто слишком трезв, чтобы без рассуждений «о» отдаться глубине – уплыть от их рассуждений. Когда к Стеньке Разину пришли, чтобы исполнить приговор, он нарисовал лодочку на стене и, смеясь, сказал, что уплывет в ней из тюрьмы. Глупцы ничего не понимали, а он знал, что делал. Можно всегда быть аргонавтом: можно на заре обрезать солнечные лучи и сшить из них броненосец – броненосец из солнечных струй. Это и будет корабль Арго; он понесется к золотому щиту Вечности – к солнцу – золотому руну…
И вот тот, кто слишком много обсуждает безумную реальность, недостоин приобщиться аргонавтизму – не аргонавт он. Не хочется с ним летать, хочется удивить позитивным: «Не знаю вас, не понимаю…»
Он суетлив, мелочей в вопросах «потустороннего»… когда там все усмиренно и грандиозно. Там нет речей даже о Конце. Конец разыгрывается в душе на пути туда, а Конец мира сего там вовсе не занимателен, потому что растаял в душе образ мира сего.
Как мне странно.
Мне казалось – прежде был «я» и еще какое-то далекое «оно», взламывающее лед поверхности. Теперь «оно» стало «я», а прежнее «я» – бед-дое – оно трепещет на мне, как моя одежда, терзаемая ветром. Я стал вывернутым наизнанку, но сохранил свои контуры; вот этого-то не замечают знающие меня люди. Если всмотрятся в меня люди, не видящие Другого, они к ужасу заметили бы черный контур, очерчивающий хаос,– и ничего больше. Но они вообще не пристально смотрят: поэтому они допускают меня.
Странно мне.
Странны и смешны мне слова о двух путях, о раздвоении, о полюсах святости. Так много слов – это едва ли не преподавание… Зачем? Разве нельзя просто, без фанфар, пройти сквозь ворота Конца – стать за Концом? Зачем в такой мысли все эти «культурные, слишком культурные» ужимки? «Культура – это только тонкая яблочная кожица вокруг бушующего хаоса», – сказал Ницше. Культура, – прибавлю я, – есть временность, а временность (в каком угодном смысле понимаемая) – только перепонка между двумя безвременьями: хаосом до– и после-временным, расплющивающим время. Время – пористая перегородка, сквозь которую мы процеживаемся, а сама эта перегородка (что очень важно) только поверхностное натяжение двух противоположно заряженных сред, а не что-либо третье, разделяющее; но и противоположность тоже видимая, заключающаяся в разности направления по существу однородных вибраций. Но и разность направления получается от разности восприятия нами, от разности нашего положения как к одному, так и к другому (в существе все тому же) безвременью. И не в том суть, что два пути – две линии, убегающие в до-временность и в после-временность, равнозначущи (ветхий завет = новому, тело = духу и т. д.), а следовательно обязательны, – дело в том, что оба пути бесконечны и никогда не родиться молнии, пробивающей перегородки (серединности, временности, маленького «я»), ибо перегородка есть величина мнимая для тех, кто заглянул туда, и фильтрующая перепонка для тех, кто весь обусловлен отношением двух взаимно-противоположных натяжений хаоса – то есть кто позитивен. Это не «нечто», задерживающее соединение бездн, это простое отношение двух бездн; бездны несоединимы; каждая ведет к безвременью; обе вместе – никуда. Серединностъ – переход, в серединное противоположности даже не смешаны (не может быть смешанности – смешного). Выход из серединности есть выход в один из хаосов. Соединения, смешения, синтезы – игра слов без переживаний, переживания, основанные на оптическом обмане! Все это слишком просто для того, чтобы быть принято всерьез, и лишено Великой Легкой Простоты, убивающей всякую возможность серьезных возражений.
Простите, дорогой Валерий Яковлевич, я пишу таким странным тоном. Мне хотелось бы только сказать одно простое и для меня самое важное: как мне легко и странно!..
Белый. Я сближался не с ним, его видя далеким; «далекий» и был настоящим помощником после М. С. Соловьева: в печатаньи книг и в приваживаньи к публицистике; он вырывал из меня, точно с боем, рецензии; в строгом разборе стихов моих чувствовал что-то отеческое; защищая публично, он их разносил у себя на дому, не отнявши надежды; всегда поощрял.
В четко трезвой, практической сфере я чувствовал сердце, огонь бескорыстия; скольких тогда он учил и оказывал гостеприимство, без всякой тенденции: себя подчеркивать; в сущности, был очень скромен, носяся с идеей союза; и только с эстрады показывал «фиги» величия; с нами был равный средь равных; наткнувшись на лень, несерьезность, пустые слова, он вычеркивал, точно из списка живых.
Через несколько лет о нем сеялись слухи: де лезет из кожи ходить императором, травит таланты-де; правда, травил – разгильдяйство и лень, не любя молотьбы языком по соломе; тогда называли нас «псами» его; эти слухи бросались… всеми, кого отвергали «Весы»; должен здесь же сказать: когда поняли мы, что приходит опасный момент, – осознав нужность «шефства», подняли на щит его… но – для других; сознаюсь, щит с тяжелой фигурою этой гнул шеи; кряхтели без ропота, даже с любовью.
Он, некогда поднятый нами на щит, был внимателен с нами, порою до… нежности; он не держался «редактором»: не штамповал, не приказывал, – лишь добивался советом того или этого: он обегал со-бойцов, чтобы в личной, порою упорной беседе добиться от нас – того, этого: мягкими просьбами; если ж ему отдавали мы честь пред другими, так это – поволенная нами тактика.
Я оговариваюсь: славолюбие и властолюбие жили в нем; но он диктаторствовал, так сказать, в покоренных провинциях… в своей метрополии, в центре дружеского кружка, он держался, как республиканец с бойцами, которым помог в свое время; мы помнили это: и были верны ему; если же «псами» казались другим, то, – по правде сказать, «пес» всегда симпатичней «осла», добивающего одряхлевшего льва своим черствым копытом; уже с 1907 года такие «ослы» появились.
Мы ж видели роль его – организатора литературы; с 902 года всерьез зазвучала роль эта; так-то я, не сближаясь, скорее отталкиваясь, был им вобран и утилизирован; я не раскаиваюсь: благородно он утилизировал, дав дисциплину рабочую, выправку, стойкость…
Белый – Брюсову.
6 июля 1903. Серебряный Колодезь.
…Вследствие кончины моего отца некоторые планы, которые я имел в виду, изменились. Изменилось и мое материальное положение. По крайней мере, на несколько лет я обязан сам зарабатывать для себя средства к существованию. Так как получить место преподавателя в Москве очень трудно, а сразу и невозможно, а в акциз идти (куда попадают почти все естественники, не знаю – почему) как-то… больно (хочется пока повременить), я не знаю, что мне делать. Единственно, что я мог бы делать, это писать в газетах, но писать в тех газетах, где сперва вас обольют помоями грязи, для меня немыслимо, несовместимо с моим достоинством…
Время провожу очень скучно. Какое-то опустошенное настроение и некоторая расшатанность здоровья вследствие кончины отца, экзаменов и некоторых личных разочарований не покидают меня… Какое-то тяжелое похмелье. Писать ничего не могу. Думать тоже. В погоне за средствами строю различные фантастические проекты, вроде чтения публичных лекций по разным городам России и т. д. Жду, что астральная атмосфера прочистится или по крайней мере резко определится ко времени открытия мощей Серафима. Мне все кажется – произойдет нечто, ускоряющее события либо в дурную, либо в хорошую сторону…
Брюсов – Белому.
После 1 августа 1903. Старое Село.
…Я не представляю себе вас «литератором». «Скорпион», «Новый путь», «Мир искусства» это ведь не литература, в том смысле, как сказал Верлен, – et tout le reste est litterature (все прочее – литература – фр.), т. е. тот «Скорпион» и тот «Новый путь» и тот «Мир искусства», к которому вы можете и будете иметь отношение. Здесь есть дело, но нет «работы» и нет «профессии». Scriber ut edas (писать, чтобы есть – лат.), вы сами знаете, мучительно… Неужели вы себе хотите чего-либо подобного? Мне за вас страшно. Я слишком верю в вас. Что до меня, например, я могу писать и в «Пути» и в «Архиве» и даже «бог знает» где, как могу целовать всех женщин и не женщин, могу доходить до последних пределов позорного. Вы этого не можете. И конечно, в этом-то все ваше безмерное преимущество надо всеми нами. Все входит в вашу душу до самого ее дна. У нас есть временные слова, которые мы забываем. Вы говорите только вечные слова, только слова навеки. Нет, вам нельзя быть литератором. Что же вам делать? – Не знаю…
Белый – Брюсову.
9 августа 1903. Серебряный Колодезь.
…Думаю остаться здесь до конца сентября, а засим двинуться в Саров. Все больше и больше внутренних нитей связывают меня с этим предапокалипсическим местом. Тем более, что пока это единственно придуманное мной дело среди разнообразных нелепостей, которые мне, очевидно, суждены в жизни. Для того дела, которое мне представляется серьезным и нужным – делом окончательности – перехождением черты мира, – для этого дела я не приготовлен. А то бы мне следовало удалиться в пустыню. Но я сам знаю, что для меня еще не настала пора. Все же остальное – до нелепости не по мне. Между прочим, и официальное занятие поэзией и литературой, для которых у меня нет ни выдержки, ни подготовки. И это не потому, что я мню о себе. Просто я человек, чуждый всему этому, как-то случайно начавший писать. Вероятно, и в будущем, если мне не выпадет места преподавателя, или мало-мальски сносных уроков, пока придется пополнять кадры «бездельников», «хулиганов»… Вот почему для видимости дела я хочу прочесть лекцию (одну или две) об изменившемся сознании человечества – ну, конечно, только дидактического характера и достаточно внешние. Надо же все-таки кричать, чтобы хоть кто-нибудь шел – переходил. Иначе к чему же двигаться путем слова: достаточно удалиться, уйти, а удаление совсем предполагает в человеке сверхчеловека. Ну как, уйдя, поймешь, что слишком рано ушел и – о ужас и срыв – потянет назад. Тогда – все кончено в этой жизни… Вот почему меня всегда притягивает известное преподавание первых ступеней, тем более что это все-таки призрак дела. Кричать, бунтовать, бесноваться, юродствовать во Христе ведь позволено. Кричать, бунтовать, бесноваться о Вечности – тоже.
Настоящее дело (я твердо уверен в этом) должно начаться с упорной, долгой, вечной молитвы. Только она зажжет пожар. Только она выбросит пламя. Только в ней истинный восторг. Это – путь из мира, во все времена ведущий и приводящий к Концу; это – путь, которым, быть может, удастся и для других вскрыть конец. Это – единственное дело, а всякие «новые пути» – фикция, трафарет…
Белый. О нежной сердечности и не мечтал, одиноко замкнувшись в мирах своих странных, где бред клокотал еще; видя, что Блок, Мережковские перевлекают меня, от меня добивался лишь связи рабочей, которую я потом, разуверившись в Блоке, весьма оценил.
Деликатно в те годы ко мне подходил; помню, как мне на фразу показывал, не обижаясь шаржем:
– «Борис Николаич, стоит тут у вас – «Флюсов, Броме-лий», – совал карандаш в корректуру, – поставим-ка «Брюсов, Валерий», – показывал зубы; и ждал резолюции, но карандаш свой приставил к «Бромелий».
– «Ну, пусть!» Слова – вылетели. Добивался от меня рецензий.
– «Да я ж не умею рецензий писать: никогда не писал».
– «Ну, а что вы о Гамсуне думаете?» Я – высказываю.
– «Вот и готова рецензия: вы запишите лишь то, что сказали сейчас».
Или: зная, что я проходил физиологию:
– «Вот, напишите об этой никчемнейшей книге».
– «Я же не психиатр!»
– «Вы – биолог: физиологически же автор трактует проблему; он – неуч; наверно, его вы поймаете».
Таки добился… и потирал руки Брюсов: пошляк из «Кружка» декадентским журналом с поличным пойман; позднее увидев, что я роюсь в социологической литературе, он сдался на мою просьбу, напоминающую каприз: давать рецензии на печатающиеся брошюры социал-демократов, социалистов-революционеров и анархистов; «Весам», журналу искусств, эти рецензии не подходили: по стилю; он тем не менее мне уступил; и я, несмотря на свою социологическую малограмотность, писал эти рецензии. Так он уступил мне, считаясь с прихотью, чтобы не оторвать меня от «Весов». Так он уступил многим…
Мне открывалася остервенелая трудоспособность Валерия Брюсова, весьма восхищавшая; как ни был близок мне Блок, – я «рабочего» от символизма не видел в нем; Блок сибаритствовал; Брюсов – трудился до пота, сносяся с редакциями Польши, Бельгии, Франции, Греции, варясь в полемике с русской прессой, со всей; обегал типографии и принимал в «Скорпионе», чтоб… Блок мог печататься.
Был поэтичен рабочий в нем; трудолюбив был поэт.
Я, бывало, звонюсь в «Скорпион», вылетает и быстрый и прыткий, немного усталый, как встрепанный, Брюсов; черной, капризной морщиною слушает; губы напучены; вдруг, оборвав меня, с детской улыбкою зубы покажет:
– «Рецензия, – как?.. А!.. Чудесно».
И локтем склоняется на телефонный прибор; затрескочет и ждет; ты молчишь, оборвав объяснение; в наполненном этом молчании кажешься глупым; убийственна трезвость поэта «безумий»; и – главное: ты говорил «про свое»; он тебя оборвал, хлопоча о «чужой», не своей корректуре;
и утром и днем – ее правит, с ней бегает; где ж «свое»? Оно – бормотание строк в мельк снежинок меж двух типографий иль на мгновенье прислон к фонарю; шуба – истерзана; пук корректурный торчит из нее.
Таким у типографии Воронова его видел не раз; он обалдевал, выборматывая между двух типографий свой стих, – в миг единственный, отданный творчеству, в дне, полном «дела», чтоб… я, Блок, Бальмонт, Сологуб в «Скорпионе» могли бы печататься.
Делалось стыдно за ропот свой перед «педантом», сухим и придирчивым, каким иногда он казался.
«Трр-рр-рр» – телефонный звонок; и – прыжок к телефону:
– «Да!.. Книгоиздательство… Да, да… Чудесно!» Прижавши к скуластому, бледному очень лицу телефонную трубку, он слушает, губы напучивши; трубку бросит: и –
– «К вашим услугам!»
«К услугам» – не нравилось; а – что ж иное? Отчеты, петиты, чужие статьи, корректуры, чужие; их сам развезет, потолкует: со «шпонами» или без «шпон».
– «Что вы думаете о …?»
– «Точней выражайтесь: даю пять минут», – говорит пересупленным лбом, отвернувшись, – уродливый, дико угластый татарин-кулак; вдруг пантерою черной красиво взыграет.
Во всем, неизменно – поэт!
Вместе с тем: никогда не вникал в становление мысли моей: результат ее, точно отчет, подытоживал, грубо порой тыкнув пальцем:
– «Не сходится здесь!»
Но порою лицо утомленное грустно ласкало:
– «Сам знаю… Да – некогда… Вы не сердитесь… Тут в редакции – рой посетителей… Я ж – один».
Иногда, перепутавши несколько мысленных ходов, откидывался и хватался за лоб, растирая его:
– «Пару слов: о делах», – из кармана тащил корректуру.
Порой из редакции вместе бежали: не шел он, а несся и тростью вертел:
– «Вы куда?.. На Арбат… И я – с вами: к Бальмонту».
И молодо так озирался; ноздрями широкими воздух вбирал, бросаясь под локоть рукой, точно с места срывал; припадая к плечу, он плечо переталкивал:
– «Какого мнения, – пляшет, бывало, бородка, – вы о математити? – «ти» вместо «ки», – я люблю математику!» Нежно, воркующе произносил он:
– «Измерить, исчислить!» И падал, как на голову:
– «А вы как полагаете,– Христос пришел для планеты или для вселенной?» В ответ на теорию – практикой, понятой узко: под ноги; ширяний идей – не любил, а любил – поправки на факты; поправкой указывал; и, насладясь неотчетом (смутил-таки!), делался грустным: что толку? Томился своей отделенностью.
В. Я. импонировал: невероятной своей деловитостью, лесом цитат, поправляющих мнение; чрезмерная точность его удручала; казалося, что аппаратом и мысль зарезал он в себе; и – давал волю софистике; слабость из силы сознав и сознав силу слабости, не посягал на теорию он символизма, нам с Эллисом предоставляя ее платформировать.
Помню: «Кружок»; К. Бальмонт произносит какие-то пышные дерзости: его едят поедом; попросил слова Брюсов; возвысился черный его силуэт; ухватяся рукою за стуло, другой с карандашиком, воздух накалывая, заодно проколол оппонента Бальмонта:
– «Вы вот говорите, – с галантностью дьявола, дрезжа фальцетто, – что, – изгиб, накол, – Шарль Бодлер… – дерг бровей. – Между тем, – рот кривился в ладонь подлетевшую, будто с ладони цитаты он считывал, – мы у Бодлера читаем…» И зала дрожала от злости: нельзя опровергнуть его!..
Из сочетания тактик он производил… просто падежи в стане наших врагов; «стан» через несколько лет превратился в постыдное переселенье: из лагеря Пыпина в ставку Валерия Брюсова; но и «кадеты», которых «ловкач» объегоривал, «переегорили» временно Брюсова, заставив его поехать на фронт корреспондентом военным.
Он этим в себе самом вырастил правый уклон; незаметно «пародия» стала высказываньем, убежденьем почти; он как бы ставил цель: «Ну-ка, дерну по Пыпину: думаете, не сумею? А – вот вам».
Но в первых годах настоящего века такое умение действовать с тыла – расчистило путь: ему, нам.
Педагог!
Скоро я на себе испытал его тактику; взявши стихи в альманах, склонив сборник стихов подготовить к печати, дав лестную характеристику их, вскружив голову, он пригласил меня на дом и вынес стихи, уже принятые; не забуду я того дня: от стихов – ничего не осталось.
Схватив мою рукопись цепкими пальцами, выгнувши спину над ней (нога на ногу), оцепенев, точно строчки глазами он пил, губы пуча, лоб морща, клоком перетрясывая, стервенился от выпитого, дрянь вкусив:
– «Ха… «Лазурный» и «бурный» – банально, использовано; «лавр лепечет» – какой, спрошу я, не лепечет?» Откинулся, шваркнувши рукопись, сблизивши локти, расставивши кисти, рисуя углы:
– «Дайте лепет без «лепет», заезженной пошлости; «лепет» – у Фета, Тургенева, Пушкина. Первый сказавший «деревья лепечут» был гений; эпитет – живет, выдыхается, вновь воскресает; у вас же тут – жалкий повтор; он – отказ от работы над словом: стыдитесь!» Кидался на рукопись: тыкать и комкать, кричать на нее:
– «Нет – «лепечущих лавров… кентавров»… В стихотворении у Алексея Толстого опять-таки: «лавры-кентавры»; но сказано – как? «Буро-пегие»!.. Великолепно: кентавр буро-пегий, как лошадь… он пахнет: навозом и потом».
Сжимы плечей, скос бородки над переплетенными крепко руками, – с ужасной скукою:
– «Да и кентавр этот ваш – аллегория, взятая у Франца Штука, дрянного художника… Слабое стихотворение о слабом художнике!» – проворкотал он обиженно.
Я был добит.
Так, пройдясь по стихам, уже принятым им в альманах, он их мне разорвал… в альманахе.
– «Зачем же вы приняли?»
Фырк, дерг, вскид руки; вновь зажим на коленях их с недоумением, значащим: «Сам я не знаю»; и вдруг – алогически, детски-пленительно:
– «Все-таки… стихи хорошие… Ни у кого ведь не встретишь про гнома, что щеки худые надул; и потом: странный ритм».
Я понял: пропасть меж собственным ритмом и техникой; осозналися: проблемы сцепления слов, звуков, рифм.
Его длинные руки выхватывали с полок классиков, чтоб стало ясно, как «надо»: на Тютчеве, на Боратынском; сперва показал, как «не надо»: на Белом.
Бескорыстный советчик и практик, В. Я. расточал свои опыты, время юнцам с победительной щедростью.
Как он прекрасно читал своих классиков с глазу на глаз, как бы весь перечерчиваясь и бледнея, теряя рельеф, становясь черно-белым рисунком на плоскости белой стены; очень выпуклый, очень трехмерный, рельефный в другие минуты, он в миг напряженнейшего пропускания строк через себя перед выкриком их точно третье терял измерение, делаясь плоскостью, переливаясь в передаваемый стих; звук, скульптурясь, отяжелевая рельефами, ставился великолепно изваянной бронзой, которую можно и зреть и ощупывать.
Помнились жесты руки, подающей открытую книгу на стол.
Мощь внушенья красот – в долгой паузе перед подачею слова; в ней слышались действие лепки рельефов, усилия слуха и произношения внутреннего; так он, вылепив строчку, влеплял ее: голосом.
Себя читал, декламируя горько, надтреснуто, хрипло, гортанно, как клекот орла, превращающийся в клокотание до… воркования…
Но Брюсов не был эстрадным чтецом, а чтецом-педагогом, вскрывающим форму, доселе заклепанную; завозясь молотками, ударами голоса, сверлами глаз и клещами зубов, как выкусывающих из заклепанной формы железные гвозди, он нам вынимал стих Некрасова, Пушкина, Тютчева иль Боратынского, прочно вставляя в сознанье его; так разбором стихов он, смертельно ранив «поэта» во мне, мне расклепал Боратынского: этот день был событием; я, им ободранный, не унывал; уничтожив плохую продукцию, он показал на матерого «зверя» – на стих: как его надо холить…
Брюсов был чутким директором в первой им созданной школе: до всех «стиховедческих» опытов школа была без устава; но списочек слушателей где-то был у него; в нем он делал отметки, включая иных и вычеркивая нерадивых…
Все сплетни о его гнете, давящем таланты, – пустейшая гиль, возведенная на него.
Помнится белый домок на Цветном; синий номер: «дом Брюсовых»; здесь я бывал у него; я не помню убранства и цветов; мне бросались в глаза: чистота, строгость, точный порядок; стояли все лишь необходимые вещи; в столовой, малюсенькой, – белые стены, стол, стулья; и – только; в смежной комнате, вблизи передней (с дверями в столовую и в кабинетик) – седалища: здесь ждали Брюсова; стол, за которым работают, синенький, малый диванчик, и – полки, и полки, и полки, набитые книгой, – его кабинетик.
Квартирка доричная, тихая, виделась – черным на белом; ее обитатели – острые, быстрые, дельные и небольшого росточку фигурки, с сарказмом, с умом; никаких туалетов, ничего от декоративных панно, от волос на ушах или жестов, с которыми дамы и снобы ходили за Брюсовым; умная, в черном, простом, не от легкости, а от взбодренности, смехом встречающая Иоанна Матвеевна, жена: энергичная, прыткая, маленькая; чуть «надсмешница», ее сестра, Бронислава Матвеевна; преюркая ящерка, с выпуклым лбом, с быстрым выстрелом глаз, черных, умных, сестра Брюсова, – музыкантша, теории строящая; ее дружба ко мне заключалась в том, что, сев рядом, гортанным фальцетто нацеливалась в слабый пункт моих слов; всадив жало, блистала глазами; В. Я. определил раз в игре ее: «Ты – землероечка: малый зверок». Зарывалась она в подноготную; являлся за чайным столом Саша Брюсов, еще гимназист, но тоже «поэт»… едкий, как брат, супясь, как петушок, говорил брату едкости; брат, не сердясь, отвечал.
Иногда мне казалось, что в этой квартирке все заняты сухо игривым подколом друг друга; здесь каждый за чайным столом, софизм выдвинув, им поколов, удаляется, супясь, работать. Семейство сходилось: на колкостях.
Гостеприимный хозяин являлся за стол из редакции; но вскоре же быстро бежал: в кабинетик; и, без приглашения зайдя, – разве походя с ним перекинешься словом; и будешь сидеть: с Иоанной Матвеевной, с Надеждою Яковлевной.
Впрочем, бывали часы и для «родственников»; раз, зайдя, я увидел закрытую дверь; Иоанна Матвеевна сказала:
– «Валерия Яковлевича – не извлечь: он винтит в эти дни и часы: с отцом, с матерью».
Родственный «винт» (от сего до сего) – дань: семейным пенатам.
В среду вечером (перечень «сред», отпечатанный, нам рассылался в начале сезона: со списочком чисел) являлся кружок из любителей литературы, к которому присоединялись брюсисты, «свои», те, которых он силился в партию вымуштровать.
Разговор – острый, но деловой; – треск цитат и сентенций (как надо писать) вперемежку с софизмами; попав сюда, я дивился отчеркнутости интересов; Д. С. Мережковский с «идеями» – был отстранен.
Шири идеологий сознательно были Валерием Брюсовым вынесены из квартирки, которая – класс иль – ячейка «Весов» – «Скорпиона»; и, когда начинались вопросы «не только» о том, как писать, им чертилась отчетливо демаркационная линия: об этом можно беседовать, о том – не стоит.
Когда я являлся сюда, то В. Я. бросом рук и подставом любезнейшим стула под ноги как бы предупреждал очень строго:
– «Беседа уже начата; и ширянья – откладываются!» «Ширянья» им выносились из «сред» – в разговоры вдвоем: у меня, на прогулке.
Что-то строго спартанское: дух Диониса отсутствовал; узкая сфера вопросов, дающая много, порой скучноватая, когда ты был неприлежен; класс – с контролем, с экзаменами; у меня и в «Дону» мы ширяли идеями, а отдыхали, резвясь, у Владимировых.
Здесь – учились мы.
Здесь же встречался впервые с небольшим кружком образованных очень людей…
Здесь Брюсов мне виделся очень покинутым; он, как учитель словесности, был отделен от юнцов и от сверстников; больше сливался тогда он со старшими из «Скорпиона», на почве лишь дела.
Таким был в эпоху начала знакомства со мной…
Я был подавлен уже ограниченностью кругозора, дешевкою, позою, мелкокультурностью той молодежи, с которой встречался у Брюсова… Ходили они в символистах… Было много таких… увиденный выводок Брюсова сильно меня удручал; ощущалась черта между пухнущей вокруг «Скорпиона» средой и самим «Скорпионом», среда была только реакцией на улюлюканье прессы; надень желтый фрак и пройдись по бульвару, – об этом появится: завтра; глядишь, послезавтра: расхаживают – фраки желтые; Брюсов – так как же: Койранские, Рославлев!
Но к чести Брюсова – он ужаснулся явленью своих «двойников»; и когда появился присяжный поверенный С. Соколов, поэт тоже, с желаньем печатать себя и жену под одною обложкой с Бальмонтом и Брюсовым, и достал деньги на книгоиздательство «Гриф», то с чертовской поспешностью Брюсов ему поспешил сбыть всех «брюсиков»; и они стали «грифятами»; я, к сожаленью, не понял игр Брюсова и Соколова; я, запутавшись в «Грифе», втянул туда Блока.
И я был наказан: жестоко.
Весной 903-го «грифы» ползали маленькими «скорпиониками»…
Ходасевич. Да, здесь жили особой жизнью, непохожей на ее (Петровской. – И. Т.) прошлую. Может быть, и вообще ни на что больше не похожей. Здесь пытались претворить искусство в действительность, а действительность в искусство. События жизненные, в связи с неясностью, шаткостью линий, которыми для этих людей очерчивалась реальность, никогда не переживались как только и просто жизненные; они тотчас становились частью внутреннего мира и частью творчества. Обратно: написанное кем бы то ни было становилось реальным, жизненным событием для всех. Таким образом, и действительность, и литература создавались как бы общими, порою враждующими, но и во вражде соединенными силами всех, попавших в эту необычайную жизнь, в это «символическое измерение». То был, кажется, подлинный случай коллективного творчества.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?