Текст книги "Неизбирательное сродство (сборник)"
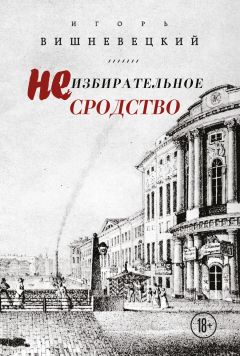
Автор книги: Игорь Вишневецкий
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Впечатлений уже было больше, чем он мог удержать в голове. Даже в таком сильно порушенном и перестроенном виде Вечный Город был всё-таки поразительнее всего, прежде виденного, даже Равенны. А воображаемая сценография этого Города в древности со взаимоперетеканием циркульных линий, бесчисленными обелисками, прямоугольниками садов, ребрящимися колоннадами вдоль протяжённых зданий и вовсе сокрушала сознание того, кто пытался её вообразить в деталях.
Но мы, дорогой мой читатель, не сказали о главном. Где же Эспер жил все эти дни? И где был дядя его Адриан Лысогорский, пригласивший его в этот самый Рим? Князь Адриан уехал за несколько дней до появленья племянника, которому оставил очень короткое письмо:
«Дорогой Эспер,
прости, что не встречаю. Необходимость быть там, где я сейчас нужнее, действительно безотлагательна. Знаю, что до Травемюнде ты доехал без приключений. Думаю, что и остальная дорога была для тебя приятной. В шкатулке с изображением змеи найдёшь денежные векселя. Живи пока у меня. Я дам тебе знать, когда мы свидимся.
Твой дядя Адриан».
Ключ от шкатулки был вложен в письмо, которого всё равно никто, кроме небольшого числа русских в Риме, а они и так были все на виду, прочитать не смог бы – так что, оставляя письмо у хозяина дома, в котором Адриан Лысогорский снимал комнаты, дядя Эспера ничем не рисковал. К тому же письмо было в плотном конверте, перевязанном тесёмками и запечатанном сургучом, на котором он нашёл оттиск фамильной, дедовской печати: кириллическое заглавное «Л» с лежащим под ним коротким обнажённым мечом, окаймлённые лавровым венком.
И вот герой наш поселился в оставленных ему дядей недорогих комнатах, отделанных на, как он догадался, модный немецкий манер, который немецким был очень условно и сочетал увлеченье древностью с удобством и простотой. Единственное на всё жилище зеркало, простое и прямоугольное, висело в прихожей и имело в чёрной части буковой рамы вставку – прямоугольник, положенный, в отличие от вертикального зеркала горизонтально: внутри его был изображён пятнистый коричнево-золотой пёс. Но отражающее стекло было почему-то завешено куском красного бархата. Эспер недолго думая сдёрнул покрывало, и в стекле тотчас отразилась небольшая анфилада комнат: гостиная, кабинет, спальная. Гостиная была почти пуста. В кабинете стоял секретер, отделанный буком и увенчанный в верхнем отделении двумя крылозмеями, исчезавшими, когда секретер открывался и верхняя его дверца превращалась в стол. В самой дальней комнате – спальной – ложем служила загибающаяся в центральной части к земле, чтобы создать иллюзию колыбели, ладьи или раковины абсолютно прямая и жёсткая внутри загибающейся формы – в жёстких планках, на которые был положен матрас, кровать, оклеенная вишнёвым шпоном, который придавал скульптурной по виду выдумке мягкую коричневость. У изголовья и у ног кровати, совсем как на помпеянских фресках, рисунки с которых Эспер успел повидать к этому времени в великом количестве, стояли крепкие чёрные колонны, отделанные буком. У кровати Эспера располагался ночной столик, запиравшийся на ключ и напоминавший обрубок приплюснутой колонны. На дверце столика была изображена лира внутри лаврового венка. За дверцей ночного столика обнаружилась та самая шкатулка, о которой дядя Эспера упоминал в письме. На комоде, также поставленном в спальной комнате, стояли два чёрных грифона, отлитые в металле по слепкам с найденных на раскопках в Помпее и Геркулануме, и смотрели в лицо друг другу.
При всей простоте в игре форм и красок в убранстве квартиры было что-то завораживающее.
Книг в ней не оказалось совсем, кроме оставленного на прикроватном столике бамбергско-вюрцбургского издания «System der Wissenschaft. Erster Teil» (xv), между страницами которой – там, где пространные рассуждения о «Herrschaft und Knechtschaft» (xvi), – Эспер обнаружил на сложенном вдвое листке бумаги запись: «Признания от Другого не ищут, его берут или им рискуют». Эспер не понял, была ли это мысль его дяди, но почерк был точно его. Вообще жильё выглядело как квартира холостяка, не слишком часто им навещаемая.
А как же новый и почти неразлучный теперь товарищ Эспера?
Вакаринчук снял на деньги от Академии Художеств светлую, но крайне скромную, почти лишённую обстановки мастерскую, в сравнении с которой квартира Лысогорского могла показаться почти роскошной. Впрочем, бытовые удобства Филиппа заботили мало: он готовился путешествовать дальше по Югу Италии и по Сицилии.
Эспер же продолжал заносить впечатленья в тетрадь:
«Понедельник, 27 июля 1835.
Сегодня с утра Филипп повёл меня в мастерскую первого из наших художников в Риме, Ивана Роберти. Итальянец по рождению, Иван Максимович с раннего детства жил в Петербурге, и так свыкся с нашим языком и обычаями, что, когда был послан от Академии Художеств в Рим, остался им верен, всячески помогая устройству новоприбывших пансионеров Академии, способствуя им в их первых шагах советом, делом и сердечным расположением. Немало дельных советов от Роберти получил, по его словам, и Филипп, когда впервые оказался в Италии.
Роберти лет семь назад женился и живёт в просторной квартире при мастерской с женой-итальянкой и уже целым выводком детей.
Работы его продаются, кажется, неплохо – итальянцев удивляет, как их бывший соотечественник смог настолько проникнуть в душу далёкого, не сродственного им народа, и потому те, кто их ценит, видят в них отчасти курьёз, отчасти доказательство того, что гений итальянский способен к самым неожиданным превращениям.
Когда мы вошли, то увидели четырёх мальцов, собравшихся у кистей и красок отца, осторожно и внимательно их трогающих, безупречно одетого приветливого хозяина, и я с удовольствием потрачу ещё несколько строк, чтобы удержать на память характерные черты его внешности. Роберти был одет и по-домашнему, и артистически, и вместе с тем официально, как умеют (я это успел заметить), сохраняя вкус и меру, одеваться многие природные итальянцы и итальянки. На нём были расстёгнутый светлый сюртук свободного покроя, белая льняная рубашка, светлые брюки со штрипками и плоская, без каблуков, почти домашняя длинноносая обувь. Аккуратная, но не слишком короткая стрижка каштановых волос и короткие бакенбарды придавали оживлённому, очень правильному лицу моложавость. Впрочем, ему было уже тридцать пять лет. Из соседней комнаты раздался голос жены, не знавшей о нашем приходе; она продолжала говорить и входя в комнату, где мы все собрались, на, видимо, привычной в этом доме смеси наречий:
– Giovanni, presta un poco di attenzione ai bambini (xvii). Добрый день, господа.
Роберти стал показывать нам новую серию гравировальных работ, которой был занят. Это всё были сцены из русской истории, преимущественно стародавней. Особенно Роберти удавались сцены насилия, эпичного по размаху, словно позаимствованного из «Илиады» или «Энеиды». Расправа недовольных данью древлян с князем Игорем Рюриковичем, привязанным ими к верхушкам согнутых деревьев, которые разорвали могучего воина напополам, месть вдовы его Ольги, сжигающей древлянский Искоростень дотла, убийство Святополком Окаянным своих братьев Бориса и Глеба, ослепление князем-изгоем Давыдом Игоревичем своего двоюродного племянника князя Василька Теребовольского, тоже изгоя; да сколько ещё подобного! Исполнены гравюры были классически точно, с прорисовкой всех мускулов, всех деталей одежды, так что герои казались атлетами, только что покинувшими арену древнего стадиона или хуже того – цирка, русского Колоссея, но сам их предмет!
– Разве одно насилие замечательно в нашей истории? – засомневался я.
– Нет, не одно, но его много, – отвечал хозяин.
– Пусть так. Но разве его мало в истории римской?
– Немало. Но римлянин, учась эстетическому у грека, умел увидеть красоту и совершенство даже в насилии: вот когда полководец децимировал дрогнувшие легионы, то легионы, сокращённые математически, становились лишь твёрже, а когда уличённый в заговоре сенатор убивал себя сам, то ему по смерти воздвигали памятники как человеку чести, герою. Славянин же упивается ужасом совершаемого, чего никогда не стал бы делать человек латинской расы, и в этом есть что-то нетрезвое.
– Может быть, экстатическое, как в древних греческих дионисиях?
– Нет, именно нетрезвое.
Перешли к главной работе Ивана Максимовича, стоявшей не вполне законченной на больших подставках посреди его мастерской, к «Борющемуся Лаокоону» – аллегорическому полотну, намекавшему, по словам самого художника, на современность: могучий жрец Аполлона с лицом и телом, искажёнными неравной схваткой с вынырнувшим из морской бездны кольчатым змеем, словно пытается его растянуть, разорвать на куски, – так атлет совершает последнее усилие, которое сторонний наблюдатель назовёт смертельным, которое приводит к его победе или к полному поражению. Особенно впечатляло лицо Лаокоона: с глазами, не видящими ничего перед собой и вместе с тем открывающими зрителю всё, что привело к последнему усилию и даже, если поменять угол взгляда, вперёнными в зрителя, прожигающими его насквозь. Таким уменьем изображать видящие и невидящие глаза обладали лишь средневековые иконописцы. Я сразу узнал это лицо.
– Да-да, это ваш дядя, – заговорил Роберти прежде всяких вопросов с моей стороны. – Мы с ним неплохо знакомы, и он согласился позировать. Я очень был рад: где ещё отыщешь такую выразительность! В фигуре – может быть, но в лице!
Взгляд мой упал на одного из сыновей Лаокоона – протянувшего руку к отцу, глядящего на него в изумлении – и… я узнал Филиппа. Второй сын – тот, что слева – был нарисован лишь в контуре. Написаны в красках были одни змеи, охватившие, словно жгуты, оба его плеча и бьющие хвостами о спину. Но и по контуру фигуры было видно, что он, хотя и смотрел на отца с изумлением, тоже боролся, выбросив в воздух обе руки, словно хотел и действительно мог напряжением всех мускулов разорвать давящую тело его змеиную хватку. И, может быть, именно второй сын и должен был выйти победителем из схватки. Лица у него ещё не было. Над тёмным Эгейским морем, на берегу которого происходила борьба, висело почти чёрное небо, и вообще воздух был без намёка на свет, отчего тела людей, сцепившихся с чудовищными морскими змеями, казались светящимися.

– Не отрицайте, любезный Иван Максимович, связи этого полотна с новейшими исчадиями французской школы, – заговорил не без иронии Филипп.
– С кем же? С Жерико? Но это всё было лет двадцать назад, молодой человек. – Роберти пришёл в раздражение. – Вы рассуждаете совсем как господин Корсаков. Это очень профессорские, правильные рассуждения. Скорее уж я научился чему-то у Гвидо Рени. Вы видели работы Рени? – поинтересовался Роберти, обратившись на этот раз ко мне.
А я не только не видел этих работ, но и само имя художника слышал впервые.
– Обязательно доберитесь до Болоньи и познакомьтесь с этим выразительным мастером в Пинакотеке, – завершил разговор Роберти несколько наставническим тоном, на что он, конечно, имел полное право.
Кажется, ему было пора возвращаться к семье, а мы отправились с Филиппом в мастерскую к Самсонову, который ждал нас к пяти часам. Увидеть двух столь разных художников в один день, к тому же находящихся друг с другом в не признаваемом, но упорном соперничестве, было и поучительно, и почти невероятно. Но и Филипп, и, как оказалось, мой дядя Адриан состояли с обоими в самых дружеских отношениях, и потому Самсонов встретил нас с предельным радушием, на какое он был способен. В отличие от Роберти, он жил небогато, аскетом, и мастерская его являла вид холостяцкого жилья с порядком в частях и углах, что бросаются в глаза гостю, и с беспорядком там, где идёт работа и где хозяин спит. Между тем нас уже ждал накрытый стол с нехитрыми яствами, доставленными из ближайшей траттории, и с большим количеством домашнего белого вина. Вино я пил в Риме впервые; оно оказалось очень лёгким, хотя и сильно хмелящим. Так как мы ничего не ели с утра, трапеза была желанной.
– Ешьте, господа, ешьте, – приговаривал бородатый и давно не стриженный Самсонов, с интересом наблюдая, как мы уплетаем макароны с разными приправами из оливкового масла, пахучих трав, перетёртой варёной рыбы и перетёртого же твёрдого сыра, а также того, что итальянцы зовут pomi d’oro, и подливая нам и себе вина из холодных ещё кувшинов, – римская еда это, господа, священнодействие.
Через широко распахнутую балконную дверь солнечный свет заполнял всю мастерскую, даже обильно росший вдоль стены второго этажа виноград, который Самсонов, разглядывая меня намётанным оком рисовальщика, иногда обрывал и ел, запивая белым вином (к остальной пище он почти не прикасался), даже тенистый виноград не мешал дыханию золотого, горячего воздуха, колебавшего пришпиленные здесь и там картоны. Во внешности Самсонова было много мужицкого, из земли идущего; казалось, перед нами стоит откопанный на руинах и оживший скульптурный Вакх, только причёсанный, вымытый и обряженный в бархатную куртку и штаны, с несколько старомодно-артистическим галстухом, проворно повязанным вокруг шеи. Но кисть, око, сама мысль его были возвышенны и чисты и как будто питались лишь одним нематериальным; это стало особенно ясно, когда он показал нам картину свою, практически завершённую, которую именовал «дитятей сердца».
Но сначала мы увидели бесчисленные «корректуры» будущего полотна на картонах – каждая завершённая и прекрасная сама по себе. Однако картина, если это вообще возможно было назвать картиной, превосходила масштабом и уверенной силой любой из набросков.
Вот что на ней было изображено.
Окружённый раскалёнными докрасна камнями и жарким, почти вулканическим бурлением расплавленной, алой материи восстаёт из чёрного миндалевидного гроба, как из мёртвой расщелины, весь обмотанный грязно-белыми бинтами, Лазарь; бинты разматываются; лицо Лазаря удивлено и покрыто четверодневной щетиной; глаза глядят почти что в упор на Того, Кто раздвигает его смертное заточение, но Лазарь молчит; Христос, только что произнесший слова, воскрешающие мертвых, как и пришедшие с ним ученики – в синих, небесного цвета одеждах; родные Лазаря, женщины и мужчины, все в зелёном; некоторые из свидетелей – молельщики в иудейских платках – развели в удивлении руки. Отодвигаемая другими молельщиками крышка гроба тоже раскалена докрасна. Но земля залита золотым сиянием солнца, а воздух прозрачно лазурен. Вдали – зелёная роща, и дома Вифании тоже, как и одежды родных Лазаря, зеленоватого цвета. При этом все лица совсем не иконописные, а такие, как в наше время, особенно у учеников Христа – как будто вдохновенные студенты пришли к осуществляющему сверхъестественный опыт педагогу; лишь лицо Спасителя воплощает решимость и волю сверхчеловеческую.

В том, как была сделана композиция, чувствовалось много гармонии, а в цвете было что-то стихийное, бурлящее, дикое, как стихиен был облик изобразившего «Воскресение Лазаря» художника, но, повторюсь, и композиция, и линии его рисунка были нетяжелы. Я долгое время не знал, что сказать.
– Вот и дядя ваш придёт и, бывало, целый час смотрит, не отрываясь. Хороший он человек, только, похоже, пережил в жизни много горького, – начал Самсонов, видя моё изумление. – Да, господа, я ведь знал, что на пустое брюхо никакая мысль в голову не идёт, да и хмель размышлению не помеха. Что ж! Вы, князь, пришли говорить со мной об искусстве? Давайте об нём! Я, простите за прямоту, считаю, что сюжет всякой картины должен быть понятен каждому, кто на неё посмотрит, особенно русскому, ведь я пишу для России. Ну, вот, скажите мне, что уроженцу России какой-нибудь суд Париса или Нарцисс над тухлой водою? Наш брат со смекалкой подобный суд решит в два счёта, а Нарцисса сочтёт за помешанного дурака.
– И всё-таки искусство должно возвышать, Сила Воинович. Да ведь вы и сами это знаете, – мягко возразил ему Вакаринчук.
– Эх, сердечный ты мой, вот когда тебя мать впервые в церковь взяла, когда ты про Лазареву субботу услышал?
– Так то у нас в Полтаве. Там даже лекарь-немец в храм ходил. Ну, не по доброй воле, а чтобы те, кого он пользовал, за нехристя не считали.
– Я тоже, знаете ли, первые годы провёл не в столице, – поддержал я Филиппа. – В детстве моём церковь была в соседней деревне, а вокруг – леса да болота. Думаю, что про Лазареву субботу услышал раньше, чем разобрал первые буквы. Но именно потому и Парис, и Аполлон-змееборец, и Агамемнон…
– Друзья мои, я повторю: самый предмет и взгляд должны быть понятными всякому в Отечестве нашем. Я сколько лет здесь живу, а чему научился? Подбору цвета по помпеянским да по ватиканским, из древности, фрескам и усилению его у Дуччио да у Джиотто. Но и в Помпее, и у Дуччио, и у Джиотто – школа греческая. Так ведь и у нас у любого пьянчужки-подмалёвщика в самом нищем глухом приходе – византийская школа!
Странно, итальянец по крови, по вкусам, по жизни своей, наконец, Роберти изображал нечто, на что не всякий природно мрачный русский решится, и в самой древности своего латинского искусства находил сюжеты и приёмы, выдававшие в нём воспитанника жестокого и сумрачного севера, а защитник русского взгляда, русской кисти и понятной всякому русскому темы Самсонов, напротив, творил просветлённо – так, будто жизнь его вся прошла здесь, на юге Европы, как если бы он тут и родился, а не в Замоскворечье, где солнце сияет в безоблачном небе лишь каждый шестой день в году. Диалектика, как сказали бы немцы.
Вторник.
Город, ты подобен солнцу именно после восхода
и ближе к закату,
лучи твои оживляют контур рисунка,
беглую кисть и взгляд живописца,
ты воздвигаешь не только день, но и ночь,
и, как солнце после восхода и перед закатом,
удлиняешь тени всего, до чего прикоснёшься:
деревьев, мостов, экипажей, колясок, домов, обелисков,
колонн, арок, коров, забредших на Форум,
разнообразных статуй, пролежавших века под землёй
или недавно изваянных, поставленных вдоль карнизов
зданий, чтобы всякий глядящий видел, что прошлое днесь
вправлено в будущее, ибо ты больше, чем город,
ты – цель и зеркало всех остальных городов.
Раннее утро. Снова светило восходит,
изгоняя ненужные тени из потаённых углов
сна, разматывая пелену
сомнения, мысленной смерти.
Мир – оживает и удивлённо стоит
как воскрешённый Лазарь; предательский гроб разомкнулся,
стал просто трепетным воздухом, в котором я слышу тебя,
расцветающий день, – то, как деревья и птицы
вторят несмолкнувшей жизни
собственной трепетной жизнью, зеркалом смыслов своих.
Весь этот ровный шум не смолкающих листьев,
шелест рессорных колясок о мостовые,
стук тяжёлых подвод, конских копыт, каблуков,
разные голоса – будто движение моря;
и подступающий вечер
обещает прерыв между бодрствованьями сознанья –
пока светило в надире – и свежий, живительный сон.
Среда.
Пришёл Филипп и отчего-то поначалу не по-приятельски, а чуть ли не официально: «А что, ваше сиятельство, не появляетесь у княгини W. и её сестры? Вы слышали, что у них через несколько дней будет множество народу?» – «Да, слышал, – ответил я, – но, признаться, не получал от них никакого приглашения!» – «О, Эспер, вы смеётесь, ни вам, ни мне приглашения к ним не нужно. Вас там ждут и на присутствие ваше очень рассчитывают. Итак, я заеду за вами в пятницу пополудни и едемте вместе на их виллу. Там будет весело, не пожалеете». Не без удивления я согласился».
Глава третья. Празднество на вилле

Вакаринчук и князь Эспер приехали на Виллу Солнца и Луны (так несколько вычурно именовалось владение княгини W. и сестры её Александры), когда светило уже клонилось к закату. Сильно улучшенная в последние год-два, когда после скоропостижной смерти отца и продажи остававшихся после него в России владений сёстры смогли заняться устройством собственного римского дома, вилла соединяла фантазию предшествующих хозяев со вкусами и выдумкой новых.
Уже подъезжая в экипаже к воротам виллы, Эспер пожалел, что, проведя столько времени в Риме, оказывался здесь, вопреки приглашениям, впервые. Вся территория представляла собой правильную, словно очерченную огромным циркулем окружность (о, эта циркульная геометрия римских пространств!), по контуру которой была возведена стена. На самом юге располагались три грузные колонны, на которых держались две пары широко распахнутых ворот, что позволяло избежать встречного движения въезжающих и выезжающих. Правую, восточную, колонну венчала аллегорическая статуя Утра, левую, западную, – Вечера. Широкая дорога вела к центральной части владения, где вместо привычного фонтана располагалась на возвышении вычерченная тем же невидимым циркулем просторная сцена, вокруг которой окружностью шла широкая дорога-аллея, позволявшая и огибать её, и уместиться здесь достаточному числу зрителей, если на сцене происходило представление. В северо-восточной части сцены стояла обращённая одним из лиц на запад солнца статуя троеликой Гекаты со всеми признаками божества отражённого лунного света: с факелами в руках, с полумесяцем, венчающим чело; в юго-западной – глядящий на восток, откуда каждый день вспыхивает солнце, – Аполлон с лирой. Более узкая, чем въездная, дорога продолжалась к северу и вела прямо к парадному входу в трёхэтажный палаццо, увенчанный скульптурным изображением Гелиоса, в тяжёлом от влаги плаще выныривающего с четвёркой впряжённых в колесницу коней из морских волн. Палаццо задней стеной нарушал идеальную геометрию окружности, сильно выдаваясь за её пределы; зато слева и справа к нему примыкали закруглённые крытые галереи с колоннами, где, как скоро узнал Эспер, хранились коллекции, как унаследованные сёстрами от их отца, так и собранные из того, что было отрыто прежними хозяевами при строительстве виллы: статуи, плиты, просто осколки с фрагментами мозаик и фресок. От центра виллы на восток и на запад шли аллеи, перпендикулярные основной, берущей начало от ворот и ведущей от ворот прямо к палаццо; восточная именовалась Аллеей Гениев, и там стояли памятники великим поэтам разных народов, западная – Аллеей Героев, но памятников там было всего три: Александру Великому, фельдмаршалу Суворову и черномраморный бюст прусского генерала в отставке князя W., мужа старшей из сестёр Елизаветы Дмитриевны, храброго, хотя и вполне заурядного участника войн с Наполеоном. Бюст был сделан на манер изображений римских цезарей, да так величественно и ловко, что гость, ничего не знающий о военной истории, счёл бы, что исправный служака W. и был величайшим стратегом всех времён и народов – выше Ганнибала, Юстиниана и даже самого Чингиз-Хана. Были ещё четыре аллеи, проведённые под углом 45° между главной аллеей и расходящимися от неё на восток и на запад Аллеей гениев и Аллеей героев, но названий они пока не имели.
В начале, в середине и в конце каждой из восьми аллей, лучами расходящихся от центра, при этом по разные стороны, стояло по светильнику-факелу, по форме напоминавшему римские, общим числом 24, по числу часов в сутках, и зажигались они, кажется, от газа, так что когда все 24 светильника запылали в сумерках, то ощущение было грандиозное, превращавшее виллу в огненный диск или в жаркое звёздное небо, расходившееся кругами светил от самого центра.
Всё это показалось Эсперу подражанием декорациям-обманкам волшебника Шинкеля, о которых он много слышал в Москве. (Эспер вдруг поймал себя на том, что, проведя столько времени в компании Филиппа, начинает всюду отыскивать аналогии с изобразительным искусством.) Особенно завораживали такие декорации, по словам видевших их, в «Волшебной флейте» Моцарта: ступени, река, огонь превращались в египетский храм солнца; а священный город Зарастро с пальмами и сфинксами оборачивался вселенной царицы ночи с её глубокой, магической синевой, прошитой строками звёзд. Впечатляло и обратное превращение: индейский храм бога огня, сделанный Шинкелем для «Фернандо Кортеса, или Завоевания Мексики» Спонтини, в образах которого соединились сны конкистадоров об Индии в Америке с Индией настоящей, всё равно больше похожей у Шинкеля на страшную галлюцинацию – мрачные синие сны, вдруг переходившие в залитую солнцем долину, в которой стоял палаточный лагерь испанцев.
Так и тут внутри новой, огромной декорации Виллы Солнца и Луны, продуманной до деталей Елизаветой и Александрой, гости, небольшой оркестр, поющие и сами пришедшие, в их числе Филипп и Эспер, оказывались свидетелями и одновременно пленниками метаморфоз пространства.
Когда оба приятеля вышли из экипажа, то со сцены уже доносились звуки арии: нежное, длящееся соло гобоя на фоне струнных, фагота и валторн, к которому незаметно присоединялось сопрано чарующей нежности и красоты. При первых же тактах Эспер догадался, что это был Моцарт, и пока они с Филиппом шли к возвышавшейся сцене, хотелось, чтобы музыка и пение длились бесконечно. Эспер, достаточно освоившийся с итальянским, кажется, понимал теперь каждое спетое слово, плывшее по воздуху над садом – в пламени огромных светильников:
Как хотела б я, Боже,
рассказать про беду!
Но судьба обрекла
на немые рыданья.
Сердцу – нет, не сгореть
за того, кого я полюбила бы.
Я похожа
на варварку жестокосердую.
Приблизившись к сцене, Эспер увидел, что поёт Александра Дмитриевна, которую он запомнил совсем другой по плаванию из Кронштадта в Травемюнде. Сегодня она была вся в светлом, что становилось особенно заметно в сгущавшихся сумерках, когда оттенки тяготели к одному тону, и начинало казаться, что на ней – настоящее белоснежное платье. Это её голос был так нежен и чарующ в итальянском пении: полный контраст к её же решительным русским речам и поступкам на пароходе. Увидев Эспера и Филиппа, певшая ласково улыбнулась. Но тут сменились и темп – с раздумчивого адажио на скорое аллегро, – и даже звучание ансамбля; громче и решительней зазвучали струнные; и Александра, видимо, наслаждаясь производимым на Эспера впечатлением, выкинула руку в его сторону в театральном жесте:
Ах, граф, уходите,
бегите, спешите
прочь от меня!
Эмилия, та, что вас любит,
ждущая вас,
пусть не томится.
Она-то достойна любви!
Вы же, звёзды, враги мои,
как вы безжалостны!
Останется он –
и я потерялась.
Уходите, бегите,
о любви – замолчите,
её сердце – для вас (xviii).
Эсперу показалось на минуту, что все взгляды устремились на него, но на Эспера никто и не думал обращать внимания; ведь это был всего лишь концерт для гостей. Аплодисменты заставили его окончательно успокоиться. Вслед за арией зазвучала популярная тема из «Сомнамбулы» Беллини в аранжировке для фортепиано и струнных; Александра Дмитриевна, сойдя с возвышения, успела затеряться в толпе. Эспер услышал разговор, что нааранжировал из «Сомнамбулы» на целый дивертисмент какой-то русский, живший недавно в Риме, по фамилии, кажется, Глинка. Теперь всё внимание было на оставшихся на возвышении. У клавишного инструмента Эспер заметил двух молоденьких и очень хорошеньких итальянок, черноволосую и светлую, последнее в здешних краях – редкость: первая играла, вторая переворачивала ноты. Было в их манере держаться что-то подростковое, угловатое, но решительное, как у Александры. Эспер слышал, что брак Елизаветы Дмитриевны с князем W. оказался бездетен, и супруги взяли на воспитание приёмных дочерей – Кьяру и Иларию; кажется, это были именно они. Сидевшие за пюпитрами со струнными инструментами, похоже, были тоже не приглашёнными музыкантами, а друзьями этого дома, но играл ансамбль слаженно и с большим воодушевлением. Чисто инструментальная музыка сменилась пением в сопровождении фортепиано: пели дуэтом обе сестры – Кьяра и Илария; и пока те, кто играл на струнных, отдыхали, сёстрам аккомпанировала высокая и статная приёмная мать их, почему-то в костюме Кортеса, словно и вправду собиралась представить «Завоевание Мексики» Спонтини. И снова это был Глинка, дань русской половине семьи. Дуэт этот Эспер знал прекрасно и сам мог был подпеть, да голосу и умения не хватало. Его и радовало, и волновало то, как старательно обе девушки выпевали, видимо, не слишком понятные им русские слова:
Я сплю, мне сладко усыпленье;
забудь бывалые мечты:
в душе моей одно волненье,
а не любовь пробудишь ты.
Эспер подумал было, что русской меланхолии не место здесь, в этом поразительном саду, но нет, подсвеченная красотой пения, бельканто, она становилась вполне преходящей: лёгкой тенью, отблеском в летний вечер. Как же здесь всё-таки было хорошо!
– Я сегодня вечером ставлю на Кьяру. А знаете, ведь она похожа на наших полтавских, – толкнул его в бок Вакаринчук. – Вам – Илария. По рукам? Главное, не тушуйтесь.
После романса Глинки на сцене снова собрался камерный ансамбль, но в необычном составе: из духовых – кларнет, гобой, фагот и валторна, из струнных – две виолончели и контрабас, а за клавишный инструмент села теперь Илария, которой Кьяра переворачивала ноты. Играли новинку – раздобытое хозяйками празднества Andante из только что завершенного Фридрихом Калькбреннером Большого септета, который он собирался представить на водах в Баден-Бадене в августе. Анданте всё было в переливах из тени в свет – из трезвенного и сосредоточенного минора в спокойный, без чрезмерной радости мажор; и возвышенное равновесие того и другого обреталось в сдержанности заключающей пьесу мечтательной их переклички, что так удаётся немцам, но совсем не по духу порывистым итальянцам и уж тем более русским. От Andante веяло красотой, а порой и торжественностью ежедневного счастья, каким Эспер уже несколько недель наслаждался в «немецкой» обстановке оставленной ему дядей квартиры.
Когда музыка стихла, то Елизавета Дмитриевна, по-прежнему облечённая в доспехи Кортеса (видимо, в знак готовности к завоеванию новой умственной Индии-Америки), начала обращённую ко всем собравшимся речь. Говорила она по-итальянски, изредка вставляя слово-другое по-русски:
– Друзья, не могу не поделиться с вами радостью, тем более важной, что проект мой воплотился и в том, что вы видите вокруг. Дело в том, что господин Корсаков, недавно вернувшийся из России, привёз номер «Московского обозрения», в котором напечатаны наши с ним предложения по поводу будущего эстетического музея в Москве, – тут раздались привычные для Италии возгласы: «Bravi! Bravissimi!» – и аплодисменты, словно речь княгини W. была ещё одним музыкальным номером, а стоявший рядом с Елизаветой Корсаков, на этот раз одетый с большой скромностью, сдержанно и с достоинством поклонился собравшимся. – Не всем предложения наши пришлись по душе, – продолжала княгиня W., – соперничающий с «Обозрением» журнал «Косморама» посмеялся над начинанием, но что они в этом смыслят? Вопреки полуучёным завистникам проекту нашему уготована счастливая будущность, я в этом нисколько не сомневаюсь.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































