Текст книги "Неизбирательное сродство (сборник)"
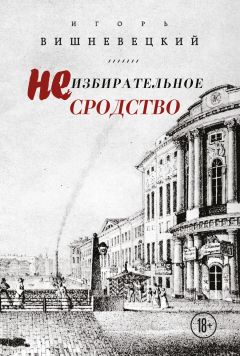
Автор книги: Игорь Вишневецкий
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Игорь Вишневецкий
Неизбирательное сродство
© Вишневецкий И., 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018
I. Неизбирательное сродство
Роман из 1835-го года
Автор благодарит за консультации
Стефано Гардзонио (Флоренция),
Сергея Завьялова (Винтертур),
Габриэлу Импости (Болонья),
Сергея Каринского (Москва),
Игоря Курникова (Питтсбург),
Константина Лаппо-Данилевского (Санкт-Петербург),
Артёма Ляховича (Киев),
Илью Семененко-Басина (Москва).
Глава первая. Пароход «Николай I»
В 4 часа утра 25 мая 1835 года (старого стиля; в землях, куда все плыли, уже был июнь), когда раннее солнце, пробиваясь сквозь просветы серых и волнистых облаков, уже освещало прохладную рябь Балтийского моря, пироскаф Общества Санкт-Петербургского и Любекского Пароходства «Николай I» покинул кронштадтский рейд.
Всю ночь не снимались с якоря, ждали столичной почты. Наконец подошла шлюпка с тяжёлыми чемоданами, якорь был поднят, лопасти колёс ударили о воду, и, выдыхая длинный шлейф дыма из своей высокой трубы, «Николай» начал путь к Травемюнде.
Нам он показался бы маломощным, почти что игрушечным – первым классом плыло всего несколько десятков пассажиров; в общей мужской каюте военные, на службе или в отставке, а ещё купцы, художники и учёные; в общую женскую никому, кроме самих пассажирок, доступа не было, и о составе мы достоверно не скажем; семьи вынуждены были на время путешествия разлучаться; а ведь имелись ещё классы второй и третий – для низших сословий и прислуги; но всем, кто на том пироскафе плыл, он мнился волшебной махиной, даже махинищей, громкой победой над волей стихий.
Путешествовал ли ты, любезный читатель, в шкапу?
Аристокрация прошлых веков предпочитала в них спать. Нам же, любителям воли и свежего ветра, этот обычай кажется странным. Быть запертым в ящик, в этакий полугроб, как съязвил один из плывших на пароходе, на целую ночь?
Теперь представь, мой читатель, что множество оных шкапов, по два длинных и узких спальных ящика в каждом, один над другим, стоит по периметру каждой общей каюты; и новой, денежной аристокрации, платящей по 250 рублей за место первого класса, предстоит провести в сих временных склепах четыре ночи, чтобы к началу пятой выйти из них, точно Лазарям, на свет маяка Травемюнде, означающий окончание не Бог весть какого удобного плавания.
Все спальные ящики жёсткие, и бока твои чувствуют волны и каждый толчок пироскафа. Впрочем, качка в начале пути оказалась несильной, а ход колёс скоро установился, и любой из пассажиров мог спать до самого завтрака.
За завтраком, объявленным в девять утра и устроенным в общей мужской каюте, плывшие на «Николае» впервые взглянули в лицо друг другу.
Переезжали вчера на корабль от Коммерческого клуба, что на Английской набережной, – несколькими компаниями на меньшем пароходе «Ольга»: с родными, с друзьями, с поклажей, под громкие восклицания, лобызания и хлопки откупориваемых бутылок игристого – и всем было не до того.
И вот, когда после завтрака вышли на палубу «освежиться» – прохладным дыханием ветра, а многие из мужчин и сигарами, – первой заговорила пассажирка лет двадцати четырёх. Судя по свободе обращения, она долго жила за границей, а возможно, и выросла там и теперь возвращалась в края, где жила, из не очень понятного ей Отечества:
– Вот, господа, результат улучшений: всего через несколько дней мы будем в Германии. Но скорость пути не делает нас понятней и ближе друг другу. Мы плывём из России заклеенными и запечатанными, как письма в почтовых чемоданах. Мир спешащих посланий, государство вопросов без внятных ответов – таким, вероятно, и будет будущее, так радующее глупцов.
– Всё-таки мы молчим не оттого, что нам нечего уже сказать друг другу, а просто ещё не обвыклись, – заметил на это один из военных, стоявших на палубе, и, словно в приступе словоохотливости, нередко овладевающей нами в малознакомом обществе, продолжал: – Да и не первая это дальняя прогулка для нашего брата. Доводилось ли вам, господа, бывать за Балканом?
Таковых не нашлось.
– Что ж, мне плыть с вами меньше чем половину пути, потому позабавлю историей, – продолжил военный. – Рассказ мой может быть сбивчив; я не литератор, хотя и люблю почитать на досуге. Да и годы, проведённые в Благородном пансионе при Московском университете, особенно с древними авторами, думаю, оставили след. Итак, вот что со мной приключилось за Балканом. Шесть без малого лет назад, когда наши войска вошли в Адрианополь, именуемый среди турок Эдырне – в город, рисовавшийся мне, зелёному уланскому офицеру, этаким памятником императору, написавшему перед смертью стихи о душе нашей страннице (как видите, чтение древних мне памятно), – уже который день стояла изнуряющая жара. Если вы никогда не бывали в Европейской Турции в августе-сентябре, то этого вам не представить. Военная кампания складывалась блестяще: разбитая армия неприятеля укрылась на севере, в Шумле, надёжно запертая там корпусом генерал-лейтенанта Красовского; мы же стремительно маршировали на юг. Поход и непривычный климат изнуряли войска сильней, чем прежние боевые стычки. Восьмого августа при нашем приближении гарнизон Эдырне бежал, население вышло навстречу. До Константинополя оставалось не более двух дневных переходов. Главнокомандующий Иван Иванович Дибич распорядился, чтобы самые боеспособные части, конные и артиллерийские, занимали просторные двухэтажные казармы, выстроенные османами на европейский манер, и готовились к отдыху. Я, как и все, был страшно этому рад. От климата, от смертельной усталости, да и просто от того, что мы не были готовы к столь необычной стране, в армии, особенно среди пехоты, начинались эпидемии. Некоторые из частей попали в карантин, и мы ежедневно теряли от заразы больше, чем в недели победных боёв. Тех же, кто, как я с моими донцами, оставался здоров, уже через день отправили в разъезды, впрочем, вполне безопасные. На всём пути от Эдырне до Константинополя угроза исходила разве что от лихих людей, да и тех было немного. Управление занятыми нами территориями приводилось к единому знаменателю, и даже разбойники вели себя осторожно. Мы ожидали скорого мира.
В Адрианополе я был особенно впечатлён обычаями и предрассудками болгар, греков и турок. Прежде мы в общение с местным населением не входили: граф Дибич запрещал отягощать подданных Турецкой империи постоем и просьбами. Но сейчас, когда было ясно, что они не против нас, мы, военные, без опаски стали с ними общаться. И тотчас же выяснилось, что обыватель живёт во власти фантомов. Вы, вероятно, слышали, господа, что именно за Балканом рассказывают о существах, питающихся кровью и свежей падалью. Иногда в том уличают целые семьи и даже селения. Турки именуют их «гулями». Мы, оставлявшие за собой убитых в бою и умерших от эпидемий, слышали немало таких рассказов от местных, объезжавших всегда стороной недавние наши захоронения, особенно в сумерки, говоря, что те баснословные гули воют и бесчинствуют там, разрывая землю когтями, как псы или вороны. Греки, как и болгары, верят, что падальщики питаются свежей, не успевшей свернуться кровью, в которой сохраняется жизненная сила. Врач Байрона Джон Полидори описал эту веру как медицинский факт. Казалось бы, вздор, господа. Думалось так и мне.
Вообще на посмертие, как и на жизнь свою, местный житель смотрит с обречённостью раз и навсегда решённого дела.
И потому окрестности Адрианополя навевали на меня глубокую меланхолию: бесконечные холмы, покрытые белыми могильными плитами, равнодушное царство смерти и сна, повсюду колючий кустарник и невозделанная земля, за исключением садов вдоль русла реки Марицы, вплоть до слияния с Сунджей, где повелением Адриана и был заложен город. От того древнего остались развалины стен да несколько греческих и латинских надписей. Эдырне стёр римское прошлое в пыль. Вот мы подъехали к перекинутому через реку мосту, сложенному из римских ещё – вероятно – плит и камней. Оттуда хорошо видна мечеть султана Селима, что радует гармонией форм: полусферических, эллипсоидных, с четырьмя устремлёнными вверх минаретами. Между тем прообраз её, господа, – Святая София. Христианские церкви низки и словно насильственно вдавлены в землю. Во многих домах выдаются вперёд этажи второй и третий, совсем как в древнем строительстве – в той же Помпее. Переборчатые ставни распахнуты в сладкую тень или плотно замкнуты, если в окно светит солнце. Бог весть что за такими ставнями творится. Вот площадь фонтана – а фонтан для адрианопольца и развлечение, и источник прохладной чистой воды. Мужчина с коромыслом через левое плечо несёт два узких, пустых ведёрка; женщины с лицами полу– или и вовсе прикрытыми о чём-то беседуют у навеса фонтана либо шествуют поодиночке, спокойной и важной походкой через площадь с кувшинами на головах. А некоторые турки, постелив короткие рогожи прямо на плитах – ими вымощена вся эта площадь, – с курительными трубками в руках молча рассматривают мимо плывущую жизнь: торопиться-то некуда. Улицы, расходящиеся от площади, узки; вдоль улиц – лавки, где тут же тебе что угодно смастерят и починят; рядом кофейные дома. Зайдешь в любой – молчаливые турки снова курят там вечные трубки свои и в молчанье пьют кофе: степенно и важно, час, другой, третий, трубку за трубкой и чашку за чашкой; изредка завяжется негромкая беседа. Зачем торопиться, обсуждать что-то со страстью, если ты заплатил хозяину за право ничего тут не делать и имеешь свой кейф? А между тем и мне уже несут зажжённую трубку или кальян, а за ним и кофе, и ласково спрашивают, чем ещё услужить. И это не потому, что заходит спешившийся русский кавалерийский офицер со свитой молодцов, а потому, что тут заведено так для любого входящего.

И вместе с тем от всего этого ощущение медленно затягивающего водоворота, хуже – ведущего в ничто, в пустоту лабиринта. «Эдырне-то завоевали, но нам он, пожалуй что, и не нужен», – думалось мне.
Как-то на выезде из города у моста старик, как многие куривший на разостланной прямо на земле рогоже, изъяснявшийся неплохо по-русски, видимо, потому, что бывал не раз в нашем плену, говорит, что сегодня лучше нам далеко не ездить; что возвращающиеся с окрестных холмов видели тех самых бесчинствующих, которых увидишь – потом не забудешь; но Всевышний, конечно, велик и правильно определит нам дорогу. Не веря таким предрассудкам, мы в сумерки на обратном пути проехали мимо этих бесконечных кладбищенских холмов и застали и вправду прежде не виданное. Кони странно зафыркали и, косясь на сторону, стали. На некотором отдалении, саженях в пятидесяти, две фигуры, сгорбленная и молодая, что-то выкапывали из-под земли. Кажется, по наряду это были женщины. Хотя кто местных разберёт, особенно в сумерки – и мужчины, и женщины здесь обряжаются очень похоже: штаны, сорочки, короткие безрукавки. Рядом с заступом, которым он двигал плиты, стоял распрямясь некто третий – по осанке скорее мужчина. Лиц гробокопателей было и вовсе не разглядеть. На нас они не обращали никакого внимания, и что-то ненастоящее, призрачное, театральное, оперное почти было в самой этой сцене. Не хватало оркестра и трёх слившихся в концерте голосов: баритона, сопрано, контральто.
«Как знаешь, ваше высокоблагородие, а я б ехал к нашим. Бережёного Бог бережёт», – негромко сказал мне один из казаков, дюжий Платон.
Указаний вмешиваться в местные дела у нас не было, и мы двинулись прочь, опасливо оглядываясь. Когда достигли казарм, луна стояла уже высоко. Я отправился к приятелю своему артиллеристу и проиграл у него в штос до утренней зари; однако увиденное не шло из головы.
Наконец 2 сентября был подписан мир, и некоторым офицерам, до эвакуации войск, было дозволено в виде послабления поселиться у местных. Тот самый игрок в штос, отчаянно храбрый капитан от артиллерии, который сдавал или понтировал всякий раз, когда выдавался час-другой между вылазками, а иногда просиживал за азартной игрой ночь накануне боя – а в любом из боёв его могло разорвать на куски или покалечить ядром, или изрешетить пулями, – тот самый боевой мой товарищ, к которому я пошёл развеяться после виденного в дозоре, чуть не сразу отправился на постой в семью болгар, откуда являлся в урочное время к подопечным своим батарейным. Для него это было ещё одно приключение, даже вызов обстоятельствам, которого искала его азартная натура. Я же остался в казармах с казаками.
Болгарская семья, в которой он поселился, имела одно преимущество перед казармами: у старого Атанаса росла дочь, строго воспитанная, но необычайно хорошая собой – не цветущей, а бледной, ещё не распустившейся красотой. На какое-то время я потерял картёжного приятеля из виду, продолжая изредка выезжать с казаками за пределы Эдырне, но ничего примечательного более не случалось. Войска обвыклись с балканским климатом, убитых и умерших от неизлечимых болезней похоронили, легкораненые стали выздоравливать, а эпидемии утратили свирепость. Времени перед отправкой домой теперь у всех было много – и я, чтобы убить его и тщательно избегая ненужных приключений, осматривал то, что уцелело в городе от римской и греческой древности. Списывал в небольшую тетрадь начертанное на вмурованных в стены плитах, срисовывал обломки немногих скульптур, мне показанных, случайно откопанные при улучшении и перестройке домов и после вмурованные в их стены, – дабы при возвращении позабавить учёных друзей моих, избравших мирные поприща. А когда всё, что попалось мне на глаза, было описано, срисовано, занесено в каталог, – я перешёл на беседы с лавочниками, на сидение в кофейнях пополудни, на фонтанную площадь ближе к вечеру. Так как во время конных прогулок моих я довольно высоко сидел в седле, то заглядывал, когда мог, и через заборы во дворы жилищ. Там и происходила жизнь, содержание которой было лучше укрыто от посторонних глаз, чем у любого из запечатанных писем, что вместе с нами плывут на пароходе. Оказалось, почти в каждом дворе росло по невысокому ореху или иному плодовому дереву, вода текла по аккуратно выложенному желобку, или, во всяком случае, желобок такой для проточной воды имелся, а женщины, непривычные покидать дома свои, поглядывали на меня, уланского ротмистра, из-за каменных заборов с не меньшим интересом, чем я на их вполне для меня загадочный быт. В одно из утр капитан не явился к батарейным, и меня с казаками отправили к старому Атанасу с категорическим выговором нарушителю и с требованием доставить его к месту несения службы хоть под конвоем. Вот узкая улица в христианском квартале, вот однообразная каменная стена, словно это не забор нескольких жилищ, а стена крепости, вот несколько похожих одна на другую калиток в стене. «Здесь», – говорят памятливые донцы, помогавшие офицеру перевозить его нехитрый скарб. Я стучу в калитку несколько раз. Она заперта изнутри. Приходится Платону и остальным высаживать её. Каково же наше изумление, когда посреди двора мы видим, как в дурной романтической повести, артиллерийского нашего капитана в разорванной на груди рубахе, с глубокими следами не то от когтей, не то от зубов, похожих на волчьи, залитого кровью, без сознания. Окна и двери дома настежь распахнуты, слабый ветер, случающийся пополудни, шевелит ткани, негромко шумит в кипарисе. Помню, меня поразило, что во дворе росло не плодовое дерево, а кладбищенский кипарис. Дом по осмотре в полном порядке, но хозяев и след простыл. Промыв из найденного тут же – будто нарочно оставленного – кувшина раны и наскоро перевязав, кое-как пристраиваем раненого на моей лошади, везём в лазарет. И лишь к вечеру, когда он приходит в себя, я узнаю историю, столь же дикую, сколь и поучительную.
Дом его хозяев показался рассказчику много древнее большинства домов в городе: он был сложен из обтёсанных камней и обломков, собранных от прежних строений. Вероятно, средств заказать новые у строивших не было. Например, при кладке стены, глядящей во двор, в неё вмурованы были две полустёртые мраморные плиты, коих вокруг Адрианополя тьма. «Видел ли ты, что на них?» – спрашивал меня товарищ. Нет, я не успел осмотреться. На одной плите, по его рассказу, изображена была босоногая девушка со спины: вытянутая рука её держит сорванный цветок гиацинта; на другой некто на запряжённой четвёркой коней колеснице («Совсем как наши батарейные», – добавил рассказчик), мрачный и бородатый, умыкает ту же девушку, выкинувшую в прощальном жесте руку, из которой выпадает цветок, а впереди упряжи – смешной бегун в плоской шляпе, в крылатых сандалиях. В руках у бегуна – палка. «Тебе бы понравилось; жаль, что не видел».
Семья, принявшая его, была очень странной. Старик Атанас, чересчур нелюдимый для болгарина и христианина, обычно, когда сидел дома, дремал на крыльце либо молча смотрел себе под ноги, отвечал на расспросы немногословно. Это поначалу рассказчику даже нравилось. Язык болгарский был не очень ему ясен, но при медленном произнесении оказался ничуть не сложней языка Малороссии. Через какое-то время товарищ мой сам стал рассказывать своим молчаливым хозяевам, не ездившим далее Константинополя, о жизни северных наших столиц, которая была так мила ему. Двигал им в этих рассказах азарт добиться своего, и он почти его добился. Дочь Атанаса Кора (имя такое, я думаю, было б приличней гречанке) поначалу слушала из сеней, потом стала выходить на крыльцо, а потом уже оказалась с рассказчиком за одним столом. Впрочем, трапеза в доме была тоже странной. К еде прикасались лишь трое – отец Атанас, дочь Кора да их постоялец. Мяса не было, и мать старуха Смилена появлялась только затем, чтобы состряпать какое-нибудь блюдо из овощей со специями. Мой товарищ решил, что это какой-то неведомый пост. Впрочем, икон он в их доме не видел и предположил, что те просто спрятаны от посторонних глаз. Соседи, как только рассказчик к ним обращался, запирали калитки. Изнурённый молчанием, климатом, близостью миловидной девушки, ради которой он тут поселился, капитан решил, что в нём пробуждается чувство. Такое часто бывает от праздности. Ведь писал же о подобных страданиях римский поэт:
Праздность, мой Катулл, всё свербит в тебе – лишь от неё восторг твой, твоя услада.
Праздность сокрушала царей и грады,
полные блага (i).
Девушка тоже к нему проявляла внимание, особенно когда за столом их руки невольно касались одна другой, задерживаясь дольше обычного. В доме этом, как я говорил, господа, ели только фрукты и овощи. Однажды подали к столу тарелку гранатов, и товарищ мой разрезал их ножом, а Кора выбирала понравившиеся ей зёрна. Почему-то в этом он увидел особенный знак. И вот, оставшись с ней одной во дворе, осмелился быть решительней. Кора не сопротивлялась, наоборот, была как-то странно покорна. Сказала лишь, что сейчас ей вот надо идти к подругам, но чтобы непременно ждал её вечером. Когда вернётся, они обо всём поговорят. Бледное лицо, чёрные влажные глаза, черные волосы, странно бледные губы, прикрываемые рукой, на которой по варварскому здешнему обычаю были ярко выкрашены ногти, казалось, выдавали смятение, и товарищ мой решил проследовать за Корой: он почти нагнал её в оживлённой части города. Девушка шла с прикрытыми по местному обычаю головой и лицом, так что узнать её было возможно лишь по походке да одежде: не оборачиваясь, прочь из христианских кварталов – вероятно, за город, в сторону кладбищ. «На дорогую могилу, – подумал артиллерист, – мы и сами в России их навещаем». И повернул обратно. Солнце садилось. Вернувшись, он задремал, а проснувшись ближе к полуночи вышел во двор, где в духоте многозвёздной и тёмно-синей ночи, какие всегда бывают на полуденных широтах, его ждал кувшин прохладной воды (хозяева уже выучили, что русские, особенно военные, любят окатывать себя холодной водой). Тут он почувствовал, что, несмотря на темень, он не один. Обернулся. Полуодетая, с распущенными волосами сзади него стояла Кора и, как ему показалось, собиралась что-то сказать, о чём-то предупредить. Через мгновение он почувствовал удар по затылку, будто обухом, и что-то острое, как крючья, впилось с разных сторон в его тело. Бледное, не изменившееся лицо простоволосой Коры с влажными чёрными глазами, бескровными губами, глядело куда-то в сторону, и она повторяла: «Я всё исполнила; всё исполнила».
Теряя сознание, он подумал, что это ошибка и такого вот просто не может происходить. Особенно с ним.
«Как же всё просто. И как я рад, что сумел рассказать тебе это. Дай мне слово, что ты не будешь глупцом и не станешь играть с неизвестным. Только бы тело поправилось, только б поправилось…» Товарища моего уже жестоко лихорадило. Он умер через несколько часов. Похоронили мы его отдельно от городских кладбищ – в общей русской могиле.
Конечно, было назначено расследование – убийство русского офицера случай не рядовой, но хозяев, как я уже говорил, след простыл и в успех такого расследования, особенно накануне ухода армии нашей из Турции, я особенно не верил.
На этом историю можно было бы и завершить, присовокупив, что наваждения в избранных точках пространства принимают всегда сообразную местным обычаям форму, и всё, что произошло тогда в Адрианополе с моим артиллерийским капитаном, да и со мной, было следствием переутомления, результатом столкновения с незнакомой действительностью, что даже ложная болгарская семья были просто местными душегубцами, коих тут промышляло немало, о которых предупреждал нас старик у моста через Марицу.
Однако то, что я увидал на следующий день, уже после похорон незадачливого капитана, заставило меня переменить мнение относительно того, было ли случившееся чистым наваждением.

Вновь, в последний уже раз, послали меня вместе с донцами в разъезд. Возвращаясь, я решил проехать место, где похоронили несчастного, проигравшего в штос собственной судьбе. Солнце уже садилось, до города было рукой подать. Кони наши снова заволновались и зафыркали, как они волновались в тот прошлый раз, и этого уже было не объяснить игрою смятенного разума. Там, где мы закопали в сухую землю моего сослуживца, возились с лопатой и заступом две женские фигуры – матери и дочери. Их было легко узнать. Движенья их были не как у людей, а скорее как у вставших на задние лапы собак. Не хватало только рычания. Рядом с ними, сгорбленный и оскалившийся, озираясь по сторонам и оберегая их общее тёмное дело, стоял, покачиваясь, точно на задних лапах, – отец. Я глянул на бывших со мною казаков. Они онемели. Думаю, мы смогли бы справиться с шайкой утративших человеческий облик, а может быть, никогда не бывших людьми существ, довольно легко. Но, господа, не знаешь опасности, пока не ввяжешься в дело. Когда мы к ним стали приближаться, шайка как в воздухе растворилась, а когда обернулись – она оказалась уже позади нас; несколько раз мы меняли направление движения, несколько раз они исчезали и оказывались на том же расстоянии, но в противоположной стороне. По здравом размышлении я понял, что хватит с нас и одной жертвы.
«В город, ребята», – скомандовал я. Через четверть часа мы были уже у казарм.
На следующий день вышел приказ покидать Адрианополь.
Император, от которого в этом месте не удержалось ничего, кроме имени, горевал перед смертью:
Бродяжка, душенька милая,
прислуга и гостья телу… –
и, казалось мне, речь тут шла и о бесприютной душе моего боевого товарища, уцелевшего под турецкими ядрами и пулями, но ставшего жертвою собственной бесшабашности:
…в какое уходишь ты место,
вся сжавшись, нагая и бледная,
уже без привычных шуток?
То есть, господа, император Адриан спрашивал у набедокурившей души: «Дальше-то куда нам податься?» Как видите, и служакам есть про что рассказать.
– Хорош же ты врать, Тарасов, – громко и весело произнёс один из гражданских, бывших на палубе, – зря ли Антон Антонович отбирал у тебя во время ночных обходов романы. Как прав был старик: читай только то, что даёт пищу логике, а не воображению!
– Ба, да это ты, Сергей, вот так встреча!
Слова эти разрядили напряжение, и даже смешок пробежал среди слушавших. А потом, как всегда бывает по окончании чьего-то рассказа, все заговорили друг с другом. Между тем у старых знакомцев шёл уже свой разговор.
– Признавайся, Тарасов, это ты проиграл всю кампанию в штос. А историю про семейку вычитал, как водится, у каких-нибудь немцев.
– Дай-ка я лучше тебя обниму! – И Тарасов действительно крепко обнял говорившего. – Эх, друг мой Корсаков, лишь погружением в себя самих, лишь слиянием внутреннего и внешнего познаём мы подлинное «я». Так учит мюнхенский твой мудрец? А что скажешь про разграничение воображения и логики? Не преодолевается ли и оно интроспекцией тоже, а?
Так бы они дружески пикировались ещё некоторое время, если бы стоявший чуть поодаль молодой человек лет двадцати двух, со светлыми вьющимися волосами, не покрытыми шляпой, которую он мял в руках, слегка щурившийся на рябь Балтийского моря и притом прислушивавшийся к их разговору на уважительной дистанции, не обратился к ним напрямую:
– Я поступил в Благородный пансион много позже вас, господа, и вы, вероятно, совсем обо мне не слыхали, но я о вас много наслышан. Счастлив буду представиться.
Юноша оказался князем Эспером Лысогорским. Пять лет он провёл на службе в Архиве Министерства иностранных дел, что расположился в толстостенном доме Украинцева в Хохловском переулке. Теперь, неожиданно выйдя в отставку, он ехал за границу по срочному вызову дяди. Фамилия Лысогорских – древняя и славная, и молодой Эспер был самым младшим в роду, наследником того, что собиралось и делалось многими. Тут два старые товарища переглянулись, будто хотели что-то сказать, но потом, поблагодарив князя за откровенность и выразив удовлетворение приятным и неожиданным знакомством, продолжили прерванный разговор.
Обед и объявленный в четыре часа полдник прошли, как и завтрак, в общей мужской каюте первого класса в молчании и в утомлении от непрекращавшейся качки. После полдника на палубу «Николая» вышли только мужчины – каждый выкурить по сигаре. Слабые ветер и качка продолжались. Не курили лишь двое – князь Эспер и чем-то неуловимо на него, как брат, похожий и при этом совершенно иного склада, коренастый и темноволосый, с артистически длинными волосами, на два года младший его, малоросс Пылып Вакаринчук, ехавший, с его собственных слов, по художественным делам в Рим. В Риме он уже бывал, говорил, что знает и любит город: «О, замок Святого Ангела! А мутный Тибр? А коровы на древнем Форуме? А папские музеи? А сады и виллы? Никакие Москва и Петербург не сравнятся – да что там, даже Полтава», – и теперь возвращался стипендиатом Академии художеств. Вакаринчук глянул на Эспера: «Экой профиль у вас, князь! Я хотел бы вас нарисовать. Я вообще всё время что-то малюю – не обращайте внимания. Это как для девицы дневник».
Не утихавший, хотя и несильный, ветер и утомительная качка выгнали остающуюся публику с палубы. Ещё до захода солнца все разошлись по каютам и, каждый в своём полугробу, заснули здоровым сном надышавшихся чистым морским воздухом путешественников.
С утра 26 мая стояла чу́дная погода: сильно потеплело. Ветер ослабел. «Николай» подошёл к Истаду и бросил якорь в полуверсте от шведского берега. Город утопал по окраинам в зелени, а в центре его блестели на солнце чёрные и рыжие крыши. Весна тут, едва обозначившаяся в нашей северной столице, торжествовала в полную силу.
Остановились с целью обмена почтой; из пассажиров на берег сходил только уланский полковник Тарасов. Зачем – никто не спрашивал: у военных свои предписания. Петербургские почтовые чемоданы забрала подошедшая шведская лодка, из которой на борт «Николая» подняли новые – с корреспонденцией из Швеции в Пруссию, затем Тарасов сел в лодку, зазвенели якорные цепи, несколько выхлопов тёмного дыма из высокой трубы водяного монстра, и «Николай» двинулся к югу.
Качка к обеду почти сошла на нет, поэтому после сытной трапезы на палубу вышли все: и мужчины, и женщины, многие из которых были наслышаны о вчерашней истории полковника и ждали либо продолжения, либо опровержения. Курильщики привычно задымили послеобеденными сигарами. Вакаринчук принёс альбом и грифели и начал свои зарисовки, поглядывая на стоявшего несколько поодаль ото всех Лысогорского. Некоторое число дам соединились со своими мужьями и спутниками; те, что плыли одни, держали, как и Эспер, дистанцию, не смешивались с толпой и не выказывали никому особенного внимания. Исключение составляла лишь заграничная русская, затеявшая вчера весь этот разговор. Она, как ни в чём не бывало, беседовала с долгоносым подслеповатым немцем учёного вида, которого почему-то именовала «Nikolai Alexandrowitsch». Корсаков тоже выделялся из толпы. Он сменил вчерашнее дорожное платье на костюм настоящего франта: светлые брюки и тонконосая обувь, изящная трость, которой он всё время поигрывал в левой руке, увенчанная набалдашником в виде небольшой восьмёрки с крылышками, клетчатый по парижской моде жилет и узко приталенный сюртук, шейный платок с как бы небрежно держащей его, но какой-то чудесной булавкой и начинавший входить в моду цилиндр – всё это настраивало на речь человека куда менее серьёзного, чем тот, каким он оказался на самом деле.
– Дамы и господа, вы слышали вчера рассказ школьного товарища моего, которого я совсем не ожидал встретить на нашем чудо-пироскафе. Рассказ, думаю, слегка изумил вас, как и меня, невероятием. Но что есть вероятие? Знаем ли мы границы возможного? И есть ли вообще сродство и связь между происходящими событиями? Или все связи исключительно избирательны? Не выходит ли тогда, что любая связь – плод игры ума нашего, господа? Дабы не утомлять вас вопросами и отчасти развеять смущение, в которое вас мог повергнуть рассказ полковника, как он поверг и меня, готов поделиться одной историей из собственной жизни.
– Пожалуйста, просим!
– Начну с того, что, хотя мы с товарищем моим Тарасовым провели пять, может быть, лучших лет в Благородном пансионе в Москве, изучали одни и те же предметы, наши дороги давно разошлись: я пошёл по учёной части, занявшись тем, что со времён Платона афинского зовётся археологией. Археолог, господа, в чём-то схож с военным: оба они имеют дело со смертью. Но если для второго бесстрашная смерть – почти всегда увенчание подвига, и ни о каком ином «после» военный не думает, археологу важно именно то, что уцелело после. Некоторое время назад я получил поручение от Академии наук осмотреть ставшие, наконец, доступными памятники Греции, освободившейся от османов. Средства мне были выделены достаточные: с пониманием, что в путешествии я буду по мере сил исполнять, может быть, и неожиданные поручения наших представителей, точно так же как они окажут мне всяческое содействие и помощь за границей. Отплывал я из Одессы Чёрным морем в Константинополь. После Константинополя, где от латинской и греческой древности уцелело помимо крепостных стен лишь несколько обелисков, колонн и церквей и большое число подземелий для хранения чистой воды, впрочем, давно не используемых и пребывающих в небрежении, и Афин, нынешнее запустение которых соразмерно только их былому величию, я достиг баснословной Мореи, где видел гробницы мрачных Атридов, превращённые в загоны для скота неграмотными пастухами, равнодушными к языческой древности своего народа. В Морее не описанных никем ещё памятников и руин оказалось в великом множестве, и это смягчило моё разочарование от Константинополя и Афин. В ожидании ещё более сильных впечатлений от Великой Греции я уже нанял небольшое судно до Мессины, как во временной столице греков, которую мы зовём Навпали, итальянцы Napoli di Romania, а сами греки – Навплионом, русские представители попросили меня взять в путешествие ещё одного пассажира. Он взошёл на корабль до восхода солнца, прямо перед отплытием – почти секретно, почти инкогнито: в серой накидке с серым же башлыком, затенявшим лицо. Такие накидки и башлыки носили в недавней войне с турками греки, а вообще, господа, это одежда для пастухов и охотников. Из-под такого вот рубища выглядывал английский (как мне показалось тогда) костюм на манер тех, в каких недавно изображали нам лорда Байрона: тёмный шейный платок, тёмный сюртук, светлая щегольская жилетка, удобные сапоги – и так далее, с тою разницей, что мой непрошеный сопутешественник был росту очень высокого и ничуть не хромал. Вещей у него с собой был небольшой чемодан. Ещё он привёл пятнистого поджарого пса непонятной породы, которая мне показалась тоже английской. На пса, внимательного и молчаливого, был надет тяжёлый ошейник с шипами. Капитан запротестовал было, но, убедившись, что пёс не издаёт ни единого звука и равнодушно лёг себе, высунув язык, на палубе, согласился зачислить в пассажиры и его. На судне была одна незанятая каюта; туда и поместился безыменный покуда гость со своим безмолвным нечеловеческим спутником. Когда берег Мореи скрылся за горизонтом и солнце совершило достаточный путь к зениту, пассажир вышел на палубу без накидки и башлыка (воздух уже сильно прогрелся) и обратился ко мне на очень чистом русском, столь не вязавшимся с его совершенно нерусской внешностью. Именно тогда я получил возможность рассмотреть незнакомца поближе и был поражён увиденным даже больше, чем появлением его на корабле: лицо измождённое и землистого цвета, какое бывает у переживших серьёзную болезнь (впрочем, он упоминал, что в Морее его периодически мучила лихорадка), сочеталось с движеньями лёгкими и порывистыми, как у здорового и молодого человека; но в целом спутник мой казался сильно старше тех лет, каких он должен быть, если, конечно, верить его рассказам. Ещё через несколько часов плавания он изложил мне в кратких словах свои приключения.









































