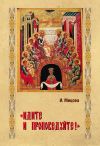Текст книги "Снова выплыли годы из детства…"

Автор книги: Инга Мицова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
– Я вот сейчас возьму и нажму клавишу, – говорю я.
– Нельзя – что ты! Нельзя! – говорит Горик.
– А я вот нажму.
Я протягиваю руку, вижу, как Горик отодвигается от меня. А я нажимаю белую блестящую клавишу. Сразу раздается звук. И сразу же слышу грозный женский голос:
– Кто подошел к пианино? Пианино трогать нельзя.
А я даже и не пытаюсь прятаться. Продолжаю стоять у пианино, не двигаясь, и смотрю на ряд блестящих белых и черных клавиш. Для меня пианино, как для туземца бусы. Возможно, я видела пианино и до этого. Иначе откуда знать, что, если нажать клавишу, будет звук? Но впервые я запомнила пианино именно в рыльском музее и впервые там прикоснулась к клавишам.
Что еще вспоминается? Я прошу папу сводить меня на мельницу. Почему? Не знаю. Вероятно, папа что-то рассказывал. У меня это навязчивая мечта. Но она осуществится спустя семь лет, в том же Рыльске, и оставит разочарование – огромный зал, пустой. Два больших круга. И это всё?
Запомнился ясно один день. Мы идем по мосту. Я, как всегда, посередине, папа слева, мама справа. Мы только что сошли с Вознесенской горки и ступаем на мост. Он широкий, чистый, желтые доски сияют, будто только что вымытые. Мост через Дублянку, маленькую речку, текущую под Вознесенской горкой. Идем молча, и вдруг мама говорит: «Он идет за нами». Папа не отвечает, молча он идет вперед, и, хотя держит меня за руку, мне кажется, что он очень далеко. Мне кажется, что, заговори я с ним, он не услышит. И идет как-то медленно, очень твердо ступая. Идем молча. Мама опять оборачивается: «Он все идет за нами». Папа молчит и продолжает все так же медленно и твердо ступать, глядя вперед. И опять я чувствую, что мне надо молчать, что ни папа, ни мама не услышат меня. И вдруг мама выпускает мою руку и говорит: «Я сейчас подойду к нему и спрошу, что ему надо. Вон он, в зеленой фуражке». Папа молчит. А мама поворачивается и идет назад. Я не гляжу маме вслед, но почему-то кажется, что вижу быстро удаляющуюся мамину спину в цветастом платье. Мама нагоняет нас, когда мы уже сходим с моста и приближаемся к базару. «Я подошла, – говорит мама, – а он отвернулся и плюнул в реку». И сейчас я не понимаю – то ли вижу мамину спину, мелькающую среди идущих по мосту, то ли это мамин рассказ, но почему-то ясно вижу человека в зеленой фуражке, перегнувшегося через перила моста, и маму, стоящую рядом. А папа идет молча. Мама рассказывает, а папа молчит и смотрит вперед. Мне не нравится папа, он как будто отдалился от меня, не слышит, не видит, и даже представить трудно, что он возьмет мою руку и скажет: «Вот вам ручка, вот другая…»
Мне три года. На карточке я все еще улыбающаяся девочка, опирающаяся на ручку плетеного кресла. Ясно и доверчиво широко раскрытыми глазами смотрю в объектив. Но тогда же в Рыльске у меня начинаются странные приступы – рвота, судороги, температура… Приступы помню. Это случилось впервые в квартире тети Лели. Помню, как папа подхватил меня на руки и положил на диван в большой комнате. Знаю, что приступов было несколько, и кажется мне, что все они происходили в доме тети Лели. Вероятно, мы переехали к ней, потому что жизни на Вознесенской горке не помню.
Да, Вознесенская горка была мне противна. Одна пыль и маленькие дома. Нет прекрасного запаха травы, нет красивых домов, даже садов за маленькими, будто глиняными, домами не помню. Противная, пыльная, некрасивая, неинтересная местность.
«Малярия», – говорит папа. И когда мы возвращаемся в Ленинград, я опять иду по коридору клиники Военно-медицинской академии. Пахнет йодом и спиртом – родной запах.
У нас в Ленинграде появляется новый сосед. Интересно, что я из соседей никого не только не помню, но и никогда никого не видела, кроме двух старичков-швейцаров. Никогда никого. Дверь в наши комнаты – вторая от входа в квартиру. Дальше идет коридор, заворачивает чуть налево – там кухня – и продолжается вперед, сворачивая направо. Там темно, горит одна лампочка. Мама мне не разрешает ходить дальше кухни, и я не знаю, сколько еще комнат в нашей квартире. Я никогда не заворачивала направо. Мама не разрешает шуметь, и я тихая, и квартира тихая и будто пустая. И вот новый сосед рядом с нашей комнатой. Его я вижу каждый раз, когда мы входим в квартиру. Зак… Зак… Из всех соседей я помню лишь его. Только его мы встречаем в коридоре.
Маленький черный человечек, угодливо изгибающийся перед мамой, когда мы быстро проходим мимо него и скрываемся за дверью нашей комнаты. «Говори тише – за стеной Зак». Папа теперь не спит после обеда. Он ложится на оттоманку, заложив руки за голову. Мама берет стул с высокой обитой дерматином спинкой, садится около него. Они разговаривают шепотом. А я стою у этажерки, что у окна, и смотрю на них. Я уже давно не кричу: «Авка, молчать – папа спит». Я стою тихо, мне кажется, я даже не двигаюсь. Смотрю на папу. Ни немки, ни Моти у нас давно уже нет.
Однажды папа долго не приходит. Мама накидывает на меня пальто, берет за руку, осторожно приоткрывает входную дверь и выводит меня на лестничную площадку. Наклоняется ко мне и тихо говорит: «Сейчас придет папа, ты его обними за шею». И оставляет меня одну на площадке. Меня, которой даже из нашей комнаты не разрешалось одной выходить в коридор! Я сажусь на корточки, просовываю голову сквозь витые чугунные перила, смотрю вниз. Проходит какое-то время. Тихо, темно, горит только одна лампочка внизу на площадке. Я сижу не двигаясь. Я жду. И вот снизу из темноты возникает папа. Он очень медленно, тяжело поднимается по лестнице. Останавливается, сдвигает буденовку со лба… Я вижу красный след от буденовки на его лбу, тяжелый вздох доносится до меня. Вздох, который человек может себе позволить только наедине. Вздох – режущая душу боль. Моя первая режущая душу боль. Боль за другого. Запоминающаяся на всю жизнь.
Потом папа долго лежит на оттоманке, закинув руки за голову. Он ничего не говорит. Он молчит. Папа остался наедине с собой. Молчим и мы с мамой. Возможно, папой владело самое сильное чувство – чувство страха и связанное с ним мерзкое сознание позора, зависимости и полной беспомощности. В тот вечер папу исключили из партии.
Как точно выразил Мандельштам такое состояние: «Куда мне деться в этом январе?»
Вот фотография с надписью: февраль 1938 года. Я в вельветовом коричневом платье, с огромным бантом на голове. Подперев голову рукой, кокетливо, по-взрослому улыбаюсь в объектив. И слова: «Авка, молчать!» – не имеют ко мне никакого отношения. Я, кажется, забыла папин одинокий вздох на лестнице, я прислушиваюсь к маминым словам: «Ингочке на день рождения я заказала коричневое бархатное платье. Говорят, мрачно. И я придумала розовый крепдешиновый воротничок».
Да, есть такая карточка.
Мой день рождения, четыре года. Я счастлива. За столом сидят взрослые: Андрей Луканов с женой Анной-Ванной, Радайкин, Рахиль Моисеевна. Трое военных – в гимнастерках, перепоясанных крест-накрест ремнями. Уютный теплый свет оранжевого абажура, непременного в то время в каждой квартире… Чернеет оттоманка в углу. Сидит моя подружка Инесса, она очень толстая, про нее ее отец, Андрей Луканов, говорит: «Разве она ест? Она жрет». Сидит Майя. Она, как всегда, держится неприступно. Пополневшая мама накрывает на стол. Мама ждет ребенка. И я потом долго не смогу отогнать мучительную мысль: может, родители надеялись – не арестуют, раз жена беременна?
Последнее радостное событие в моей жизни весной 1938 года произошло за две недели до папиного ареста. И запомнилось снегопадом белых бумажек, летящих сверху из всех окон, всеобщим ликованием. Папа и мама рядом, крепко держат меня за руки. Белый снег листовок все сыпется сверху, они шуршат под ногами. Папа сажает меня на плечи:
– Папанин, – говорит он. – Смотри, Ингуся, – папанинцы…
По улице едут машины одна за другой. Не знаю, какие машины, но в воспоминаниях остались открытые машины в белом снегу листовок, радостные крики, яркое солнце, смех… Да, почему-то вспоминается яркое весеннее солнце, хотя папанинцы ехали по улицам уже вечером – впрочем, в марте в Ленинграде темнеет поздно.
Со дня встречи папанинцев прошло две недели…
И вот «они» вошли в комнату… Была темная ночь. Раздался требовательный долгий звонок, и папа с мамой сразу вскочили. Не знаю, кто открыл парадную дверь. Вошли энкавэдэшники и дворник.
Ярко горела лампа под абажуром. У нашей двери стоял дворник в белом халате, одетом на ватник. Стоял энкавэдэшник. Другой перелистывал книги.
– Вера, я хочу есть, – сказал папа.
Папа ел медленно, старательно пережевывая. Ел язык с горошком, оставшийся от обеда. Ел, не глядя по сторонам. Мама, застыв на черной оттоманке, смотрела, не отрываясь, на папу. А папа ел. Потом сказал:
Принеси Ингу.
Он уже не мог выходить в другую комнату. Мама принесла меня, сонную, в ночной рубашке, папа посадил меня на плечи и стал кружить вокруг стола. Он был в гимнастерке без пояса. Мне очень хотелось спать, и я опустила голову на папин затылок. Свет от оранжевого абажура бил прямо в глаза.
И это единственное, что я помню из той страшной ночи – свет абажура, мешающий мне спать, и теплую курчавую голову папы, к которой я прижималась. Потом папа снял меня с плеч и передал маме. Папу вывели не по той белой лестнице, которая так нравилась мне, нет, его вывели по черной, о которой, сидя на корточках в кухне, я расспрашивала маму. Они вошли сразу с двух сторон – в парадную и кухонную двери, сбив прикладом прибитые крест-накрест доски.
Сразу же после ареста папы мы уехали из Ленинграда в Рыльск.
Ни с кем я осталась, когда утром мама побежала на работу, ни то, что нас выселили в маленькую комнату с выходом на кухню, а в нашу большую комнату вселился Зак, ни то, что маму вынесли на руках из трамвая, когда она поехала в Белый дом, – ничего этого я не знала и потому не помнила. Впоследствии мне рассказали, что мама, прибежав на работу, уронила голову на стол и зарыдала. И вместо сочувствия услышала:
– Что Вы плачете? Ваш муж враг народа – а Вы плачете!
Маму сразу уволили. Она писала Жданову, ее как беременную неожиданно восстановили на работе по действовавшему в тот период закону.
Очнулась я только на перроне вокзала на руках у военного. Это был мамин троюродный брат Емельян Николаевич Лазарев – дядя Леля. Помню блестящую темноту перрона, носильщик несет вещи, мама быстро идет за ним. Дядя Леля, красивый, высокий, в распахнутой шинели, неспешно двигается со мной на руках к нашему вагону. Я прижимаюсь к его груди, чувствуя себя защищенной.
– Это Ваш муж? – спросил военный, сосед по купе, глядя, как дядя Леля улыбается, машет рукой.
– Нет, – ответила мама. – Это мой брат. Мой муж в командировке, – и, посмотрев на наш большой багаж, добавила: – В длительной.
– А-а, – протянул военный.
И я, сидя на нижней полке у открытой двери в купе, строго сказала, глядя на военного:
– Мама, это неправда. Папа не в командировке, он в тюрьме.
Помню испуганный взгляд мамы на военного и помню, как он весело сказал:
– А это одно и то же, – и посадил меня на колени, обтянутые, как у папы, галифе.
Написав эти строки, я задумалась: как могла девочка, которой только что исполнилось четыре года, знать, что такое тюрьма, что такое длительная командировка и какая между ними разница? Я не знаю.
Поезд Ленинград – Харьков остановился на маленьком полустанке Коренево. Мама поставила меня, полусонную, на перрон, и мы пошли в сквер ожидать «кукушку» – паровозик, который по узкоколейке должен был нас довести до Рыльска. И как только я села на скамейку, меня окутал теплый шум листвы. Не смея шевельнуться, сидела я темной ночью на скамейке, волнуясь и слушая, как переговаривались кроны могучих деревьев. Я забыла про маму, про папу, про «кукушку»… Я сидела очень прямо, не двигаясь, боясь шевельнуться. Это был другой, ласковый, теплый, заботливый мир, который принимал меня. Это было родное, мое, часть меня. Это была моя кровь.
И впоследствии могучий шум листвы колышущихся деревьев ждал меня, когда мы ехали в Рыльск в самые тревожные моменты нашей жизни, надеясь там найти спасение. Ни «кукушки», ни дороги до Рыльска я не помню. Тетя Леля выслала на Рыльский вокзал за нами подводу, меня уложили на сено и прикрыли старым пальто.
Прошло несколько дней, и я вдруг услышала незнакомые, но скрытые угрозой и недовольством слова – «эгоистка», «актриса» и «комедиантка», – и произнесла это моя тетя Леля. Актриса, эгоистка и комедиантка… И потом во всех наших шалостях с моим двоюродным братом Гориком, сыном тети Лели, я всегда была зачинщицей какой-то пакости. «Это, конечно, ты», – говорила тетка, тряся своим пучком на затылке. «Это, конечно, ты». Проказ было мало. Но что-то осталось в памяти. Так с нами в Рыльске оказалась розовая блестящая сумочка на цепочке и захлопывающаяся, как у взрослых, на два крючечка. Настоящий ридикюль, только маленький, но как раз по росту. И, конечно, мне хотелось пройтись по главной улице Рыльска, помахивая розовым блестящим ридикюлем. Но я понимала, что спрашивать разрешения не стоит. Однажды после обеденного сна, после того, как мама окатила меня солнечной водой, нагретой в тазике, надела на меня нарядное платье и повязала бант на мои коротко стриженные волосы, я сбегала на второй этаж, схватила сумочку и пригласила Горика пойти посмотреть городской сад. Городской сад – это волнующая загадка. Он был окружен узорчатым железным забором, ворота были высокими, над ними большими узорчатыми буквами было написано: «Городской сад». Он оказался закрытым, но рядом располагался кинотеатр, небольшое, розовое, странной формы здание, похожее то ли на черепаху, то ли на гусеницу. И мы стали прогуливаться с Гориком мимо входа в кинотеатр. Далеко не уходили. Несколько шагов вниз, в сторону базара, несколько шагов к воротам городского сада. Там и нашла нас мама и привела домой. Потом я слышала рассказ: «Ходит, как взрослая, помахивает сумочкой и ведет разговор». Но это потом. А тогда, как только мы вступили на деревянную лестницу, ведущую в нашу квартиру, мы увидели наверху тетю Лелю с оструганными прутиками в руке. Не знаю, потом ли мне объяснили, что это называется розгами, или я уже откуда-то знала, но мы прошли тихо, прячась за маму, мимо тети Лели, стоящей у раскрытой двери, и сразу пробежали в маленькую комнату. Мама села на кровать, а мы спрятались за маминой спиной. В дверь вошла тетя Леля, которую я сразу по приезду стала звать грозой. «У-у-у! Гроза!» И вот «У-у-у гроза» вошла в комнату и, размахивая розгами, пыталась вытянуть нас из-за маминой спины. Но мы, как только она подходила справа, тут же перебирались на коленках налево, и наоборот. Так повторилось несколько раз. Было страшно, и лишь мамина спина служила защитой и прикрывала нас.
– Ну, смотрите! Я знаю, это все ты! – сказала тетя Леля, обращаясь ко мне. – Ты подговорила Горика! Ему бы и в голову не пришло! Ты же знала, что я запрещаю выходить за ворота без взрослых!
Да. Гроза.
Вообще меня в Рыльске не принимали.
– Что это за имя Инга – собачье какое-то! От него пахнет псиной, – говорил Гурьян Тихонович, сапожник, живший в полуподвальном этаже нашего дома.
– Вот это наш! – говорил он, указывая на Горика. – Белолицый, сероглазый. И имя человеческое – Игорь.
Не принимали и за темные глаза, и за смуглую кожу.
Я относилась к этому спокойно. Гурьян Тихонович мне был неинтересен. Ну не нравлюсь я ему – ну и что? Я себя отгородила от него, и он перестал существовать в моем мире. И ни разу, прогуливаясь мимо его окон, я не заглянула в них, не повернула головы.
Мне в Рыльске было хорошо. Я любила гулять во дворе с Гориком и разговаривать. О чем мы разговаривали, я не помню. Помню только удивление мамы и тети Лели: «Они все время ходят по двору и о чем-то разговаривают». Очень часто мы играли во врача. Я брала папину коричневую коробочку, выстланную изнутри синим бархатом, которую мама вывезла из Ленинграда, – там были прекрасные вещи. Блестящий молоточек, с мягким кончиком, которым стукать надо было по коленке. Две трубочки, которые вставлялись в уши, а потом, соединяясь в одну, заканчивались блестящей круглой бляхой, с ее обратной стороны была черная мягкая подкладка. Если по ней тихо постучать, то в ухе раздавался громкий звук. Вставляла резиновые трубочки в уши, прикладывала блестящую бляху к голой груди Горика: «Дышите! Не дышите!» Может быть, был и шприц – конечно, без иголки. Но что я «брала кровь» у Горика, это я помню. «Протяните руку! Дайте палец!» – говорила я важно. Горик меня слушался. Во дворе изумительно пахло травой, маленькой ромашкой, которой был усеян весь двор.
К вечеру выходила мама, выносила самовар, садилась на корточки и начинала чистить его ягодами бузины, разбросанными под деревом.
– Ягоды ни в коем случае не бери в рот, – говорила мама. – Это отрава.
Мама начищала самовар до блеска. У самовара были две прекрасные витые ручки по бокам и витой красивый носик с ручкой, из которого текла вода. Потом самовар собирался. Ручка ставилась на место, он накрывался круглой выпуклой крышкой. Мама насыпала щепочки, которые потом превращались в серый мягкий пепел. Надевалась труба. Самовар стоял в углу двора. Но пили мы чай не во дворе, а всегда в большой комнате.
По приезде в Рыльск я, кажется, совсем забыла папу, я как-то сразу повзрослела и чувствовала себя намного старше Горика, хотя мы были одного возраста. После страшной зимы 37–38 года в Ленинграде здесь было такое прекрасное солнце, такая мягкая пахучая трава, устилающая весь двор! Мы ходим с Гориком в одних трусиках босиком и разговариваем, разговариваем. После обеда полагается спать. Солнечную комнату занавешивают темной занавеской, но все равно все видно. Слышно, как жужжит муха за занавеской. Она так громко жужжит, что, может быть, это и не муха, а шмель. Тетя Леля не разрешает разговаривать. Я играю с галькой, мне очень нравится этот гладкий серый овальный камень, привезенный с моря. Я перекатываю его из руки в руку, рассматриваю мелкие прожилочки. Он такой гладкий-гладкий, и я кладу его в рот. Только-только провести кончиком языка по этому гладкому камушку. Немножко полизать, положить на язык… Я кладу его на язык, и вдруг он соскальзывает и проваливается прямо внутрь.
– Я сейчас умру! Я сейчас умру! – несется мой отчаянный вопль. В дверь влетают сразу мама и тетя Леля.
– Я проглотила гальку! – кричу я, глядя на них. Я даже не встала в кровати. Я сижу и жду – сейчас умру. Ведь меня мама предупредила: «Если проглотишь гальку, то умрешь».
– Нет, Ингочка, – вдруг говорит моя строгая тетка ласковым голосом, – нет, Ингочка. Это не страшно. Ты же видела, какой он гладкий. Он заскользит, заскользит и выйдет наружу.
Еще моим частым развлечением было тихо открыть огромную деревянную калитку с тяжелыми железными засовами, выйти на улицу, перейти тротуар, прижаться щекой к деревянному телеграфному столбу и вдыхать запах паровозной гари и слушать гудение проводов. Не знаю, что мне это напоминало, – возможно, поезд, возвращение в Ленинград. Возможно, в этом и крылась тоска по папе, по Ленинграду. Не помню, чтобы Горик так же, как я, стоял неподвижно, прижавшись к столбу, и вслушивался в его гудение и вдыхал паровозную гарь.
После сна мы идем часто на речку. Барахтаемся с Гориком у берега, а на берегу сидят мама и тетя Леля. Они не купаются. Обе в платьях. Не знаю, сколько времени проходит, и тетя Леля говорит:
– Ну, хватит! Уже все посинели. Выходите.
Но мы не хотим выходить. Нам совсем не холодно. Так приятно плескаться в воде прямо у берега, иногда ложась на песчаное дно, и бить ногами по воде.
– Пора, уже прохладно, – опять говорит тетка.
– Нет, нет, не прохладно! Еще немножко!
Тетя Леля поворачивает голову, настороженно к чему-то прислушивается и говорит:
– Водяной бык кричит. Пора выходить.
Мы с Гориком продолжаем бить ногами по воде, лежа на песке, и Горик произносит:
– Да мы этого быка побьем!
Я радостно подхватываю:
– Пусть только сунется! Мы его палкой!
Мы хохочем и еще сильнее бьем ногами по воде.
Проходит какое-то время, и тетка опять поворачивает голову в сторону, прислушивается и говорит:
– Нет, не показалось. Водяной бык кричит.
Я перестаю плескаться, становлюсь на колени и внимательно слушаю.
И вдруг говорю:
– Да, я слышу.
И замечаю, как мама поворачивает в сторону голову и, как мне кажется, смеется.
– Как он кричит? Как? – пристает Горик.
– Так глухо, – говорю я. – У-у-у – будто издалека.
Однажды, вот так купаясь, я вдруг слышу:
– Леля, воды отошли.
Мама быстро натягивает на меня платье, надевает носочки, сандалики, и мы бежим с ней, как две подружки, взявшись за руки по мосту.
– Куда бежим?
– За мальчиком или девочкой, – говорит мама.
Я уже что-то понимала – понимала, что будет у мамы кто-то.
Я забегаю вперед, не отпуская руки, и, глядя ей в глаза, говорю:
– Только не Ленку, противную девчонку!
Не понимаю, слышит ли меня мама, я кричу, преграждая дорогу:
– Только не Ленку, противную девчонку!
Я скучала без мамы. Мне было плохо. Я не жаловалась, не плакала, но мне было плохо.
– Я не могу без маминой мякоти.
– Без чего? – тетя Леля засмеялась. – Без чего?
Я промолчала. Я сама не знала, что это такое. Не могла точнее выразить свое чувство. Возможно, мамина рука, которую я держала, засыпая, а возможно, мамины глаза… Не помню. Но точно помню: без маминой мякоти мне было плохо. Все пропало. Я не ходила по двору, не играла с Гориком. Мне было плохо. С внезапным исчезновением мамы радость каждого дня уменьшалась.
– Когда вернется мама?
– Дня через три-четыре.
Я не знала, сколько это, но понимала, что все же это кончится и мама опять будет со мной.
Прошло несколько дней. Окно было распахнуто на улицу, и от рамы, чуть облупившейся, смоченной только что прошедшим дождем, пахло старым деревом и пылью. Я, опершись локтями на белый лоснящийся подоконник, глядела на улицу. В комнате, кроме меня, никого не было. Запах, источаемый намокшей землей, рамой окна, прибитой дождем пылью на дороге, наполнял меня. Тяжелая медная ручка на белой высокой двери тихо опустилась вниз, и в щель просунулась теткина голова.
– Ты что делаешь?
– Скучаю.
Тетка хмыкнула и качнула головой. Дверь закрылась, и я, скользнув взглядом по блестящей витой дверной ручке, по задвижкам на окнах, мягко желтевших медью, соединила их с теплым летним вечером, старинным домом, теткой и тайной. Тайна была за окном в сумерках, опускавшихся на дорогу, в загадочном доме напротив, где никто не жил, в темных провалах церковной колокольни. Я оглядываю небо. Я жду. В этот час всегда с колокольни вылетают галки. Сначала я слышу тревожный шум внутри колокольни, я знаю, они там на колокольне перелетают с места на место. Почему? Почему сейчас? И где они были днем? Я жду. Постепенно крик нарастает, галки волнуются все больше, и вдруг прозрачное чистое небо взрывается шумом, черные ленты мечутся в сереющем небе, тревожно вскрикивая. Что их так волнует? Я внимательно слежу за их полетом. Они сначала летят огромной стаей, потом разбиваются на отдельные маленькие стаи и все время переговариваются. Я слежу за ними, чутко прислушиваюсь. Это загадка. Почему вечером в одно и то же время? Почему так кричат? И почему от их крика становится и тревожно, и как будто они умывают тебя теплой водой, проводя маминой рукой по лицу? Нет, все же они зовут куда-то, в какую-то прекрасную даль, и от этого я начинаю дрожать.
– Иди ужинать, – позвала тетка.
В теплом мягком воздухе где-то далеко зародилось, разлилось и поплыло мимо меня могучее пение, смешанное с грустью. Это запели женщины с Дублянки. Исполненное грусти и тоски пение проплывает мимо меня и исчезает где-то в степи, за городом. Это пение охватывает меня, как сумерки за окном, как черные мятущиеся ленты в небе, как запах пыли после дождя, – это был единый живой мир. Дублянка – маленькая речушка, впадающая в Сейм, текущая под Вознесенской горкой, где около десяти лет тому назад стояла старинная деревянная церковь Ильи Пророка и где мой дедушка, никогда мной не виденный, оповещал стоявших в церкви: «Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа!» Уже никого нет в живых, а голоса женщин с Дублянки еще звучат, и живет след, оставленный ими в душе.
Вероятно, быт в этом городе оставался таким же, как в мамином детстве. Базарная площадь с разбросанным сеном, запах конского навоза, глиняные кувшины топленого молока с коричневой пленкой, горочка только что сбитого масла на листе лопуха, крынки со сметаной… Тетя Леля ходила по базару, пробовала пальцами сметану, творог, торговалась…
Лавки с керосином, колонки с водой на улицах…
При входе на базар – маленькая побеленная часовня с надписью: «Соль». Из двадцати церквей в городе не работала ни одна. Их печальные полуразрушенные колокольни возвышались над невысокими домами.
– Иди ужинать.
За столом уже сидел Горик, первый и единственный друг. Душистый серый хлеб тетка намазала маслом и полила сверху ручейком коричневого горько-сладкого меда. Из глиняной раскрашенной крынки налила молока. Я медленно ела, разглядывая зеленую из темного стекла сахарницу в виде сундучка. Сахарница в ромбиках, выступающих наружу, прикрытая кованой узорчатой темной крышкой. Кажется, там тайна, и прячется свет. Очень хочется открыть ее, заглянуть внутрь, но я боюсь тетки – она все делает сама. Вот она открывает сундучок, откидывает крышку, и я привстаю на стуле и вижу крупные кусочки сахара и блестящие щипчики. Тайны нет. Но как красиво! Каждый вечер за ужином я буду сидеть за столом и рассматривать эту сахарницу.
– А мне показалось что, когда мы гуляли, я в окне одного дома видела маму, – сказала я.
– Нет. Она скоро приедет, она уехала.
Я молчу. Но ведь в том длинном доме с большими окнами, мимо которого мы несколько раз ходили туда-сюда, за занавеской я видела маму! Может, показалось?
И я прищуриваю глаз, чтобы одновременно видеть и лампочку под абажуром, и вторую сахарницу на огромном буфете, раскрашенную яркими полосами, – и вот передо мной возникает полоса, разрезанная на желтые, красные, зеленые квадратики! Этот фокус я открыла случайно, но теперь часто им пользуюсь.
Вообще в этой большой теткиной комнате меня интриговало несколько вещей. Всегда сложенный ломберный столик с гнутыми ножками. Мне очень хочется его хотя бы раз раскрыть и посмотреть, что там. Когда я просовываю палец в щель и чувствую мягкую ткань, вижу зеленый цвет сукна. Этот столик был для меня, как для дикаря, священным предметом, он манил меня своей тайной, я не знала, для чего он, и часто слышала: «Отойди от стола». Еще ореховый шкаф у двери. Он всегда закрыт. Но на нем сверху по бокам торчат какие-то рожи – то ли козлов, то ли мужиков с козлиными бородами. На одну из этих рож тетка вешает свою черно-бурую лисицу – проветриваться. Очень мне хочется потрогать эту лисицу – у нее такой пушистый переливающийся мех и злой оскаленный рот внизу! Я только мельком рассматриваю ее зубы, страшный оскал, а потом поднимаю взгляд и, не дотрагиваясь, чувствую, как приятен этот мех, если провести рукой. И тут же слышу теткин окрик: «Отойди от лисы. Ее трогать нельзя».
Иногда лисица исчезала, и на этой же страшной козлиной роже повисал окорок. Я пряталась за угол шкафа, чтобы понюхать так чудесно пахнущий окорок. Но тетка вроде только этого и ждала: «Отойди от окорока!»
Я знала, что окорок трогать нельзя, даже нельзя прикасаться. Этот окорок висит здесь, а потом его повезет тетка к Константину Герасимовичу в Курск. Его я не помню совсем. Это папа Горика и Татки, моей двоюродной сестры, которую я в тот приезд совершенно не помню. Ей очень много лет – одиннадцать, она большая и не играет с нами.
Из обрывков разговоров я понимаю, что Константин Герасимович тоже в тюрьме. Это мне не кажется ни страшным, ни странным. Но к окороку я даже не думаю прикасаться, хотя вдыхаю этот чудный запах сладкого дыма и еще чего-то очень вкусного, стоя за углом шкафа.
Константина Герасимовича я никогда не видела. Он вошел в мою жизнь именно этим окороком. Уже потом я узнала, что Константин Герасимович – сын священника, приехал из Западной Украины, служил землемером, снимал у Клавдии Ивановны, моей прабабушки Курдюмовой, комнату, и тетя Леля, не видя его, влюбилась в его голос. Придя навестить бабушку, она за стенкой услышала прекрасный мужской голос, который пел романсы. На единственной уцелевшей фотографии Константин Герасимович, с бритой наголо головой, что особенно подчеркивало его крупные черты, с мясистым носом, в круглых очках, производит впечатление человека умного и гордого и напоминает белогвардейского офицера из фильмов того времени.
Его арестовали почти одновременно с папой. В феврале 38-го. Вернувшись из командировки, Константин Герасимович, не раздеваясь, только поставив чемодан, сказал тете Леле: «Я сейчас. Накрывай на стол. Только сбегаю на угол купить папиросы». Больше его тетя Леля не видела. На улице его попросили зайти в НКВД за какими-то разъяснениями. Из Рыльска Константина Герасимовича переправили в Курск.
Потом дошли слухи, что его застрелили прямо в кабинете следователя на допросе. Он замахнулся на следователя стулом, а тот выпустил в него обойму. «Десять лет без права переписки», – сказали тете Леле, и она перестала ездить в Курск и выстаивать ночи для передачи окорока.
Мы тогда не знали, что «десять лет без права переписки» означает расстрел, и ждали.
И вот настал день. Мы возвращаемся домой, у мамы на руках сверток, завернутый в салатное теплое одеяло. Мы – это вся наша семья: тетя Леля, Татка, бабушка, которая приехала помогать маме, я и Горик. Мы идем быстро по пыльной дорожке, я подбегаю к забору и в тени рву маленькие ромашки, зажимаю их в кулачке, подбегаю к маме и кидаю их сверху на салатное одеяло. Я подпрыгиваю, пытаясь увидеть брата, и стараюсь улыбаться. «Они развернут братика, увидят цветы и поймут, что я никакая не эгоистка».
Это слово мне страшно не нравилось. Оно представлялось темно-фиолетовым, угрожающе мерзким, таящим в себе какую-то гадость. Когда развернули в доме братика, никаких цветов там не оказалось.
Брат был маленький, красный, пол-лица занимал рот. Я пыталась подать ему руку, но не смогла разжать кулачок.
– Вечером будем купать, – сказала тетя Леля. – В деревянном корыте нельзя, я приготовила цинковое.
В светлый полукруг от абажура поставили два венских стула друг против друга. На стульях разместили серое шершавое цинковое корыто. На дно постелили пеленку.
Тетка попробовала воду локтем.
– Готово, – сказала она.
Высокая худенькая мама ходила с братом на руках.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?