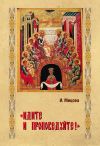Текст книги "Снова выплыли годы из детства…"

Автор книги: Инга Мицова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Я не отрывала глаз от освещенного полукруга, где двигалась тетка.
– Готово, – сказала тетка, еще раз проверяя локтем воду.
– Я боюсь, – сказала мама.
Тетя Леля решительно взяла брата на руки, бережно поддерживая рукой головку.
– Агу, – сказала она. – Голова ее ласково покачивалась. – Агусеньки, – приговаривала тетка, брызгая на брата водой.
Я подошла к корыту и взялась за его край рукой. Корыто было шершавым, неприятным на ощупь. Среди темных деревянных гладких вещей теткиной комнаты корыто казалось чужеродным телом и резало глаза.
– Э-т-т-т-о что такое?! – вдруг грозно вскрикнула тетка. Серый пучок на ее голове затрясся от возмущения. Она разжала кулачок брата и вытащила оттуда леденец.
– Это, конечно, ты! – обернулась она ко мне. – Я говорила тебе, Вера: ее нельзя подпускать к малышу.
Мама молчала.
– Он же мог проглотить – маленькие всегда суют руки в рот!
Мама молчала. Брат плакал.
«Он не только ничего не понимает, но и ничего не чувствует. Купаться так приятно», – подумала я, уходя в темный угол.
Брат родился 6 июля, и почти сразу было решено назвать его Володей – в память об умершем мамином брате Володе.
Бабушка сидела на стуле спиной к окну, а мама и тетя Леля стояли напротив рядом, и мы, дети, были тут же. Бабушка, с пышными белыми волосами, в легком халатике в цветочек, убеждала, что иначе быть не может.
– Родился спустя десять лет после смерти моего любимого сына, твоего любимого брата, – обращалась бабушка к маме, – и в день Владимирской Божьей Матери.
Я слушала бабушку, но смотрела в сторону, где пришпиленный к ковру висел портрет маминого брата. Под раскидистой огромной яблоней, среди раскиданных вокруг яблок, опершись на локоть, полулежал сероглазый мальчик с пепельными волосами. Внимательно, чуть печально он смотрел на меня и, казалось, хотел передать мне что-то, известное только ему.
Я ухватывала в словах бабушки, что он на небе, и карточка в коричневом переплете, казалось, парила в голубом воздухе. Этот мальчик так и остался на всю жизнь старше меня и унес что-то таинственное вместе с собой.
В один из осенних дней я сказала:
– Ухожу к папе.
– Иди-иди, – ухмыльнулась тетка.
Я оделась и вышла на улицу. Меня никто не задержал, да я и не ожидала этого. Решение мое было непоколебимо. Видно, всем я чем-то сильно досадила, и даже мама молчала. Я спустилась по широкой деревянной лестнице, открыла тяжелую парадную дверь и вышла на улицу. Почему я так решила – не помню. Я не тешила себя мыслью, что это игра. Я покидала дом навсегда. Несмотря на то что со дня ареста папы прошло более полугода, где-то глубоко внутри серым, как его шинель, комочком пряталось воспоминание. Там был его дом. Никто меня не остановил. Сначала свернула налево, хотя к вокзалу надо было бы свернуть направо, но у меня была заветная мечта – посмотреть мельницу. А мельница была где-то слева. Я пошла по улице, не чувствуя никакого страха, рассматривая почти одинаковые дома, одинаковые заборы с воротами. Но в одном доме была странная стеклянная матовая дверь, а рядом с ней на стене под стеклом – огромное количество фотографий. Такое количество людей меня смутило, даже испугало. Впервые я подумала, что мне придется встречаться с незнакомыми людьми. Заложив руки за спину, я остановилась и стала рассматривать лица. Особенно испугало меня множество женских лиц, чужих, незнакомых. Случайно повернув голову, я увидела прижимающуюся к забору маму. Сердце екнуло, но я и вида не показала, что ее увидела. Я была полна решимости дойти до папы и, отвернувшись от фотографий, пошла дальше. Мама догнала меня.
– Ты куда идешь, Ингочка?
– Сначала на мельницу, а потом в Ленинград.
– Почему на мельницу?
– Папа обещал. Я хочу к папе.
– Как же ты собираешься дойти до Ленинграда?
Ну, на это ответ у меня был давно припасен. Я, вероятно, не раз обдумывала свой путь.
– Очень просто, – сказала я. – Дойду до вокзала, а потом по рельсам.
– Ты же знаешь, папа в длительной командировке, – сказала мама, ласково проведя по моей голове рукой. – Папы же нет в Ленинграде, он в длительной командировке, – повторила мама, продолжая гладить меня по голове.
У меня уже давно смешались понятия «тюрьма» и «длительная командировка». Я уже почти забыла, что такое тюрьма, настолько часто приходилось повторять: «Папа в длительной командировке». Понятие «тюрьма» как-то стало исчезать, я уже и сама верила, что он в длительной командировке. Мы вернулись домой.
Зима 38-го года. Что осталось в памяти? Помню, мы с Гориком играли в поезд – составляли венские стулья один за другим, садились на них и ехали в путешествие. Помню, как Горик однажды в сильный мороз решил поцеловать медную ручку нашей двери и как его язык и губы примерзли. Он стоял и плакал. Я с ужасом смотрела на него, ожидая, как будут отрывать ему губы от ручки, как потечет кровь, и понимая, как будет больно. Мы стояли на веранде и плакали оба навзрыд. Но тут тетя Леля приоткрыла дверь. Я не успела что-нибудь сказать, Горик мычал. Тетя Леля исчезла и тут же вернулась с полотенцем, смоченным горячей водой. И все! Губа отлипла, язык стал на место, никакой крови.
– Я хотел ее лизнуть, – плакал Горик. – Только лизнуть.
Но я знала, что он хотел ее поцеловать, потому и губы прилипли.
И еще помню розовые столбы дыма над трубами… Как-то я утром вышла во двор и замерла: за воротами в голубом небе стояли над соседними домами прямые, как стрелы, розовые столбы дыма. Это было потрясающе красиво. Строй розовых столбов дыма, прямо уходящих в небо, и запах горящих поленьев в печках – одно из самых сильных впечатлений за всю зиму.
Нет, было еще одно. Осенью мама стала работать в школьной библиотеке. Тетя Леля вела хозяйство. Помню разговор тети с мамой: можно ли нас с Гориком по случаю праздника Октябрьской революции отвести на утренник в школу, где работала мама? Я молча стояла рядом, а они, не замечая меня, разговаривали. Бабушка была за то, чтобы мы пошли на праздник, но мама и тетя Леля сомневались. Помню, что, как всегда, разговор закончила тетя Леля: «Нет, Вера, скажут, что привела детей врагов народа. Ты можешь лишиться места».
Праздник мне представлялся почему-то коричневым, в дверях толпятся дети, большой зал… Нет, я не могла представить праздник и не очень хотела туда. В школу пошла Татка и принесла оттуда несколько булочек.
Булочки были темно-желтыми или, скорее, светло-коричневыми, с хребтом поверху.
Бабушка, которая хозяйством никогда не занималась, очень оживилась, сказала, что их надо обязательно подогреть, что это «французские булочки». «Нет, городские», – сказала Татка. Был даже спор: надо ли подогревать? Ведь могут сгореть, обуглиться. Но бабушка стояла на своем. И вот мы, окружив Татку и бабушку, которые почему-то вспоминаются то ли сидящими на корточках, то ли стоящими на коленях, как-то разогревали эти булочки. Тетя Леля стояла за их спинами. Наблюдала. «Самое вкусное – это горбушка и гребешок», – говорила бабушка. Нам с Гориком досталось только по маленькому кусочку середины. Запах подгоревшей булочки и вкусный белый мякиш я помню до сих пор.
Вовка не спал по ночам. Тетя Леля отвела нам большую комнату с лисицей и ломберным столом, предварительно все куда-то убрав. Вечером она плотно закрывала дверь в свою комнату, где спала вместе с Таткой и Гориком. А мама ходила ночи напролет с Вовкой на руках. Иногда бабушка сменяла маму.
Что еще запомнилось из той такой длинной зимы 38–39 годов?
Елка. Огромная елка, украшенная до этого не виданными мной игрушками. У тети Лели осталось много старинных игрушек – там была девочка в кружевном капоре, в колясочке, стеклянный чертик с завитым хвостом, большой Дед Мороз, много-много шаров и бус. Я даже осмелилась надеть одни из них на шею, но продолжалось это счастье недолго: мама и тетя Леля боялись, что я разобью бусы и поранюсь. И с меня их сняли.
Нам с Гориком разрешили развешивать внизу елки картонаж. Сейчас, кажется, такого слова нет. Это из картона вырезанные раскрашенные зверюшки. Они висели по низу елки, а ее верх украшал огромный блестящий шпиль, перевитый красной лентой. Посередине была красная блестящая впадина.
Молчаливая, очень похудевшая мама с Вовкой на руках наблюдала, как мы с Гориком, ползая по полу, развешивали по низу елки картонаж.
– А у нас на елке была красная звезда вместо шпиля, – сказала мама.
В это время или чуть позже моей тете Леле сделали предложение стать штатным сотрудником НКВД.
– У Вас муж в тюрьме, с Вами люди откровенны. Вас все знают в Рыльске. Вам доверяют. Вы же не работаете. У нас будете получать зарплату. Мы будем Вам платить.
– Меня содержит брат.
Я вспоминаю мою тетку, которая после мамы для меня была вторым человеком. Как я сейчас вижу ее? Волосы чуть тронуты сединой и оттого кажутся вылинявшими, серыми, они собраны в пучок. Никакого испуга. Чуть-чуть насмешливое выражение лица. Не знаешь мою тетку – не поймешь, что думает. А если знаешь, то ожидаешь, что она сейчас насмешливо хмыкнет. Небольшие умные глаза глядят на сотрудника НКВД.
– Не всегда же он будет Вас содержать, – вежливо возражали ей.
Тетя Леля, не меняя выражения лица, пожала плечами.
Оказалось – всегда. До самой смерти. Брат Жоржик присылал ей ежемесячно деньги, как зарплату. Тетя Леля после ареста мужа никогда не работала.
«Чти отца и мать свою», – говорится в заповедях. Как поздно мы спохватываемся, как бесконечно страдаем, вспоминая свое бессердечие! Дядя Жоржик, мамин брат, не только чтил отца и мать – он всем помогал. Помогал братьям, Славе и Грише, сестре Леле и маме, когда папа сидел в тюрьме. Именно тогда дядя Жоржик поддерживал в нас веру в человека. «Жоржик – это ангел», – часто звучало в наших комнатах. Так к нему и относились всю жизнь в большой семье Курдюмовых.
Я в то время постепенно забывала папу и только иногда просила маму приготовить гурьевскую кашу, которую делал папа, или сводить на мельницу.
– Почему на мельницу?
– Папа обещал.
Гурьевскую кашу мама делать не умела, да и продуктов таких не было.
– А вот папа умел.
И мама попробовала. Когда вынула противень из печки, то все же это была просто манная каша, хотя и коричневая.
Прошла зима. Настала весна, и я опять выходила за калитку и, прислонившись к столбу, слушала гул проводов и вдыхала паровозную гарь. Горик, тетя Леля и Татка куда-то исчезли. (Оказалось, их пригласил дядя Жоржик на все лето к себе в Днепропетровск.) Я слонялась одна. К этому времени я уже совершенно забыла папу, и даже серого комочка, спрятанного где-то у сердца, не осталось. И вдруг слышу, что мы с бабушкой едем в Ленинград.
Весной 39-го мы с бабушкой поехали в Ленинград. Жоржик, которого только что выбрали академиком, прислал дополнительные деньги, и бабушка, купив билеты в мягкий вагон, взяла меня с собой. Расставания с мамой не помню. Вероятно, болезненная привязанность к ней ослабела. У мамы появился еще один ребенок, а у меня друг.
Купе поразило меня своим блеском, чистотой. Два дивана, покрытые белоснежными чехлами, над каждым диваном – зеркало. Зеркало и во всю дверь. Проводница приносила на подносе, покрытом белой салфеткой, два стакана крепкого чая. Темно-красный чай, просвечивающий сквозь подстаканники, меня поражал – было красиво.
– И еще печенье, – говорила бабушка, – с маслом.
Она намазывала толстым слоем масло на печенье.
– Ешь, – говорила она.
Мне это казалось очень странным. «Печенье с маслом? – думала я. – Нет, это уж слишком! Масло едят с кашей или с хлебом, но с печеньем?..»
– Почему не ешь? – спрашивала бабушка.
– Не нравится.
Бабушка удивлялась, но ничего не менялось. Всю дорогу до Ленинграда мы пили темно-красный чай и ели печенье с маслом.
– Это так вкусно, – повторяла бабушка, намазывая на печенье толстый слой масла.
Возможно, бабушка все-таки вынудила меня есть печенье с маслом, поскольку другого ничего не было. Но отвращение к этому осталось у меня на всю жизнь.
Что еще помнится из поездки?
Причесывание. У меня уже в то время были косички, и вот по утрам бабушка начинала меня причесывать. Я кричала: «Больно!» А почему не было больно, когда мама причесывала?
Что я могла ответить? Что мама аккуратно прядь за прядкой проводила гребешком, а бабушка накидывалась на волосы и водила гребешком с силой по голове сверху донизу, не обращая внимания, спутанные волосы или нет? Она, по-моему, даже не понимала, что надо мягко распутать пряди спутанных за ночь волос. Несколько раз я отказалась от прически.
– Ну и ходи трепаная, – сказала бабушка.
Вообще мы с бабушкой были недовольны друг другом и целые дни проводили в молчании, сидя на белых прекрасных диванах.
Мы приехали в Ленинград летом 39-го и поместились в комнате у дяди Славы, маминого брата, в Лесном, на Объездной. Дом был бревенчатый, двухэтажный. Вход в дом был со двора, и подниматься надо было по очень крутой и узкой деревянной лестнице. Дом был знаменит тем, что там жили раньше сотрудники академика Иоффе. В двадцатые годы здесь жил дядя Жоржик, потом из Рыльска приехала моя мама. За ней моя прабабушка Елена Андреевна и Володя, в память которого и был назван мой брат. Приехал дядя Гриша. Бабушка. Дядя Слава. Когда мы с бабушкой приехали в 39-м году, там жили только дядя Слава с женой Ирочкой (дочерью тети Кати) и маленьким, только что родившимся сыном Аликом. Дядя Слава и его жена тетя Ирочка были троюродными братом и сестрой. Как мы размещались в одной комнате, я плохо помню. Кажется, бабушка уходила спать к соседке, матери какого-то академика, живущего в этом доме. Я спала на двух приставленных друг к другу венских стульях. Спать было очень неудобно, стулья иногда расходились, и я повисала между ними. Алик спал в коляске рядом со мной. Где размещалась кровать, на которой спали дядя Слава и Ирочка, я не помню. Посередине комнаты стоял большой стол. Часть стола была завалена пеленками, там бесконечно пеленали Алика Ирочка с тетей Катей. Тетя Катя была совершенно не похожа на ту, что рассказывала маме про Порт-Артур. Меня она вообще не видела. Она вся была поглощена Аликом. Он по целым дням плакал, а тетя Катя и тетя Ирочка суетились над ним. Я простаивала часами, вцепившись в край стола, глядя, как ему в попку вставляют резиновые трубочки, как обе тети поглощены этим, как радуются и переглядываются, когда из трубки течет коричневатая жидкость или выходят газы. Я жила в каком-то оцепенении, не помнила мамы, Рыльска, Горика, папы. Здесь текла жизнь, в которой мне не было места. С утра тетя Ирочка причесывала меня, и я садилась надолго за тот кусочек стола, который не был прикрыт пеленками. Мне подавали прекрасную чашку чая. Чашка заманивала меня в сказочный мир, где над синей рекой, среди маленьких изогнутых толстых деревьев прогуливались прекрасные дамы с крохотными зонтиками в руках в странном одеянии. «Кимоно», – говорила тетя Катя, на миг отвлекаясь от возни с Аликом. Я вертела чашку, прекрасные женщины одна за другой проходили мимо меня, вращая маленькими ручками крохотные зонтики над головами. Синие и красные кимоно переливались под солнцем и словно источали волнующий аромат. Наконец у меня отбирали чашку. Бабушка вставала из-за стола, надевала белое пышное в оборках платье, подходила к огромному зеркалу с черным подзеркальником на гнутых ножках, снимала папильотки, расчесывала пышные белые волосы, вглядывалась в зеркало, брала пуховку, дула на нее, поднимая пахучее облако, и ее лицо становилось загадочно матовым… Потом капала сорок капель валерьяно-ландышевых капель, выпивала их и исчезала на весь день!
Как только бабушка уходила, я принималась рассматривать вещи, которые лежали на подзеркальнике. Более всего меня занимал лорнет. Я то складывала его, то раскрывала и разглядывала комнату сквозь него. Кроме лорнета на подзеркальнике была морская раковина в коричневых крапинках со щелью внизу. Я подносила к уху раковину и слушала, как шумит море. И опять я спрашиваю себя: откуда я знала про море? Я ведь никогда его не видела. Потом начиналось самое приятное. Я по очереди раскрывала прекрасные пустые флакончики духов, сохранившие дивные ароматы.
Обедали мы поздно, по-петербургски. Дядя Слава возвращался с работы, приезжала бабушка. Стол накрывали белой скатертью. Мне казалось, что тетя Катя побаивается бабушку, она тут же исчезала. Ни дружбы, ни любви между двоюродными сестрами я не ощущала. По-моему, бабушка чувствовала себя хозяйкой. Кто готовил обед, кто накрывал на стол – я не помню, но помню: бабушка оглядывала стол, вставала со стула, подходила к буфету, вынимала с полки лафитничек и торжественно ставила его на стол. Дядя Слава оживлялся и наливал себе рюмочку.
По ночам я часто просыпалась, стулья подо мной разъезжались. И я подолгу не отводила глаз от красного огонька на заднем колесе темного тяжелого велосипеда, висевшего на противоположной стене. Этот красный огонек в темноте меня пугал, от него словно исходила угроза. Я отводила взгляд, и мне казалось, что из двух углов комнаты смотрели на меня и корчили рожи горбатые китайцы, вероятно, вышедшие из чашек.
Вскоре по приезде я заболела коклюшем и стала проводить почти все время во дворе. Я ни с кем не дружила, и желания не было. Каждому приближавшемуся ко мне я говорила: «Не подходите ко мне, у меня коклюш, я заразная». Во дворе, пустом и унылом, была единственная вещь, которая меня интересовала, – столб. На столбе – сетка с дыркой посередине. Я часто стояла, задрав голову, под сеткой с дыркой, стараясь понять, что это. Когда я чувствовала, что приближается приступ, то спешила подняться в комнату. Я боялась приступов. Задыхаясь, я быстро карабкалась вверх по деревянной длинной лестнице, распахивала дверь и зарывалась в колени тети Ирочки. Мне было пять лет.
Однажды, вот так вскочив в панике в комнату, стараясь задержать приступ, я услышала:
– Пожар! Горим!
Горели провода в нашей комнате. Угрожающий, страшный, тяжелый, беспрерывный гул полз по проволоке, обмотанной чем-то белым, из угла комнаты к двери.
– Горим! Пожар! – Ирочка выскочила в коридор.
– Горим! – неслось из открытой двери.
Я замерла у открытой настежь двери. Вдруг в дверь вскочил парень и, не раздумывая, подпрыгнув, повис на проводе и оборвал его. Пожар кончился. Но потом долго страшный гул и ползущий по белому шнуру красный огонь вспоминался мне.
Однажды бабушка взяла меня с собой. Мы долго ехали на трамвае, потом шли, пока не попали в какую-то зеленую будку, заполненную женщинами. Бабушка, в своем неизменном нарядном белом платье с оборками и кружевами, с большой камеей на груди, пыталась протиснуться сквозь толпу. Стоял страшный крик. Женщины кричали, бабушка тащила меня за руку сквозь плотную толпу. «Пропустите, я с больным ребенком!» – слышала я. Очень отчетливо помню бабушкину белую руку, протянутую мне сквозь толпу женщин. Саму бабушку я уже не вижу, я вижу только белую руку, голую по локоть, протянутую сквозь толпу. Только руку, родную знакомую руку с двумя коричневыми пятнышками. Я схватилась за нее. Я сзади, среди толпы, как на цепочке… бесконечный крик… крик… и бабушкин голос: «Пропустите! Я с больным ребенком!» Вероятно, у меня начался приступ кашля. Как я оказалась на улице, у красной кирпичной стены за углом, я не помню. Рядом не было никого. Я стояла, прижавшись к каменной стене; яркое солнце светило мне в лицо, обволакивало меня и грело своим светом, а я смотрела на синюю прекрасную широкую Неву. Вдали плыл белый пароходик. Он удалялся от меня и казался маленьким. Что понимала я? Что чувствовала? Но в тот момент я точно знала, что эта прекрасная картина – яркое солнце, синяя-синяя широкая Нева и удаляющийся белый пароходик – все это не для меня. Ни Нева, ни белый пароходик, уплывающий вдаль, ни яркое солнце, заливающее своим светом прекрасную картину, – не для меня! Может, мне не поверят, но все было именно так, как описала это Анна Ахматова. Вероятно, очень сильный был контраст: кричащая плотная толпа женщин, стиснутая в маленькой темной будке, возмущение бабушки и ее белая по локоть рука, торчащая из плотной стены женщин, – рука, тянувшая меня за собой сквозь толпу, – и эта прекрасная спокойная темно-синяя река под солнцем и уплывающий беззаботный белый пароход…
Не помню, когда осознала, что я тогда была в проходной Крестов, ленинградской тюрьмы, и как я была близка к папе в тот день. Прошло полтора года, как папу арестовали, и я уже не связывала Ленинград с папой и не пыталась дойти до него. Растаял серый комочек в сердце. Папы не было. Но чувство, что красота жизни и счастье жить в ней не для меня, было очень сильным.
Много позже я узнала, что на протяжении почти двух дет один раз в три недели Ирочка вставала ранним утром и, оставив Алика на тетю Катю, ехала занимать очередь в тюрьму для передачи нескольких рублей на папиросы для папы. Стоять рядом с тюрьмой не разрешалось, и женщины прятались в переулках и дворах, дожидаясь времени, когда двери зеленой будки откроются.
Когда я стояла, прижавшись к кирпичной стене Крестов, я не знала, что папа болгарин, и что такое Болгария, я, конечно, тоже не знала, не знала я и того, что папа, двадцатилетний, участвовал в первом антифашистском восстании, которое произошло именно в Болгарии (согласно Советской энциклопедии), что после разгрома восстания эмигрировал в Австрию, числился студентом в городе Граце. В Австрии он постоянно поддерживал связь с болгарскими коммунистами, перевозя почту, распоряжения из центра, деньги и т. д. У папы была исключительная память, с ним никогда не было компрометирующих бумаг – все распоряжения папа перевозил в голове. После белого террора, произошедшего в 1925 году в Болгарии, папа помогал вывозить революционеров из Болгарии в Австрию. Он спас более ста человек. Считался одним из надежнейших проводников. И все-таки он попался. Его схватили в Югославии. Когда я, уже студенткой, была с папой в Югославии, он обронил фразу: «В югославских тюрьмах страшно бьют». Я тогда не придала никакого значения папиным словам – лишь после его смерти узнала, что именно в югославской тюрьме у него был сломан шейный позвонок. Потом папу переправили в Болгарию, где тоже жестоко избивали в течение года, после чего выпустили под залог. Прошло с начала белого террора два года. Папина мама, моя никогда не виданная мной бабушка Цана, скончалась, и только после этого папа, горячо любивший свою мать, бежал в Австрию. Он избежал пограничного контроля, спрятавшись на якоре за бортом корабля, готовый при обнаружении броситься вплавь через Дунай. Он слышал топот жандармов, голос капитана… Его искали, но не нашли. В Вене папа участвовал в забастовках, сидел в тюрьмах… И потом по поддельным документом был переправлен в СССР.
Стоя под стенами Крестов, где находился мой папа, я, конечно, ничего этого не знала. Не знала, но чувствовала всем сердцем: вся красота – голубое небо, широкая, могучая, прекрасная река, удаляющийся белый пароход – не для меня.
Вскоре я заразила коклюшем маленького Алика и теперь оставалась совсем одна. Ирочка с Аликом уходили из дома и весь день проводили на пароходике на Неве. Влажный воздух реки облегчал приступы маленького ребенка.
Я завидовала им – целый день кататься на пароходике по прекрасной могучей синей реке!
Ни как мы вернулись в Рыльск, ни встречи с мамой, ни как жили, ни как играли с Гориком, который провел все лето с тетей Лелей и Таточкой у дяди Жоржика, я не помню. Но вот однажды рано утром я услышала громкий мамин голос:
– Леля, Здравко выпустили.
Мама сидела в ночной рубашке на кровати, спустив голые ноги, прижимая руки к груди:
– Мне приснился сон, – громко говорила мама, – очень четкий, будто наяву. Я застилаю кровать, поднимаю подушку, а под ней Здравкины часы.
Тетя Леля смотрела на маму молча.
Я хорошо знала эти часы – большие, круглые, карманные, с белым циферблатом, черными крупными цифрами и секундной стрелкой, быстро бегающей по кругу. Папа отдал их маме при аресте.
– Ну и что? – сказала тетя Леля.
– Здравко вернулся… Этот сон означает, что Здравко жив и вернулся.
Я ясно вижу, как мама подняла подушку и так и застыла с ней в руках – на простыне под подушкой лежали папины круглые карманные часы.
Тетя Леля молчала.
А мама, радостно-растерянная, будто видела папу, все сидела на кровати, спустив голые ноги.
В моей дальнейшей жизни будет множество явлений, подобных этому провидческому сну. Это было первое. Не помню, в тот же день или на следующий мы получили телеграмму от Ирочки: «Здравко дома».
Оставив на несколько дней Вовку на бабушку и тетю Лелю, мама, взяв меня, поехала в Ленинград. Я не помню, где мы остановились – возможно, мы были в Ленинграде один-два дня. Вспоминается темный город, синий свет от фар проезжающих машин, от трамваев… синий свет из окон домов. И смутно, как во сне, вижу: мы втроем в темноте переходим улицу, темная улица убегает вдаль, заворачивая вправо… Папу не вижу и не помню своей радости, хотя мы втроем. Ощущение, что мы втроем, совершенно не похоже на то, в прошлом, когда папа говорил: «Смотри, Ингуся, это паровоз». Тогда мы были единым целым – я посередине, с одной стороны мама, с другой – папа. Нет, сейчас я не посередине. Не между ними. Мама прижалась к папе, повисла на нем… Я, спотыкаясь, цепляюсь за мамину руку, тащусь сзади и оглядываюсь на синие окна домов, синие огни фар машин и трамваев… Темный город.
Синие огни – это маскировка. Идет финская война…
А потом я помню нас с мамой ночью на вокзале. Наверное, в Курске. Мы долго сидели на скамейке на перроне, и мама все время щупала мне лоб. А потом решительно встала, взяла меня за руку и повела по перрону, толкнула стеклянную дверь, завешенную белой марлей.
– Это комната матери и ребенка, – сказала мама.
Мы оказались в комнате, где стояло несколько пустых кроватей, застеленных белыми простынями. Слева за столом сидела женщина в белом халате, дежурный врач, светилась желтая настольная лампа. Мама, крепко держа меня за руку, виновато взглянула на врача и, не спрашивая разрешения, не произнося ни слова, подвела меня к ближайшей кровати и, не раздевая, уложила меня в шубке на постель и села рядом. Дежурная оглядела нас и только покачала головой. Щеки у меня горели, была высокая температура…
В Рыльск я привезла корь. Болела сама, потом заразила маленького Вовку. Мама нервничала, рвалась обратно к папе в Ленинград. А папа выполнял данное себе обещание – вычеркнуть два года из памяти. Недавно я услышала, что человек только тогда человек, когда имеет силы, все потеряв, начать вновь жизнь с нуля. Письма, которые пишет папа в начале 1940 года маме, какие-то корявые – кажется, что слова вырываются со скрежетом. За время отсидки он старался говорить как можно меньше. Всегда помнил и чувствовал: в камере есть доносчики. На шпиков, как я уже писала, у папы был нюх.
Как мы доехали до Рыльска, я не помню. Я болела долго и тяжело. Помню занавешенное окно и мамину кровать, на которую положили меня. Было очень тоскливо. Горика ко мне не пускали, читать я не умела и целые дни молча лежала в кровати. Болели глаза, высокая температура держалась долго. Уже когда я стала поправляться, но еще не вставала с постели, в комнату вполз Вовка. Я смотрела, как он ползет по полу, и, вытянувшись во весь рост своим наболевшим телом, сказала маленькому брату:
– Вовка, рассмешь меня!
Как всегда, тетя Леля была начеку и закричала:
– Вера! Вера, иди послушай, что она говорит. «Рассмешь меня!». Принцесса! Надо же – «рассмешь меня»!
Мама и тетя Леля, прислонившись к двери, смотрели на меня и смеялись.
Вовке вход в мою комнату не прошел даром – он тоже заболел корью.
Так миновала зима. Дело шло к весне.
Кроме этих небольших эпизодов, ничего не осталось в памяти. Но остались письма папы, сохраненные мамой, а потом сохраненные мной. Письма с декабря 39-го года по весну 40-го. Вот они.
«Декабрь 1939 г.
Дорогая Вера.
Вчера вечером, вернувшись после суточного дежурства, прочел только что полученное письмо. Сегодня вечером застал второе твое письмо от 20-го. Мне не нравится твое нытье. Ты только приехала, знаешь хорошо, какое положение, и сразу начала плакать, жаловаться и вызывать сочувствие к себе. К чему это все? Кому же легче и лучше – тебе или мне? Неужели ты меня принимаешь за ящик для жалоб? И спешным порядком хочешь меня засыпать жалобами, чтобы я ничем не занимался, а только твоими нервами. Ведь ты же сама доказала на деле, что можешь справляться с невзгодами… Почему плакать другому в жилетку? Известно, что последняя без рукавов. Например, очень хорошо знаешь, как обстоит вопрос с моим приездом в Рыльск, как будто договорились об этом не раз и давно. А все равно чуть ли не с дороги кричишь мне: “Приезжай скорей, приезжай, родной!” Родной-то я родной, а вот приехать-то я не могу совсем, не то что скорее. Ведь я же не на личной работе своей – захотел и поехал. Инга не могла не заболеть. Мороз, поезда, комната матери и ребенка, переполнение квартир, где она была с детьми, преимущественно больными, не могли не вызвать заболевания и без того хилого ребенка. Но я не могу понять, как простая для распознавания ангина свернула на корь? Одним словом, лечи ее. Вышлю тебе 500 рублей, это все, что могу до следующей получки. Заплачу долг. Остальное – мне. Завтра готовы шинель и брюки. Гимнастерку еще не получил. Один из комиссаров обещал мне жилплощадь, но после заселения нового дома. А когда это будет, точно никто не знает. Возможно, к концу февраля. И хотя очень и очень нуждаюсь в отпуске, решил тянуть до того дня, когда будет это распределение квартир.
Место моего прежнего побочного заработка занято. К другим я ходить не могу и не хочу. Ты напрасно так пессимистично смотришь на будущее бабушки. Не сдастся она так легко и быстро, как ты пугаешь. Но это, конечно, в качестве довода, что ты “бедная, несчастная, беспомощная” и я должен приехать помочь. Брось пугать, Вера, ангиной, осложнением на уши… Брось пугать, Вера, мы пуганые. К чему друг друга еще пугать. Пожелай бабушке всего хорошего. Если будет время, с удовольствием куплю Леле варежки, если только достану. Я хочу и себе купить, только хочется не перчатки, а рукавицы. У меня почему-то мерзнут руки почти наравне с носом и ушами, а иногда и больше. Я работаю. К сожалению, здесь небывалый кризис собак. Мои станки последнее время работают вхолостую. Прошел очередную партинстанцию. С тех пор, как ты уехала, был один раз в кино со Славой и Ирой. Прошу тебя писать по-человечески. Ты Ингой не отговаривайся, что не дает тебе писать. Это ерунда. Кажется, все. Привет всем. Я, грешный человек, тоже хочу видеть тебя. Целую тебя. Душой и телом твой Здравко».
Читаю и перечитываю письма. Прошло не более одного-двух месяцев, как папа вышел за ворота тюрьмы. Страшно заглянуть в душу папы того времени. Мне кажется, что там, в глубине, что-то бесформенное, черное… То ли сгусток запекшейся крови, то ли сама страдающая, уязвленная душа… и все папины усилия направлены на то, чтобы научиться существовать вместе с этим. Перечитываю письма, и чем больше читаю, тем страшнее становится. Я не могу понять – то ли папа еще в шоке, не очень осознает происходящее, то ли такова его сила воли. И впервые поражаюсь маме – она словно забыла, что папа два года сидел в тюрьме, будто не понимает, что папе пришлось пережить. Она спешит вернуться к прежней жизни, торопит папу с квартирой, шлет заказы, ревнует, жалуется.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?