Текст книги "Великая княгиня Рязанская"
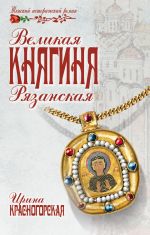
Автор книги: Ирина Красногорская
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Вот страху-те, наверное, натерпелись. Мы и то думали, конец света пришёл, когда у нас тут стены зашатались, да и подсвечник по столешнице пополз… А так ведь всё обошлось.
– На Скоморошей горе, – напомнила боярыня, что сидела подле Анны, – у скомороха Петьки Смородины хлевушек только и развалило. Скотину, сказывали, придавило.
– Ах, да какая у скомороха скотина! Козы, чай, одни, – Мария Ярославна слизнула с пальцев сметану.
Митька внёс оберемок[9]9
Оберемок – охапка.
[Закрыть] досок.
– Куда их?
– Куда! Не на стол же! Клади на пол.
Гостьи оторвались от перепелов и карасей, вслед за великими княгинями вышли из-за стола полюбоваться досками. Восхищались громко, преувеличенно, чтобы польстить своей княгине, рязанской, да и чтобы московская гордячка не подумала, будто ей рухлядь какую всучивают:
– Хороши, ах, диво, как хороши! Ни на одной узор не повторяется. И письмена по кайме. Мастера-то у нас – грамотеи.
Анна к столу не вернулась. Осталась разбирать доски. Примостилась рядом с ней одна блохастая собака, потом – другая. Анна показывала им доски, подносила прямо к тёмным влажным носам.
– Смотрите, смотрите, какой многоглавый город. Какие окошечки у домов затейливые, решётчатые. А на крыше островерхой – петух! Видите?
Собаки моргали коричневыми добрыми глазами и смущённо отворачивались.
За столом продолжалась трапеза. Тянулась неспешная застольная беседа. Князь Иван едва сидел, но этого никто не замечал. Хмельные мужчины хулили новгородцев, литовцев; забывшись, пару раз ругнули ордынцев, татары прикинулись, что ничего не слышали; говорили об охоте на вепря: налились овсы, пора на деревьях близ них мостить повети, чтобы караулить зверя. Женщины обсуждали средства против моровой язвы: от синих болячек, коль они на теле объявятся, спасения нет – через три дня хворый умирает, от красных можно излечиться, если днём и ночью к ним красные же тряпицы прикладывать, мокрые, конечно.
– А старшенькому моему икона помогла Чудотворная, – рассказывала княгиня московская громко, стараясь перекрыть гул мужских голосов. – Тряпицы неделю прикладывала, извелась вся – не легчает. Спасибо старушке пришлой, надоумила на огороде в мусорной куче покопать. Покопали – святая Анна в холстину конопляную обёрнута…
Суженый сыпал в малиновый кисель себе, отцу, дяде ложку за ложкой соль, и никто не замечал. Даже то, что он столкнул солонку на пол, углядели только собаки.
Анна спала под столом, обняв теремную доску, и снился ей многоярусный белокаменный город на берегу незнакомой реки.
3
Осень покатила за Покров. Уже отвьюжили на мостовых пёстрые хрусткие листья, бурыми сугробами притулились к заборам и завалинам. Вениками-голиками темнели деревья, и только лиственницы тускло светились, как догорающие лучины. Но всё ещё было сухо и солнечно. И пряди летучей паутины всё ещё норовили сесть на лицо. А под вечер совсем по-летнему перед теремом столбилась, толкалась мошкара, невесть откуда влетали в покои поутихшие было комары, опять надоедливо зудели, не давали Анне заснуть.
Спозаранку же, по-летнему, шумел, будил её торг.
Он раскинулся напротив княжеских хором за Кремлёвской стеной на тесной от лабазов, лавчонок, прилавков и клетей Красной площади, которую в народе звали Пожар – так часто она занималась огнём.
На Пожар, приехав из Переяславля, каждое утро Анна тащила мамку. Протискивались в пряничный ряд, и Анна всякий раз изводила мамку, долго выбирая пряник, да так зачастую и не купив его. Торговцы, угадав в ней княжну, иногда дарили один-другой. И Анна сама несла с торга сласть, пачкая ею рукава и полы шушпана[10]10
Шушпан – верхняя одежда.
[Закрыть].
Бывала она и в рядах, где продавали утварь, дивилась на расписные колыбельки, прялки, шкафчики и салазки. Близко подходила к ним, водила пальцем по затейливым узорам. Утвари, конечно, никто ей не дарил, и купить её Анна не могла. Печатные пряники, на пахучих иноземных приправах замешанные, ценились дорого, хоть и недолговечны были, а уж прялки да шкафчики делались на века – разве девчонке, даже княжеской, к ним подступиться.
Узнав про Аннин интерес, старшие, денежные, братья Иван и Юрий стали приносить ей для забавы пряничные доски. Их немало скопилось к осени в печурах девичьей горницы. Мамки и няньки смеялись:
– Зимой на растопку пойдут. Ишь, поленница в избе выстроилась.
Анна злилась, не понимала шуток и, придя с торга, перебирала, пересчитывала своё богатство, вновь рассматривала разные картинки, вспоминала, кто из братьев какую доску принёс, что сказал.
Иван дарил всё больше доски с видами каких-то сказочных городов и при этом приговаривал одно и то же:
– Любуйся, сестричка, когда-нибудь такой же у себя в Рязани построишь.
Юрий предпочитал изображения цветов, трав, диковинных птицедев и говорил о девах, поясняя непонятное:
– Это такие вольные, неземные существа, Анютка.
– Ангелы?
– Нет, не ангелы, но им также доступны глуби небесные и бездна премудрости. Сосредоточились в них девичья чистота и тайна.
– А что это бездна премудрости? – спрашивала Анна, девичья чистота её не занимала.
– Это, как тебе сказать? Вырастешь – поймёшь.
Птицы-девы, которым было доступно нечто непонятное, Анне не нравились. Их деревянные лики были однообразно некрасивы и ничего не выражали. Надумала сама вырезать таинственную птицу с ликом великой княгини Марьи, Марьюшки то есть, жены Ивана.
Анна знала и любила её уже года три. Десятилетней Марья вошла в их семью и после свадьбы («До времени», – как сказала бабушка Софья Витовтовна) поселилась в Анниной горнице. Анна была рада этому. А Марья сперва жить с ней не хотела и спать отказывалась на одной лежанке.
– Держаться всё время вместе будете, чтобы не изурочили[11]11
Изурочить – сглазить, навести порчу.
[Закрыть] порознь. Мамки Аннины опекать вас будут. У Марьи в Москве много врагов, – наставляла Софья Витовтовна.
– Какие у меня враги? – изумилась Марья. – Ведь меня здесь никто не знает.
Софья Витовтовна больше ничего не стала объяснять, сама раздела Марью и уложила рядом с Анной.
Вместе они спали, отгородившись подушкой, – Анна во сне брыкалась. Вместе хворали и дружно тогда мастерили куколок, чтобы свою хворь им передать. На щепках угольком рисовали лики, шерстяными нитками обматывали туловища. Из ниток же плели косы и головные уборы. Хворь проходила, а невестка с золовкой всё куколок цветной шерстью обряжали да на подоконниках выстраивали.
С лета Марья жила на половине великого князя Ивана, вернее ночевала, дни она, как и прежде, проводила у Анны в её просторной, всегда полной прислуги и каких-нибудь пришлых горнице.
И в то утро, когда Анна принялась вырезать доску, у окон её светлицы пять или шесть девок вышивали рушники и рубахи, нянька катала на сундуке выстиранное бельё, какая-то странница дремала на Анниной лежанке, и мамка искала у неё в голове, в углу две служанки драли перо.
Бухнула дверь. Застучали в сенях каблучки, но никто из девок и баб не шелохнулся: знали Марьину стремительную поступь.
– Анка! – крикнула Марья с порога. – Суженого привезли!
Анна подняла голову – нож чиркнул по пальцу. Кровь тут же залила доску, закапала на пол.
– Ахти! – взвизгнула нянька.
– Бедная моя головушка! – вскочила с лежанки мамка. – Не уберегла.
Анна зажала палец и вопила благим матом. Бабы заметались по горнице – искали тряпицу. Вскинулась на лежанке странница, часто-часто крестилась. Марья с перепугу бросилась в сени:
– Помогите! Помогите! – Опомнилась, вернулась, рванула подол нижней юбки – не поддался новый холст. Полоснула по нему злосчастным ножом, оторвала лоскут, перевязала палец.
– У собачки боли, у кошечки боли, у Аннушки пройди.
Повязка набухала кровью.
– Знахарку надо – кровь остановить.
– Ой, боюсь, матушка узнает. Она мне не велела доски резать, – захныкала Анна. – Не женское дело, сказала, и тебе, мамка, велела за мной следить.
– Уследишь за тобой, как же! Сегодня же все доски пожгу. А заживёт палец – за вышиванье сядешь. А ну подними его. Остановилась, кажется.
– Кровь – к родне, – сказала странница и спросила с любопытством: – Кого там привезли, Марьюшка?
– Какая я тебе Марьюшка, – неожиданно для всех разозлилась всегда покладистая Марья. – Великая княгиня я, Мария Борисовна. И как смеешь ты, пришлая, на постели княжны валяться! Обнаглели! Понабились в горницу, будто на дворе мороз. А ну – все на волю! Дух от вас тяжёлый.
Служанки послушно направились к двери. Поднялась странница, неспешно принялась оправлять постель.
– А ты что мешкаешь? Без тебя приберут.
Странница подняла котомку и у двери, обернувшись, зло поглядела на Марью.
– Не изурочила бы, – встревожилась Анна.
– Не ведьма, чай, – успокоила её и себя Марья. – Так вот, девонька, прибыл твой суженый, и, значит, ты тоже скоро будешь великой княгиней.
– И буду сама на торгу покупать себе пряники и резать доски.
– Несмышлёная, дурочка! Да разве женское это дело.
Приезду рязанского княжича в Москву предшествовала беда. Он, восьмилетний, сделался круглым сиротой. Причём мать умерла раньше и, видимо, от родов. Места в Архангельском соборе, усыпальнице переяславских князей и княгинь, для неё почему-то не нашлось. Имя её в старинных документах не упоминается, так что в историю она вошла безымянной.
Великий князь рязанский Иван незадолго до смерти всё-таки постригся в монахи, а заботы о детях своих – сыне Василии и дочери Феодосии – поручил брату и другу, князю Василию.
Детей привезли в Москву. На княжеский престол в Переяславле Василий Тёмный посадил московского наместника.
Рязанцы сперва возроптали, но скоро успокоились: наместник ни с какого бока не наследник, сам права на рязанский престол не имеет и никого на него не пустит, посидит до совершеннолетия Василия и уберётся восвояси.
Наместник въехал в Переяславский кремль с изрядной ощетинившейся пищалями свитой, с несколькими именитыми татарами, которые должны были удостовериться, что всё свершается правильно, согласно воле покойного.
Жизнь в Переяславле Рязанском начинала идти на московский лад.
Анне не терпелось увидеть суженого. Но его сперва долго парили и мыли в бане, потом стригли, потом повели отдыхать в гостевую горницу. Марья сказала, что выйдет он к обеду, и принялась вязать носки. Анна взялась сматывать шерсть с маленьких клубочков в один, но из-за обвязанного пальца дело у неё не двигалось.
– Брось, не мучайся, – сказала мамка, – давай-ка новый сарафан примерять. К обеду в нём пойдёшь.
Анна быстренько стянула будничный, осталась в холщовой с рукавами нижней рубахе. Подали новый сарафан, голубой с серебряными пуговицами-бубенчиками на груди.
– Этот? – недовольно протянула Анна, она видела, когда его шили. – Не надену! Хочу красный, какой был на тетушке, княгине рязанской.
– Таких девоньки не носят.
– А я хочу! – Анна оттолкнула мамку с её голубым сарафаном.
– Да ты примерь, – вступилась Марья, – голубой тебе к лицу.
– Вот и носи сама! – уселась, как была в рубахе, на резную низенькую скамеечку, взялась опять за клубочки.
Время приближалось к обеду. В поварне уже заправляли щи толчёным старым салом: из-за устоявшегося тепла скотину жалели резать. Рубили крутые яйца для гречневой каши. Жарили на постном масле лук. Манящий дух его быстро распространялся окрест, заставляя сглатывать голодную слюну обитателей большого княжеского терема и дворовых сторожевых псов, косматых и злющих.
В трапезной любимые персидские кошки Марии Ярославны, задрав пушистые хвосты, вились у стола, вскакивали на скамьи, трогали мягкими лапками край столешницы, мяукали. С мягким стуком падали на холщовую скатерть ложки, позвякивала посуда.
И вдруг в этот приятный для уха шум вломился рёв.
– Кто это? – испугалась Анна.
– Княжич приезжий в кубок венецианский написал, – смеясь, пояснила входящая уже с красным сарафаном мамка. – Ну в тот, в коем пояс подменный проверяли. Вот, должно, Марья Ярославна его учит маленько.
– Бить великого князя! – взвизгнула Анна, швырнула клубочки. В одних чулках и рубашонке рванулась из горницы. Мамка и княгиня Марья – за ней.
– Постой, постой! Надень ичиги, хоть платком покройся!
– А-а-а! Не бейте его! Не смейте! – влетела Анна в гостевую горницу.
Княжич в коричневом праздничном кафтане, с шитым жемчугом оплечьем, спиной лежал на полу, как хрущ, и, как хрущ, дергал тонкими в красных сапожках ногами. Вопил:
– Не дамся, больно! Больно!
Вокруг него суетились брат Иван, великая княгиня-матушка, слуги, не били – пытались зачем-то снять сапог. У матери в руках была хворостина, выдернутая наспех, видимо, из голика. Заметив новых зрителей, княжич завопил ещё громче.
– А ну замолкни! – с порога сказал князь Василий. Княжич враз затих. Домочадцы расступились, пропуская к нему князя.
– Болит?
– Очень!
– Давай!
Княжич послушно вдел в протянутые руки левую ногу – князь одним рывком сдёрнул с неё сапог, выругался.
– Вот как надо! Распустили нюни, раскудахтались, – метнул сапог – пискнула кошка. – А чёрт бы тебя! – отёр вспотевшее лицо онучей. – Мой руки, стервец, и в трапезную – живо!
Княжич вскочил, быстренько поковылял к дверям, припадая на ушибленную, правую – не левую, ногу. Подобрал сапог, повернулся, сказал ехидненько:
– Онучу-те верни, дяденька. Пот ширинкой отирают, – и хлопнул дверью.
– А вы чего молчали? – взъярился князь, стараясь почему-то запихнуть в карман злосчастную онучу. – Позастило?[12]12
Позастить – заслонить, загородить свет, лишить временно зрения.
[Закрыть] И чтобы пальцем его не трогали! Никто!
– Да кто же его трогал? – оправдывалась княгиня. – Знаешь, что он тут умудрил.
– Знаю.
– Ну, я его постращать маленько, а он на стол сиганул, с него на поставец. Тот пошатнулся. Хорошо, что устоял, не придавил парнишку.
– Ушибся сильно?
– Да нет!
– Костоправа к нему.
Кто-то из слуг кинулся выполнять приказ.
– И не то чтобы пальцем, чтобы словом худым его никто не наказывал, – продолжал князь. – Не дай бог, озлобится. Волк нам в Рязани не нужен. Пёс домашний, от хозяина ни на шаг не отступающий, больше подходит. Иван, пусть княжич при тебе будет, как друг собиный, денно и нощно.
– Нощно нельзя. При нём теперь Марья, – напомнила Мария Ярославна тихо.
– Найдёт и на Марью время! – во всё горло воскликнул князь.
Марья застеснялась, прикрыла лицо широким рукавом, смущённо бормотнула:
– Уж ты скажешь, батюшка.
– Как там? – ночная кукушка дневную перекукует, – засмеялся князь и обнял жену. – Не пора ли обедать?
Анну в этой кутерьме он не приметил. Она обиженно засопела, поволокла по полу к дверям принесённую мамкой шаль.
4
После рождения Анны одряхлевшая Софья Витовтовна прожила только два года, и то не дома, а в монастыре. А ведь было время, больше всего боялась монастырских стен, заточения. И вот постриглась добровольно, потом и схиму приняла. Не хотела обузой стать домашним или решила грехи замаливать? Если принять во внимание схиму, скорее последнее. Грехов у Софьи Витовтовны хватало. Как же сражаться за власть, как её удерживать, оставаясь безгрешной? Кроме ослепления племянника, на её совести, говаривали, были ещё две внезапные смерти соперников Василия. Вдобавок злые языки приписывали ей и чисто женский грех, нешуточный. Оспаривая право малолетнего княжича Василия на власть, противники его объявили, что он байстрюк. Слух этот, хотя и весьма сомнительный, просочился через века и, не принятый историками на веру, всё-таки осел на страницах их серьёзных трудов. В своё время он, наверное, доставил немало неприятностей Софье Витовтовне (вряд ли ей удалось отмахнуться от него – мол, плевать: враги для пользы своей распустили), наверное, пришлось доказывать, что всё это сказки, как-то его пресекать, но едва ли думала она, что этот слух, это задевающее её женскую честь обвинение войдёт в историю.
В семье Василия Тёмного никто не заикался о грехах Софьи Витовтовны, а через десять лет после смерти княгини грехи эти начисто стёрлись в памяти даже невестки её Марии Ярославны. Добродетели же вспоминались, как и всяческие наказы.
Мария Ярославна, имеющая уже сама немалый жизненный опыт, все начинания свои по хозяйству теперь неизменно подкрепляла ссылками на заветы Софьи Витовтовны: «Так матушка-покойница делала…», «свекровушка моя говаривала», «бабушка твоя наказывала».
Анна удивлялась, когда это матушка столько бабиных наказов успела перенять – жили-то они врозь. И уж совершенно поразилась, когда все знавшие Софью Витовтовну стали утверждать, что внучка характером – сущая бабка. Ну как она могла перенять бабин характер, если от встреч с ней запомнились только тёмно-коричневый глянцевый посох да край чёрной юбки, отделанный по самому низу щёточкой бахромы?
– По наследству передался, – говорила Анне мать, вроде бы и не огорчаясь.
По наследству, без указания в завещании, достался Анне от бабы и небольшой ларец с дорогими украшениями. А в завещании баба Анну и не упомянула. Мария Ярославна видела в этом не злой умысел и не старческую забывчивость – лишнее подтверждение особой добродетели и ума свекрови. В завещании Софья Витовтовна распределяла между близкими в основном своё недвижимое имущество: сёла, землю, угодья. И говорила будто бы, его составляя и предполагая недовольных: «Я не солнышко – всех не обогрею, – и ещё: – Не для того деды-прадеды московскую землю, как лоскутное одеяло, собирали, чтобы я её по миру пустила».
Нет Анны в завещании, как, впрочем, и брата её Ивана, а жена его, Марьюшка, есть.
– Ивану, по праву наследования, как старшему сыну и сопроводителю всё равно отцовская доля достанется. Марьюшка же от родины оторвалась, и, случись что, куда ей деваться? Вот баба Марьюшке деревеньки и отказала. Ну а ты отрезанный ломоть, – объясняла мать, – как тебя землёй оделить – вся в Рязанию уйдёт. Да и не обошла тебя баба: вон какой вклад в приданое сделала. Первая. С него и собирать тебе начали. Не с пустыми руками в дом мужа явишься. Утрём нос боярыням рязанским, завидущим.
Сундуки с приданым стояли в опочивальне Марии Ярославны и год от года множились. Укладывались в них голландские холсты, персидские шелка, фряжские аксамиты[13]13
Аксамит – бархат.
[Закрыть], алтабас[14]14
Алтабас – персидская парча.
[Закрыть], смоленское и московское полотно, шерсть, посуда, одежда, полотенца, скатерти, мелкая утварь и украшения. Всего не упомнить, не перечесть.
Большая часть дорогих вещей: иноземные ткани, серебряная посуда, – перекочевала в Аннины сундуки из сундуков Марии Ярославны, а той досталась от матери, бабки и, может, от прабабки. Так и лежали эти вещи долгие годы без всякой пользы: слишком ценны, чтобы быть им в ходу, только на свадьбах и показывались гостям, как диковины.
Чтобы уберечь диковины от порчи, требовалась особая забота. Два раза в месяц содержимое сундуков пересматривалось, перетряхивалось, просушивалось, прокатывалось, чтобы не залежались складки, не обернулись рваниной – дорогие ткани не любят частой носки, но и без движения им лежать вредно.
В пятницу спозаранку в княгининой опочивальне начиналась весёлая, желанная для всех работа. Девки под присмотром ключницы и великой княгини потрошили сундуки, щеголяли, проветривая, в дорогих сарафанах и шубах. Анна примеряла какие-то огромные для неё шушпаны, крутила головой перед зеркалом в сползающей на глаза сороке, а потом наступала очередь маленького сундука, и княгиня всех выпроваживала, и Анну – тоже, запирала двери, сама проверяла его содержимое.
Наконец настала долгожданная для Анны пятница, когда её, одиннадцатилетнюю, допустили до заветного сундука.
Совсем не простым делом оказалось открыть хитрый замок, самой Анне это не удалось. Неловко, от нетерпения, подняла крышку. Под ней – зелёный, как майский луг, ковёр, подарок ордынского хана к её дню рождения.
– Стели на пол, будем на него всё складывать, – сказала Мария Ярославна, а сама села на скамеечку, наблюдала с удовольствием, как Анна вытаскивает ценные вещицы, подолгу держит их, разглядывая. Отмечала, про себя усмехаясь, что дочь передаёт драгоценности совершенно холодными руками – от волнения они у неё стыли. Тщательно осматривала, принимая перстни и браслеты с яхонтами, аметистом, чётки и монисто из солнечного камня балтов[15]15
Балты – народ, живущий на побережье Балтийского моря.
[Закрыть], янтаря, любимого камня Софьи Витовтовны и совсем не ценимого в Москве, рассказывала:
– Камень этот, твоя бабонька сказывала, – слёзы морской царевны. Очень целебный, снимает усталость, силы придаёт, от зоба излечивает. А на этом браслете бирюза. Она приносит счастье супругам. И бабонька говорила, произрастает из костей тех, кто помер от любви. Наденешь на свадьбу.
Анна потянула назад колдовской браслет, примерила. Он сполз по тонкой поднятой руке до самого локтя. Опустила руку – соскользнул с кисти: велик.
– А подогнать по руке нельзя?
– Успеется, до свадьбы ещё нагуляешь тела. Подтопи-ка печку, Анна, что-то ноги мёрзнут.
Анна опустилась перед топкой, высекла огонь. Занялась, закручиваясь, розовая береста. Быстрый огонь зарумянил Анне лицо. Княгиня залюбовалась дочкой, сказала, не сдержалась:
– Пригожая ты девка, Анна. Годочка через два можно замуж выдавать.
– Может, я не пойду за Василия? – проговорила Анна полувопросительно, складывая бабушкино подаренье в резной ларчик.
– Чего это ты удумала? Обязательно пойдёшь. Москве нужна Рязания. А рязанцы, знаешь ли, горды, непокорны. Силой их взять трудно. Не раз твои пращуры пытались… Уж прадед твой Дмитрий на что воитель был, но и тому не удалось. Пришлось дочь свою в невестки Олегу рязанскому предложить, тем только дружбу и наладили. А без рязанской поддержки, доченька, татар нам не сломить, хоть и поослабли они.
Мария Ярославна замолчала, прикрыла глаза. Задремала? Или сомлела – испугалась Анна, спросила тревожно:
– Матынька, ты что?
– Приоткрой топку, посидим немножко.
Анна опустилась на ковёр у ног матери.
Через слюдяные оконца уже вползали в опочивальню ранние декабрьские сумерки. Будто ладони татарских плясуний, играло в топке пламя. Сыпались на железный лист у печи тёмно-красные угольки. «Такие горячие камни на диадеме, что достались от Софьи Витовтовны Марьюшке, – подумала Мария Ярославна. – Польская королева Ядвига, кажется, их Софье Витовтовне подарила. Ну что бы эту диадему свекровушке да Анне отказать».
– Пиропы эти камушки зовутся, угольки.
– Что?
– Свят-свят, задремала, видно. Много в моей жизни врагов было, – сказала Мария Ярославна, обрывая мысль о не доставшихся дочери камнях, – и порчу насылали, и яду подсыпали, и в дальнем городе в монастыре, как в тюрьме, держали. Смерти моей желали, чтобы отца твоего на другой женить. Да… Натерпелась я… Ой, моль, Анна! Лови! Никак в сундуке завелась?
Княгиня вскочила, согнулась над сундуком, опустила в него руки, как в колодец, по самые плечи.
– Нет, вроде нету.
Анна бегала по горнице, хлопала ладошами, потом сделала вид, что поймала.
– Всё! Что дальше-то? Ну, извести тебя хотели…
– Да-да. И я, грешница, как в силу вошла, должницей не осталась. Но враги все эти мелкие были. Самые же лютые – татары. Их перевести всю жизнь мечтала. Думала, что муж их одолеет, а он в междоусобице погряз. Теперь на вас, на детей моих, вся надежда. Боже, как я их ненавижу! – воскликнула Мария Ярославна и стукнула кулаком по крышке сундука. – И тебе, дочка, ненависть завещаю.
Анну поразило материнское неистовство. Сама она с детства привыкла относиться к татарам с брезгливой неприязнью, как к нищим или убогим. Считала их существами низшими и дивилась, что взрослые подчиняются им, боятся их, а няньки пугают ими детей.
Ненависть ещё не успела вызреть у Анны. Только в год её рождения подступали к стенам города беспощадные враги, воины царевича Мазовши, а так относительно спокойным выдалось время её детства и отрочества. Мирные татары ездили и бродили по улицам Москвы, захаживали на княжеское подворье, сиживали за праздничным столом, как гости. Перебежали в Москву из Казанского ханства испросить у великого князя покровительства царевичи Касим и Якуб, сыновья хана Улу-Мухаммеда, некогда пленившего князя. И князь принял их на службу. Касим помогал ему бороться с Шемякой и с золотоордынским Сеид-Ахметом. За эту помощь Касим получил во владение землю на окраине Московского княжества с Городцом-Мещерским. И стал городец зваться Касимов.
Те страшные времена, когда нападения татар можно было ждать со дня на день, отошли, но ведь и не избылись совсем.
Ненавижу – легко сказать, а как почувствовать? Анна молчала.
– Копим добро, копим, – сказала Мария Ярославна, стоя перед сундуком на коленях и перебирая в нём что-то, – а всё может в одночасье сгинуть. Не раз уж так бывало, не с нами, так с другими. Дожить бы только до того светлого дня, когда дети мои стряхнут эту нечисть с русской земли. Не передрались бы только братцы. Ох, горячи и немирны. Юрий поласковей всех, но не он соправитель, не он наследник… Бабонька всё сокрушалась, что не он. Больше всех его любила. А ты Ивана больше любишь.
– Мне, матынька, все братцы милы.
– Не юли. Это тебя, сестрицу долгожданную, все они любят, а ты, лисичка, того, кто богаче одарит.
– Ну, матынька! – Анна обняла княгиню сзади за полные плечи, расцеловала запрокинувшееся навстречу её губам лицо. – Матынька! Не за подарки тебя люблю. Ты не притомилась ещё?
– До обеда управимся, – сказала довольная лаской княгиня. – А ты с Иваном дружи. Он надёжный. Не предаст. Вот он как суженого твоего к рукам прибрал, будто шёлковый стал парнишка. С ним-то часто ли видишься?
– Только за трапезой, ты же знаешь. Он всё с Иваном: на учении, на охоте, а то на лошадях гоняют.
– Ничего, не с девкой какой время проводит, не с посторонним, это удача, нам, Аннушка, выпала, что Василий осиротел, прости господи, меня, грешную. Жаль только крови в вас много общей, и московской, и литовской. По московской – вы троюродные, а по литовской… надо бы заняться сосчитать: бабка твоя Софья была двоюродной племянницей прабабки Василия Евфросиньи. Ну, даст бог, обойдётся.
– Что обойдётся? – не поняла Анна.
Мария Ярославна вместо ответа спросила строго:
– А ты в седле теперь хорошо держишься или всё так же квашня-квашней?
– Квашня, – смущённо хохотнула Анна: не в первый раз её мать об этом спрашивала, всякий раз после её ответа мамку песочили, что мало с ней занимается – ездит княжна плохо, еле на воде держится, на верёвке кулём висит. Теперь Анна боялась, что мать и про верёвку спросит, но она спросила о другом:
– Открыла ли мамка тебе тайны женские?
– Открыла, – пролепетала Анна, зарываясь в материн сарафан лицом.
– Ну-ну, уронишь! – сказала княгиня, поднимаясь с колен. – Ишь, заалела маковым цветом. Лучше в девках всё узнать, чем в подоле принести. Давай-ка назад всё складывать, – она принялась сноровисто для своего пышного тела собирать раскиданные по ковру вещи. – А мужу никогда ни в чём не перечь. На ласку не скупись. Уступай. Выслушивай. Поддакивай. Похваливай. – Мария Ярославна засмеялась. – Мужики похвалу любят. Пожалуй, даже больше ласки. Я уж на своём веку так юлила, так ластилась – вспоминать противно. Зато и тихо в семье, мирно.
– А вот это надо дать иконописцам обновить, – сказала Марья Ярославна, когда всё убрали в сундук, и Анна самостоятельно заперла его мудрёный замок.
В развёрнутой холстине лежала тёмная-тёмная старинная икона. В оконце затейливой серебряной ризы едва угадывалось женское большеглазое лицо, отчётливо лишь виднелся тонкий палец у крохотных сомкнутых губ.
– Святая Анна. Твоя покровительница. Икона Чудотворная. Про неё тебе не раз рассказывали. Грех, конечно, Чудотворную в сундуке держать. Но такую разве на люди выставишь? Переписать надо. Тоже твоё приданое.
Иконописцев пригласили в княжеские хоромы. Мария Ярославна не решилась передать им икону: опасалась, что подменят чудотворную доску простой, потому и призвала их к себе, пусть красят на глазах.
Пришли двое: немолодой, с длинными, по плечи, седыми, будто серебряными волосами и такой же серебряной бородкой, и кудрявый русоволосый юноша, с тёмными чёрточками усов над тонкими губами. Оба невысокие, щуплые. У обоих худые, очень похожие, прекрасные лица, серые с мягким прищуром глаза, маленькие и узкие, как у девушки, кисти рук. Не спеша расположились за столом у окна.
Анна устроилась рядом с матерью на скамейке чуть поодаль, во все глаза смотрела на чудесных пришельцев. Те тоже поглядывали на неё с доброжелательным вниманием. Потом занялись иконой. Ловко и бережно сняли оклад – обнажилась тёмная, изъеденная по торцам доска. Чуть светлели нимб над ушедшим во мрак женским лицом и часть руки с удлинённым указательным пальцем.
– Да, ничего под этой многовековой грязью не угадать, – сказал негромко старший. – Письмо несомненно старое и, по-видимому, незаурядное.
– Попробуем очистить?
– Не стоит – испортим. Оставим это потомкам. Может, они искуснее нас будут.
– А если то, что сделаем мы, окажется лучше, и они не захотят счищать? – усомнился юноша, вытаскивая из берестяного короба и расставляя на столе глиняные плошечки с красками, раскладывая кисти.
– Да, задача – как узнать, что лучше, когда первое скрыто вторым? Разве что потомки наши будут насквозь видеть, – он засмеялся.
Анне тоже стало смешно, но тут же вспомнилось, няньки рассказывали, жила в Москве в старые годы колдунья, которая через закрытые глаза, чёрным платком повязанные, видела спрятанные в ларчик ключи, кольца, деньги и разную другую мелочь. За эти бесовские способности колдунью сожгли на костре.
Подсох грунт. Металлическим заострённым стержнем старший иконописец стал чертить на нём лик, всё так же ласково, чуть вопросительно поглядывая на Анну. Та, не скрывая любопытства, вся подалась к столу, прижала указательный палец к губам. Юноша тоже пристально, не таясь, посмотрел на неё и принялся красить рисунок. Ложились на доску охра, лазурь, киноварь, вспыхивали радугой.
Анне хотелось посмотреть, что же там выходит у мастеров, но она не решалась из-за матушки встать со своего места. Но вот княгиня сама направилась к столу, Анна – за ней.
– Тут работы ещё непочатый край, – останавливал их иконописец, – ещё лик не прописан как следует, да и одежда. Смотреть ещё нечего.
Но княгиня уже склонилась над иконой, загородила её от Анны широкой спиной:
– Ах, боже мой! Похожа-то как! А это не грех? Останется ли после икона чудотворной?
– Не грех! – твёрдо сказал старший иконописец. Говорил он тихо, усталым голосом, но уверенно, и его очень приятно было Анне слышать.
– В иконе важен не лик, а суть его – образ. Никто из здравствующих иконописцев не видел святых, которых ему писать приходится, и всяк их пишет по-своему. Разве ты, великая княгиня, не заметила, что даже Богоматерь на всех иконах разная? Последнюю я, к примеру, писал с внучки боярина Всеволожского.
– Как знаешь, – сказала Мария Ярославна недовольно, теперь уже потому, что иконописец упомянул её врага, и чуть подвинулась, уступая Анне место.
Красивая, но хмуроватая женщина лет тридцати в наброшенном на голову по самые брови тёмно-вишнёвом покрывале, будто повязанная вдовьим платком, приняла её любопытный взгляд и ответила на него. В её взоре Анна угадала строгость, непреклонность, скорбь и даже осуждение. Знакомое-знакомое и неузнаваемое лицо.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





































