Текст книги "Великая княгиня Рязанская"
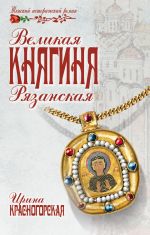
Автор книги: Ирина Красногорская
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– А ты в пшеницу зарой, не сразу найдут.
Василий не стал возражать, быстренько опустил курицу в ближайшую к постели бочку.
– А домовому что ж не оставил крылышка?
– Зачем чужого подкармливать? Наш домовой в Переяславле остался, ему и целой курицы не жалко.
Помолчали.
– Вась, ну чего ты там сидишь, холодно, – прошептала Анна в шубу.
Он не ответил.
– Вася… – и вдруг закричала: – Ой! Ой! – скатилась с постели. Этого крика не могли не услышать за дверями, но никто не проявил беспокойства.
– Что с тобой, Лисонька! – подскочил Василий, обнял жену за плечи.
– Там змей, – пролепетала она.
– Нет никого там, глупенькая, я сам каждый сноп перебирал. Это они оседают и шуршат. – Он пнул раз, другой пухлый бок постели. – Ну и стожище сложили! Видишь, нет никого?
– Боюсь там одна.
– Смешная! Ведь я с тобой. – Он снял камзол, накинул Анне на плечи. – Дай-ка разуюсь. Сапоги новые, жмут, едва выдержал в храме. Помоги снять, а? – Василий присел на приступочку. Анна ловко сдёрнула сапоги. На сей раз они были жёлтые, на высоких каблуках – серебряные подковки.
– Вот и выполнила первую обязанность – разула мужа. А теперь полезем, – Василий подсадил Анну, забрался сам, накинул на обоих шубу. Анна придвинулась к нему. Но Василий резко отстранился, словно притронулся к горячему. И тут же дядька за дверью прокричал:
– Устроились ли?
– Да! Да! Входите!
Загремели литавры, затрубили трубы, затрещали трещотки.
– Эх, Вася! Позор-то какой тебе – они же сейчас бельё смотреть будут.
Василий вскочил с постели, ринулся к дверям, но его потеснили входящие. Кто-то грохнул горшок об пол, следом разбили другой, третий, за ними пошли в ход глиняные миски. Весь пол покрылся черепками, и их принялись давить с остервенением.
Анна вдруг изо всех сил впилась зубами в указательный палец и не почувствовала боли, мазнула кровью по наволочке, простыне, рубашке, обмотала её подолом палец. А весёлый люд, передавив черепки, с радостными возгласами и шутками приблизился к постели.
Одни закружились возле неё хороводом, другие принялись гасить факелы, свахи и пробудившаяся мамка начали потрошить постель, выдернули из-под Анны простыню, углядели испачканную наволочку и довольные загоготали. И этот гогот был последним, что Анна помнила в этой ночи: она то ли затем потеряла сознание, то ли провалилась в сон.
Разбудил Василий:
– Вставай, соня, день такой погожий занимается. Потеплело. Давай улизнём на салазках покататься, пока гости спят.
Но улизнуть не пришлось. Анна не успела ответить, как в опочивальню ворвались свахи, мамка, дружки и подружки – все ряженые, принялись, шутя, будить, потом повели в баню.
В бане Анна вдруг застеснялась, хотя и мылась прежде не раз с братьями, да и с суженым, вернее мылись все порознь за невысокой перегородкой, одевались же все в одном предбаннике и зимой в снег нагишом прыгали вместе. А тут, как только её раздели, шмыгнула в тёмный угол, прикрылась шайкой, крикнула повелительно:
– Мамка, спину потри!
– Муж потрёт, – захихикала мамка, – теперь это его дело. Ну что же ты, князь, бери мочалку.
Василий, прикрываясь веником, несмело приблизился к Анне, а она неожиданно для себя сказала зло:
– Укушу!
И он с явным облегчением отпрянул:
– Видно, моё время ещё не настало, мамка! – и, бросив ей мочалку, полез на полок.
– Ох, плутовка, ох, плутовка, – корила Анну мамка, – всех перехитрить решила, но от женской доли не уйдёшь. Да и меня, старую, не просто обвести, покажи-ка палец, кабы не загноился.
После бани молодым ненадолго позволили разлучиться. Анна поспешила в свою светёлку, поскорее уложить итальянские карандаши и краски, присланные в подарок матушкой Ксенией. Сама она из-за морозов и недомогания приехать не смогла, о чём сообщила письмом, но дело, конечно, было в Юрии.
Из светёлки доносились громкие голоса: возмущённый, властный – Марии Ярославны и ещё чей-то плачущий и как будто оправдывающийся. Плачущая женщина стояла перед княгиней на коленях, спиной к вошедшей Анне, но Анна её сразу узнала – Ледра!
– Эта вот негодница вздумала удушиться в твоей комнате. Я её чудом из петли вынула. Несчастье-то какое, Господи, было бы – день свадьбы! Дрянь злобная, потаскушка! Чего ей не хватало? Жила, как сыр в масле. Говорит, разлуки с князем не может перенести, любит его, говорит, больше жизни. Шалава – сколько у неё любовий таких было. Ну и вешалась бы в конюшне или ещё где, а то ведь назло мне в твоих покоях. Что с ней, подлой, делать – убить мало, в монастырь, что ли, определить? Что скажешь, великая княгиня Рязанская?
– С собой возьму, пусть на князя стирает исподнее.
– Да ты что, девка! – изумилась Мария Ярославна и пнула Ледру, не сильно, однако. – Козу – в капусту?
– Лучше своя коза, чем чужая, – твёрдо сказала Анна.
– Дело девка говорит, – мамка стояла в открытых дверях, – побудет шалава эта близ князя, пока он в силу не войдёт, большой воли я ей не дам, не допущу.
– Иди собирайся в дорогу, – сказала Анна, – завтра на рассвете едем. – Это было первое приказание, которое отдала великая княгиня Рязанская.
Часть вторая
Сестра великого князя Московского
1
Выехали в день трёх святителей, 30 января, чтобы на Сретение быть в Переяславле.
Мамка в дороге сокрушалась, что не подождали до оттепели – мёрзла, кутала Анну, то и дело останавливала крытый возок, где они вдвоём ехали, требовала поменять в жаровне камни. По её приказу разжигали рынды большой костёр, потом загорались костры вдоль всего длинного обоза. Путники грелись, калили камни, укладывали их в грелки-жаровни и, едва обогревшись, вновь садились – кто в сани, кто на заиндевевших лошадей.
Возок заносило на поворотах, в нём было тесно, темновато, а главное – ничего не видно в слюдяные окошечки, Анна чувствовала себя лягушонкой в коробчонке. На одной из остановок не выдержала и, путаясь в длинной волчьей шубе, побежала к саням князя:
– С тобой поеду – там не видно ничего!
– А на что тебе глядеть! – буркнул князь. – Обморозишься. – Но подвинулся, поставил поближе к Анне жаровню, укрыл своим тулупом.
– Анна, Анна, куда же ты? – переполошилась мамка, неуклюже побежала к саням. – Околеешь, лицо испортишь!
– Трогай! – засмеялась Анна.
Возница не смел ослушаться – и лошади понеслись. Морозный воздух полосовал щёки, вырывалась из-под полозьев ледяная крошка – и тоже в лицо, казалось, места на нём не будет живого. Деревенели вытянутые ноги. Но только в санях ощущалась скорость, только в санях почувствовала Анна радость от быстрой езды. И когда на повороте они опасно накренились, зачерпнули ободком снег, не испугалась, а крикнула, ликуя:
– Господи, благодать-то какая!
– Не вывались! – засмеялся князь и обнял вдруг бережно и крепко. От этого нежданного объятия Анне стало нестерпимо жарко, почудилось, что заполыхала шуба – уж не от жаровни ли загорелась?
Но нет, жаровня остыла, закуржавился[28]28
Куржавиться – индеветь или создавать морозные блёстки в воздухе.
[Закрыть] тулуп, продрог, поднял воротник возница, попросил князя остановиться. А она могла бы долго ещё ехать: может, и до самого Переяславля, прижавшись к суженому, ощущая его ласковое тепло.
Потом была тёплая дымная изба. Полная горница замёрзших, усталых людей. Хлопотала мамка, устраивая постели – Анне на лавке, себе – под лавкой. Суженый решил посмотреть, как расположились в других избах, проверить в сохранности ли поклажа, богатое приданое. Анну с собой не позвал, и тут она впервые за дорогу, а ведь уже две трети её проехали, остался один перегон до Переяславля, вспомнила про Ледру: к ней наладился непутёвый! – и неожиданно для себя заплакала.
– Ну-ну, – сказал он, – слезы тебя портят, Анычка! – смахнул капельку с её носа и всё-таки ушёл. Вернулся скоро, но она, обиженная, притворилась спящей. Князь прошёл к дверям, примостился на сваленных сёдлах, где спали его рынды. А утром не сел в сани – оседлал каурого жеребца и гарцевал на нём вдоль обоза. Поравнявшись с санями Анны, крикнул:
– Держись, княгиня! – и поскакал в конец поезда, туда, где смеялись и визжали сенные девки, где ехала в розвальнях Ледра.
Встречные подводы останавливались, пропуская княжеский обоз. Ездоки с почтением кланялись крытому возку, в котором томилась одна, злясь и отчаиваясь, мамка, и совершенно не обращали внимания на сидевшую в санях куль кулём насупленную Анну. Перед городом, однако, князь пересел в сани.
Обоз как раз остановился: не мог разъехаться с таким же, а то и большим, идущим навстречу, тяжело гружённым сеном, мешками с зерном и мукой, говяжьими тушами, бочками с какой-то снедью.
– Вот это богатство! – восхитилась Анна, забывая про обиду. – И куда везут?
– Куда надо, туда и везут, – смешался князь, – да мы сейчас спросим, – и подозвал дьяка, сопровождавшего обоз.
– Так в Москву, – объяснил дьяк. – На кормление. Четыре раза в год большие обозы и помесячно малые. Восемь лет уже возим. Как тебя, князь, забрали туда, так и возим.
– Он же, почитай, уже год, как здесь!
– Так-то оно так, – согласился дьяк, – да приказа не было, чтобы не возить, и Москва требует…
– Москва требует, – передразнила Анна и вдруг крикнула грубо, властно: – А ну поворачивай! – и встала в санях, удивительно похожая в эту минуту на бабку свою, Софью Витовтовну.
Дьяк мешкал.
– Ну что стоишь? – сказал князь. – Выполняй приказ великой княгини Рязанской, да поживее.
– Поворачивай! – победным кличем разнеслось над заснеженными равнинами, над застывшей Вожей. – Поворачивай!
Молодым не дали отдохнуть с дороги – сразу повели к застолью. Шли по узким, плохо освещённым переходам, винтовым скрипучим лестницам. На ходу Анну обнимали, тискали, целовали какие-то шумные хмельные женщины. Она решила, что это новые родственницы, и терпеливо сносила их неумеренные ласки. Своими яркими румянами женщины запятнали Анне лицо, правда, она этого не заметила, кто-то осыпал колким овсом, и он попал ей за ворот. А самая старшая, встретившая молодых на пороге трапезной, вдруг метнула горсть монет. Увернувшись – летели монеты прямо в лицо, – Анна поймала пару, зажала в кулак, на всякий случай, не зная, что с ними дальше делать.
В трапезной было тесно от пирующих. И те не сразу прекратили жевать при появлении молодых, и шум стих не сразу. Анне показалось, что она непрошеной гостьей попала на чужой пир. Но молодых посадили во главе стола, заставленного яствами, которые были уже изрядно тронуты, блюда перед пирующими нечисты, и прямо на дорогой скатерти громоздились груды костей и объедков.
Заметив недоумение Анны, сидевший рядом с князем боярин сообщил с гордостью:
– Пятый день пируем, вас дожидаючись!
«Ничего себе, – подумала Анна, – сколько же они за это время княжеских припасов извели. В Москве лишь день пировали, и то матынька сокрушалась, что дорого обошлось».
– Гулять так гулять! – веселился боярин. – Рязанцы – народ щедрый: что есть в печи – на стол мечи. Эй, слуги, перемену молодым!
«Кто же это такой, что же он распоряжается, как хозяин, а великий князь сидит, словно не у себя дома?»
Принесли новые кушанья. Анне очень хотелось есть, но не пришлось: гости-хозяева насытились за пять дней, а может, и за неделю, и желали речи говорить, желали подарки дарить и целовать за них княгиню в обе щеки. Она уже не думала о еде – хотела лишь спать, спать, спать, поскорее нырнуть в сон от этих подношений, которые уже не радовали, от чужих горячих и липких губ, от тошнотворного запаха перегара, лука и чеснока. И вдруг на неё будто водой плеснули, отогнали дрёму: перед ней стоял немолодой уже татарин, говорил по-русски витиеватое приветствие и смотрел на неё так, как никто никогда прежде. И хотя Анне прежде не приходилось видеть подобного, обращённого даже на другую, взгляда, она поняла: так смотрит на женщину мужчина, когда её желает.
А татарин говорил:
– Я приготовил свои подарки, не видя тебя, великая княгиня, и теперь понимаю, что они не достойны твоей небывалой красоты. Но нечего мне сейчас прибавить к ним, кроме любимого иноходца. Прими его, лучезарная княгиня. Правда, он горяч и не привык к чужим рукам. Однако, если великий князь разрешит, я попробую приучить его к тебе.
– Нет! – воскликнул Василий. – Нет! Да и конюшни мои забиты скакунами – лишнего стойла не найдётся.
Татарин низко поклонился и, не поцеловав княгиню, отошёл на своё место.
«Смешной, – думала Анна о князе сквозь дрему, когда мамка раздевала её в опочивальне, – от иноходца отказался, посмотрел бы на него сначала».
Мамка, поворачивая её, словно куклу, вспоминала гостей и подарки, осуждала:
– Боярыня Феодосия, та, что деньги метнула (монеты как раз выпали из рубахи на ковёр), тётка князя – баба прижимистая: только рушники и подарила, да и те сурового полотна. А у татарина этого, хана Касима, губа – не дура: разглядел мою ласочку. А он, старый хрыч, толк в бабьих прелестях понимает. В гареме у него девки красивые, да и наложниц недурных, сказывают, десять сороков держит, а то и больше. Будь у тебя на палец сальца побольше, он не то что коня, табуна бы не пожалел.
Мамка ущипнула Анну за бедро. Та взвизгнула и нырнула в постель.
– И этот, с голубыми буркалами, – продолжала мамка, собирая одежду, – ну князь Пронский, тоже прикипел. Ох, мужики, мужики, и невдомёк им, что ты у меня – яблочко незрелое, позднее. – Мамка засмеялась, провела по Анниной спине горячей рукой:
– Худышка моя! С гуся вода – с Анночки худоба.
– И откуда ты, мамка, всё знаешь? – спросила Анна и вдруг заснула и уже во сне беззвучно закончила фразу и про хана Касима, и про князя Пронского с васильковыми глазами. «Васильковыми, вас… силь… Василь… А где же Василий?»
– Вставай, вставай! – будила мамка. – Ишь ты, как разоспалась на новом месте. Что снилось-то? Великий князь уже в молельной, скоро завтракать сюда придёт, а ты всё спишь.
Мамка стащила с Анны кунье одеяло, принялась, как обычно, натягивать ей на ноги шерстяные чулки. Анна недовольно брыкнулась:
– Оставь! – Мамка обращалась с нею, как с маленькой, как с княжной, а не с Великой княгиней. Мамка не пожелала заметить протеста и продолжала одевать и как ни в чём не бывало разговаривать:
– А Василий надысь приревновал тебя, ласонька, есть в конюшне пустые стойла, и нет ни одного, не единого такого справного, как у хана, жеребца. Коровы у князя хорошие, всё ещё доятся, и молоко жирное, вкусное. Нет у нас, в Москве, таких. Да и всякой иной живности полны хлева и хлевушки. Доброе хозяйство у князя – ничего не скажешь.
В дверь постучали.
– Войди! – радостно воскликнула Анна, думая, что это князь. Но вошёл его постельничий – справиться, хорошо ли спалось княгине. Таков был порядок во всех княжеских семьях (Анна о нём забыла), если князь не ночевал на княгининой половине, он посылал утром к ней здороваться постельничего, даже когда следом шёл сам. И теперь было так. Только закрылась за княжеским посланцем дверь, только Анна спросила мамку, кто такой важный сидел рядом с князем на пиру, и та ответила: «Московский наместник», – как вошёл Сам. Мамка поклонилась ему поясно и шмыгнула в дверь, и тут же в опочивальню вплыли сенные девушки, расстелили скатерть на низком столе у окна, раскрыли ставни.
– Это любимая комната покойной матери, – сказал князь, – я в ней только окна переменил. Но и со слюдяными она была светлой – угловая, весь день – солнце. И вид из окон красивый. Да ты подойди, посмотри. Вот это – Трубеж внизу. Видишь, полынья дымится, а там дальше, у бора, – Сокор гора.
– Название чудное!
– Соками, соколиками назывались в старину дозорные. Они несли на горе службу, да и сейчас на ней сторожевой пост – гора высокая, далеко с неё видать.
Анна не разглядела высокой горы – снег, тёмная полоса леса.
– А я как-то из этого окна упал, – сказал великий князь хвастливо, будто о победе над басурманами. – Да и ногу вывихнул.
Анна засмеялась:
– Как в тот раз?
– Нет, нет, действительно повис на вишне… – и вдруг замолк: в комнату вошли стольник и крайчий[29]29
Крайчий – придворный чин, в обязанности которого входило прислуживать за трапезой.
[Закрыть] пробовать кушанья.
«Господи, когда же нас вдвоём оставят?» – подумала Анна.
Бесшумно сновали служанки и слуги, что-то приносили, выносили, топили печь (и почему бы ей из сеней не топиться?). Такая же толчея была по утрам и в московском тереме, и никогда там Анна не бывала одна. Но тогда жизнь на людях её не тяготила – она просто не замечала их. Теперь же все эти невольные соглядатаи мешали. Но при них, за трапезой, она всё-таки спросила Василия:
– Зачем в нашем княжестве московский наместник?
Князь ничего не ответил, а стольник за его спиной хмыкнул, будто в последний момент ухватил за хвост чуть не сорвавшееся с губ слово.
– Так давайте его в Москву отправим, – она лукаво улыбнулась.
– А что скажет на это Иван?
– А он скажет: «Ну и молодец!» – засмеялась Анна.
И не успел Василий высказать своего мнения, она уже просила у него монету. Монеты у князя не оказалось, хотя и швыряли их накануне в молодых пригоршнями: всё слуги подобрали. Стольник подал свою – на ней была всё та же удивившая Анну мордка.
– Что за неведомая зверушка на ней?
– Кунья мордка – знак великого князя, – в один голос сказали Василий и стольник, – давши монету, он посчитал для себя возможным вступить в разговор.
– А должен быть княжеский лик! – твёрдо сказала Анна. – Как в Москве. – И менее уверенно добавила: – Как во всех самостоятельных государствах.
И опять стольник хмыкнул, а князь промолчал, но на боярском совете сказал, что намерен отправить в Москву наместника и начать печатать собственные рязанские деньги. Никто из бояр ему не возразил. Гордые рязанцы давно мечтали избавиться от наместника, да не знали, как это сделать, чтобы не прогневить могущественного соседа – то ли опекуна, то ли хозяина. И вот наконец дождались: собственный хозяин объявился и заявил Москве о своей самостоятельности, да и не только Москве, но и татарам – тоже.
Со времени татаро-монгольского владычества рязанцы пользовались ордынскими монетами. Прадеду Василия, великому князю рязанскому Олегу, удалось получить разрешение надчеканивать на них княжескую печать. На ней изображалась часть знака Рюриковичей, потомками которых были рязанские князья, а она напоминала звериную, кунью, «мордку». При отце Василия на монетах появились надписи «Князь великий Иван Фед.» или «Князь великий Иван», но «мордка» осталась. И, чеканясь в Переяславле, монеты продолжали быть лишь подражанием татарских.
На новой монете рязанцы узнали князя, да и как было не узнать его, когда на это указывала надпись «Князь великий Василе», спорили только, что на голове князя – шапка или лучезарный венец, да хотели дознаться, кто изобразил его: слух прошёл, будто чеканился княжеский лик по рисунку княгини Анны.
О рязанских нововведениях Анна написала матери и брату как о приятных семейных новостях. Не забыла сообщить о расточительности наместника: закатил пир на весь мир, да ещё обоз с харчами отправил в Москву, когда князя с княгиней с минуты на минуту в Переяславле ожидали. Похвасталась справным княжеским хозяйством, и не со слов мамки – сама успела побывать и в хлеву, и в амбарах. В первый же день всё оглядела.
Сопровождала Анну тётка князя, которая оказалась двоюродной сестрой его матери, боярыня Феодосия. Когда Анна похвалила коров, она сказала не без гордости:
– Ох, да ведь теремное хозяйство всё в моих руках. Пеклась о бедных сиротах и день, и ночь. А до торговли и ремёсел не касалась – не женская это забота – вот и захирели они без рачительного хозяина под чужим присмотром. Да бог даст, теперь наладятся.
– Лошади у нас неважные, – посокрушалась она, когда шли чистым денником – часть стойл слева и справа от прохода пустовала, может быть, обитатели их были в работе, а те, что стояли, выглядели совсем недурно, но породистых среди них не было.
– Напрасно князь от подарка отказался, – пожалела Анна.
– Ан нет! – возразила боярыня. – Подарок подарку – рознь. Не за твои красивые глаза надумал хан такого коня лишиться: братцу твоему могущественному хотел лишний раз угодить, да так, чтобы шуму было от этого побольше. За братца твоего, княгинюшка, ему надо крепко сейчас держаться: ведь на чужой земле осел. Раньше-то Городец-Мещёрский нашим, рязанским, был, а вдруг да молодой князь его обратно потребует. Да и насчёт твоей красоты небывалой он приврал, ты уж прости меня, старуху. Таких красавиц у нас в Переяславле, почитай, дюжина на каждую улицу и в Городце-Мещёрском не меньше.
«Если всё, что говорит эта противная старуха, правда, – вспыхнув, подумала Анна, – то, как тогда объяснить странный взгляд хана? И почему на меня так не смотрит Василий? Может, он так глядит на Ледру?» Впервые после приезда, вспомнив про соперницу, Анна тут же решила проверить, как та исполняет её княжеский приказ, и на удивление боярыне попросила показать, где и как у них стирают княжеское бельё.
Всё оказалось, как в Москве, – бревенчатая пристройка к бане, вмурованные в печи котлы с кипящей водой и щёлоком, деревянные чаны и ушаты, заполненные мокрым тряпьём, разложенным по цветам, смрад и полно пара. В его облаках Анна увидела Ледру. Высокая, статная, не утратившая гордой осанки и за грязной, унизительной для неё работой, она очень отличалась от других портомоек, и Анна вдруг обрадовалась: таких-то наверняка не сыщется дюжины ни на переяславских, ни на мещёрских улицах. Поклонившись вошедшим, Ледра легко подняла большущий ушат и в клубах пара поплыла с ним к выходу.
– Полоскать в озере Быстром, – пояснила боярыня.
2
И замелькали дни в Переяславле, неотличимые один от другого, как листья на берёзе, что прежде, в Москве, росла под окном Анны. Задумала она такую же посадить в Переяславле, да боярыня Феодосия воспротивилась: зачем дерево дикое, бесплодное под окнами – лучше уж яблоню посадить. Анна не посадила ничего и обиделась на тётку, тем более та и не думала уступать ей теремное хозяйство. Анна ходила за ней повсюду тенью, но везде распоряжалась боярыня, будто княгини рядом не было. Анна не знала, как избавиться от унизительной опеки, пока мамка не надоумила:
– Раньше вставай!
Чтобы раньше вставать, нужно раньше ложиться, а в кустах над Трубежом всю ночь пели соловьи. Им вторили весёлые девушки, которые жили на острове в устье Трубежа, они, счастливицы, до рассвета катались на лодках. Анна тоже вздумала покататься, уже и лодочника с острова призвала, благо остров прямо против окон, но мамка отговорила:
– Пересуды пойдут: ты, девка, на виду – потому без мужа – ни шагу.
Князь был в походе, а может, на охоте, а может, засеки проверял – князья редко дома сидят, особенно молодые.
– Федосья – баба зловредная, так и ждёт, чтобы ты оступилась, – шептала мамка, – не ко двору ты здесь пришлась.
Мамка вызнала, что боярыня другую невестку желала, пронскую княжну Ульяну: считала, что этот брак для рязанцев выгоднее – Пронское княжество всё ещё оставалось самостоятельным, а породнившимся князьям легче было бы противостоять Москве. И если бы только одна боярыня так думала – мало было в Рязанском княжестве охотников оказаться навсегда под пятой Москвы. Женитьба юного князя на москвитянке почти лишила надежд на самостоятельность. Даже на переяславском торгу судачили: поймал коварный москвитянин князя Василия на лакомую приманку – и если б только своей свободой расплачивался, а то, поди, всё княжество посулил за девку. И окружение князя во главе с его тёткой словно забыло о давнишнем сговоре, о том, что Василий стал суженым Анны в малолетстве при жизни его родителей.
С появлением Анны рязанцы ждали от Москвы новых притеснений, ждали, что москвитяне хлынут в княжество голодными волками. И хотя с ней прибыла немногочисленная свита и сразу убрался восвояси наместник, подозрения не поубавились.
– Тебе бы только годочек продержаться, – наставляла мамка, – рачительной хозяйкой себя показать, потом можно и не хлопотать особенно – наследника родишь и, даст бог, приживёшься. А пока трудись, ласонька, не покладая рук.
Анна заставила себя вставать в три часа ночи. В первый раз, чтобы опередить боярыню Феодосию, вообще не ложилась. Потом втянулась. Феодосия, поняв сразу, что шустрая москвитянка дала ей отставку, противиться не стала, лишь посоветовала:
– В усердии своём, племянница, не вздумай сразу всё перестраивать. Нынешний порядок не один год складывался. Поддерживай хотя бы его, – боярыня усмехнулась, – если сумеешь, великая княгиня.
А вскоре удалось отлучить боярыню и от теремного владычества. Вездесущая, всевидящая мамка сказала Анне, что старшая горничная ворует в трапезной соль – отсыпает украдкой в тряпицу из солонки. Мамка сама застала её. Анна призвала боярыню и предложила отправить провинившуюся на скотный двор, чтобы вразумилась там среди коров да свиней.
– Ох, да нельзя этого делать! – сокрушилась боярыня. – Уж ты прости девушку: она из хорошей родовитой семьи.
– Простить! Соль – не мёд, на цветах не соберёшь! – Так говорила её мать, когда дети или служанки опрокидывали, случалось, солонку. И эти слова всегда раздражали Анну, теперь же, заметив сходство, она продолжала в материнском духе: – Пусть позор ляжет на голову её родовитой семьи. Да была бы она простой девкой, я бы выпороть велела бесстыжую, – и понимая, что её занесло, выкрикнула: – В Москве хитникам[30]30
Хитник – вор.
[Закрыть] руки рубят!
– Дело твоё, – спокойно сказала боярыня, – но моей ноги в тереме больше не будет.
Узнав о случившемся, князь выговаривать Анне не стал и тётку не удерживал. В тереме после отъезда боярыни судачили:
– Известное дело – ночная кукушка дневную перекукует.
Анна об этих пересудах не знала.
Недели через три после отъезда боярыни начался на княжеском скотном дворе падёж. Сначала околел любимый Анной ослик. Его привезли ранней весной из Орды в подарок молодой княгине от младшей жены хана. Подарки были от всех ханских жён, но этот порадовал Анну особо: живой, потешный, ласковый, шкурка что драгоценный аксамит, золотой бубенчик на шее, золочёные копытца. Анна принялась ухаживать за ним сама, кормила из соски кобыльим молоком, которое доставлял прибывший с осликом татарин, оставила в своей опочивальне. Ослик спал у неё в ногах на огромной кровати под пологом, лил на дорогие ордынские ковры, которые подарили старшие ханские жены. За это сенные девушки невзлюбили его. Анна тискала ослика, трепала за мягкие горячие ушки, смеялась:
– Натерпелся небось от ханш – теперь подарки их метит.
Но сенных девок шутки не остановили, взбунтовались:
– Руки отрываются – сил нет! Чем ковры эти по два раза в день высушивать, выветривать, может, их вместо ослика на конюшню определить? Нарастает животина – дух тяжёлый от мочи. Да и на волю ему пора – не птичка взаперти сидеть.
Василий тоже был недоволен, что ослик в тереме живёт, за завтраком у стола крутится, морду в блюда тычет. Уступила – отправила любимица на конюшню. А через неделю вырыл татарин яму на берегу Лыбеди, положил в неё завернутого в рогожу ослика, Анна не позволила с него бубенчик снять, сама засыпала землёй – с глаз долой, прогнала татарина. Потом околела коза, которую отличала Анна за необычные рога и весёлый нрав, пали несколько самых молочных коров. Их не стали закапывать, сожгли в овраге. Окурили хлев и конюшню. Отслужили молебен в церкви Николы Старого. Но мор загулял и по конюшне. Анна с мамкой сбились с ног, дневали и ночевали на скотном дворе, не могли сыскать причину страшного бедствия. На сглаз это не было похоже, да и верить в него не хотелось обеим, тем более слух прошёл, что скотину сглазила Анна своим неусыпным вниманием, а в слободских хозяйствах всё спокойно. Князь тоже обеспокоился, осторожно предложил за завтраком:
– Может, тётку вернуть? Ты извелась совсем, Анычка, исхудала, – и вдруг шмыгнул носом, принюхиваясь. – Да и пахнешь теперь, как скотница.
Василий сказал это добро, жалеючи, но ведь не с глазу на глаз. Анна вспыхнула до слёз:
– Я переодеваюсь во всё чистое и моюсь с благовониями!
И, швырнув ложку, выскочила из-за стола и устремилась к дверям. Мчась по узким переходам, слетая с крутых лесенок, Анна с отчаянием думала, что бежит воистину куда глаза глядят – не было во всём переяславском тереме места, где бы она могла отсидеться в одиночестве. В Москве зимой скрывалась на полатях, летом – на старом дереве у Красного крыльца, и никто так и не догадался её там сыскать. На переяславском подворье росли могучие вязы, посаженные ещё при великом князе Олеге. Но – княгиня на дереве! – Анна представила, как переполошатся, что подумают обитатели Кремля, увидев её там.
Она не стала прятаться: хотела, чтобы Василий нашёл её, надеялась, побежит следом – села на видном месте, под Кремлёвской стеной, у деревянных сходней, по которым спускались к Трубежу. Её хорошо видели бабы, стирающие бельё, и рыбаки, возвращавшиеся с уловом на остров. Но всё равно она здесь была одна, и те, на реке, не мешали ей думать. А раздумывала она над обидным замечанием Василия – прав был он: драгоценные благовония оказались бессильны против стойкого запаха хлева. Он исходил не только от её одежды, но даже от волос. Так же пахло и от мамки, а ведь она была чистюля. А всё потому, что нередки стали вечера, когда они вдвоём валились в опочивальне замертво на ордынские ковры, не в силах взобраться на постель. До мытья ли им тогда было? Злющих рязанских комаров не чувствовали. Кроме скотного двора, ещё дальние огороды на заливных землях у Оки требовали хозяйского пригляда, и неблизкие покосы, и лесные пасеки. Не поощришь вовремя бортников – и улетят дикие пчёлы к соседям, в бортни[31]31
Бортни – колоды для пчёл.
[Закрыть] Солотчинского монастыря. Можно было, конечно, тиунам[32]32
Тиун – управитель.
[Закрыть] довериться, но тогда половина мёда, сказала мамка, попала бы их прожорливым домочадцам.
Узнав, что она ездила за Оку осматривать лесные угодья и лазила на бортные деревья, Василий сказал:
– Так ты скоро, княгинюшка, и до засек доберёшься, указания давать казакам начнёшь.
Тогда она не поняла, поощряет ли он её или осуждает. Теперь знала – осуждает. Даже ему не были нужны её старания, её желание сделаться настоящей хозяйкой, княгиней. А уж прочим обитателям Кремля и тем паче. И всё потому, что она – москвитянка. Но ведь и бабка Василия, Софья, дочь Дмитрия Донского, не на Рязанской земле родилась, а прабабка из Литвы прибыла. Как же они жили за этими древними дубовыми стенами? Неужели так же их неволили, также они не имели власти? И были так же одни-одинёшеньки в этом неласковом городе? Но она-то всё-таки не одна – за ней мамка. А за Василием – кто? За Василием – эти неприступные стены и эти люди, что так безучастны к ней. А что, если и он не волен в своих поступках и кто-то умный и хитрый (старый?) направляет его? Вот ведь не побежал вдогонку, не ищет…
Анна всхлипнула – никому-то она не нужна, был ослик, и того не стало. Она подумала о его прежней хозяйке, говорят, совсем девочка ещё, моложе её, а хан – старый. Как-то ей живётся? Вроде младшие жены самые любимые, но ведь есть ещё старшие. И все они делят ханскую любовь. Как хорошо, что она единственная у Василия. А Ледра? Ледра – портомойка! Анна посмотрела вниз на стирающих баб: самая высокая среди них – вроде Ледра, лупит вальком и поёт. Мерзавка – всё ей нипочём! Анна вырвала пук травы и со злостью швырнула с вала. И тут же, словно проросла из земли, возникла перед ней девчонка лет десяти-одинадцати, у неё были растрёпанные льняные волосы и чуть заспанные серые глаза.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





































