Текст книги "В горах Тигровых"
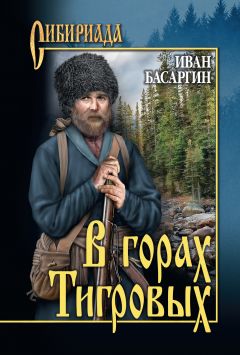
Автор книги: Иван Басаргин
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Первыми из косарей вышли Силовы, это Андрей и Феодосий. Братья ушли косить богачам. Феодосий оглянулся на ворота: а, черт с ними, за воротами не спрячешь свою нищету. Пусть уж все видят, что мы захирели.
Вышел на урядницкий покос и Иван Воров с сыном Степаном. Человек «довякий», так говорил об Иване Феодосий. На отходах он чаще молчит, грустит по своей хохотушке и красавице Харитинье. Боится, как бы не соблазнили ее богатеи, которые, как мухи, к ней тянутся. А Харитинья – баба-заводила: если кто из баб повесил нос, бросит терпкое слово, подбодрит – и, смотришь, ожила грустяга.
Сам Иван Воров, когда дома, не уступает хозяйке: весельчак, хват. Выпить не дурак, но только на чужое, говорит, мол, со своих меня рвет, голова болит, спасу нету, а вот на дармовщину – никакой болести. «Такое уж у меня нутро распаскудное…»
Иван Воров редко чешет волосы и бороду, разве что по престольным праздникам. Бородища – ком шерсти. Волосы на голове – суслон неугоенный. Светловолос, рыжебород. Двухмастный. О таких говорят, что они счастливые. Нос крючковат, лицо сухое. Походка веселая и упругая. Катится по земле, будто колобок. Часто смешит мужиков своими комедиями. Только вышел, глаз не продрал, а тут же кричат:
– Иване, а Иване, а ну, поломай комедь! – Кажется, Феодосий: знать, прошла обида на мужиков.
– Счас… Вот все сойдутся, так и поломаю.
Начали подходить мужики, Иван начал свои комедии.
Вот поп Викентий, он крадется вдоль забора, прелюбодей, от Параськи бежит. А тут попадья затаилась у калитки и ждет с поленом в руке. Все это в лицах, понятно каждому. Попадья схватила попа за бороду и давай волтузить поленом по спине.
А вот урядник: расправил бороду-мочалку, пузо вперед, ноги вкривь, осанка по чину. Заорал: «Подайте царю на пропитание! Живо, нехристи вы этакие! Лопотину, холст на ярманку! Деньги царю!» – «Как же, ваше благородие, ить у меня последние портки, их тожить на ярманку? Боле ничего нетути. Ить грешно голяком-то ходить. Поп Викентий предаст анафеме. А потом бабы узрят мою красотищу, ить не отбиться» – «Розг захотел, собачья твоя душа!» – орал урядник. Ивану Ворову ничего не оставалось, как снять штаны под смех мужиков и визг баб и бросить их воображаемому уряднику. «Пусть их царь-батюшка носить. Ниче, еще крепкие, чуток зад протерт, так царица могет и подлатать…»
Вот Трефил Зубин считает деньги, сильно слюнявит пальцы, воровато оглядывается на окно.
Вот Фома Мякинин: ведет подгулявшего золотаря, позволяет лапать и целовать свою бабу Василису, потом бьет колуном по голове, жадно выгребает золото из карманов, несет мертвеца к речке.
Ивана Ворова ненавидели богачи за представления. Поп Викентий дважды отлучал от церкви за богохульство, предавал анафеме. Но Иван хоть бы что. Любят его мужики – знать, в дело его комедии. Он пошел еще дальше: купил сыну Степану гармонику и заставил учиться играть, чтобы давать представления под музыку. Грех великий!..
Сын и отец очень похожи друг на друга, только бороды разны: у Степана пушок по лицу, у отца кочка болотная.
– Эй, Феодосий, чего это ты сегодня, как конь усталый, спотыкаешься? – скалил широкие зубы Иван.
– То и спотыкаюсь, что иду робить на вражину.
– Э, поробим, потом пивка попьем, чебачком закусим, люблю дармовое пиво.
– А хрен с квасом не любишь?
– Приелся. Чебачок, пивко, водочка – откуда и сила возьмется.
Хлопнул калиткой Ефим Жданов, закатил глаза под лоб, гнусаво запел:
– Ненавидящих и обидящих прости, боже милостливый… – Подоил козью бородку. Поправил на плечах холщовую рубаху, поддернул штаны, которые плохо держались на тощей заднице.
– Эй, Ефиме, штаны не потеряй! – хохотал Иван Воров.
Ефим беден, как и большинство осиновцев: коровенка, кляча-кобылица, все они худущи, как и сам хозяин.
– Твою бабушку, твою мать, чтоб вас всех громом расколотило! Изгои! Тати! Отберут у Ефима последнюю коровенку, еще для острастки высекут розгами! – заорал Воров, будто его шершень ужалил. Крик свой оборвал отборной матерщиной.
Ефим поперхнулся. Ведь только вчера он читал Ивану Святое Писание, там ясно сказано, что ждет грешника на том свете. Ефим дал обет, что костьми ляжет, но спасет душу заблудшего Ивана, вернет его в лоно божье.
– Окстись, Иване, ить смрадно в аду-то. Говорю тебе, а ты все свое тянешь, держи тело в посте, а беса от ся гони молитвой.
– Держу. Додержался, что вчерась выгнала Параська, слаб стал, мало духом, так и телом. Без блудных баб я никто. А с такой едомы к бабам не ходи, тем паче к Любке, враз в гроб загонит такая кобылища.
– Дурак ты, Иване, заглавная жисть на том свете. Там рай…
– Пошел ты в ж… со своим раем, дай здеся пожить в сладость.
– Срамник, нечестивец, спелись с Феодосием, предадим анафеме, в кострище бросим.
– А я на вашу анафему чихать хотел! Эх, Ефим, Ефим, ну какая жисть без баб? А? Ты ить своих сопляков не пальцем же исделал?
– Но ить то с законной подружней, а ты с блудницами.
– А что же делать вдовам и невенчанным? Ась? Не слышу, громче скажи?
– Дэк ить…
– Вот те и дэк ить. Мужик на то и рожден, чтобыть всех жалеть. Знамо, свою больше, чужих чуток меньше.
– Бога побойся, сына посрамись!
– Хэ, сына, он тоже уже бывал у Любки, пришел домой, ажио под глазами сине.
– Тятя, ну…
– Ладно, нишкни, дело земное. Женишься – и не будешь знать, с какого конца бабу распочать. Вот на то и создал бог вдовушек-то.
– Подумай, Иване, о старости, ить она не за горами, а за плечами.
– О старости думай, а о бабах не забывай. Бог тоже был хорош. Когда явился на землю в образе Христа, блудил ладно. Магдалину на руках носил. Богородица тоже хороша, сама в девках зачала, да еще непорочная. А мы ее во святые. От Святого Духа… Ну потеха!
– Зрю, гореть тебе в геенне огненной! Будешь лизать блудливым языком сковороды. Изыди, сатано!
– Ладно, Иване, не кощунствуй! Сегодня во мне столько зла, что чую – натворю беды, могу дать тебе по сопатке! – сорвался ни с чего Феодосий – Я от бога не отрекся, просто мы с ним поссорились. Одно знаю, что не сидеть мне в раю с царями, не сдюжат они мужицкого пота. Однако не лайся!
– Не лаюсь, а просто говорю. Ефим сделал из сына попа, из Андрея – второго, оба боятся баб как огня. Боятся, а сами нет-нет да под подол заглянут…
Митяй прервал ссору. Мужики увидели Митяя, закричали:
– Митяй, скорей сюда!
– Вот идет, не идет, а пишет.
Косари подождали Митяя. Митяй шел, будто подкрадывался. Ростом в сажень, но тонкущий, поэтому гнулся, горбился, ноги тоже подгибались в коленях, словно им тяжело было нести Митяя.
Но Митяем Плетеневым гордилась вся Осиновка. Не в каждой деревне был такой Митяй. Сельчане помнили все, что случилось за эти годы с Митяем. «А помнишь, на Ивана Купалу Митяя бодал зубинский бугай?» – «Помню, тогда еще дочка Фомы Мякинина утонула». – «На Мануила его девки крапивой пострекали, потому как подглядывал за их купанием».
По Митяю равняли свой достаток, свои неудачи, просто людей: «Ты идешь, как Митяй»; «Ты смешной, как Митяй»; «Ты жрешь за троих, как Митяй»; «Не везет, как Митяю»; «Ты беден, как Митяй».
Пришлого человека узнать было просто, стоило спросить его о Митяе: если не знает, значит – дальний. А Митяя знали и в волости и по обоим берегам Камы. Его любили во многих деревнях – в Больших и Малых Гальянах, Мурашах, Комарах, Лаптях.
– Откель, мужик?
– Из Заполья.
– Знаешь ли Митяя?
– Какого Митяя?
– Э, ну-ка слазь, бегляк ты, может, каторжный, хлобыстнешь кистенем по затылку и был таков. Слазь, слазь, не наш.
Потом добавилось еще одно сравнение: «Ты умер, как Митяй».
Однажды вышли на медвежью охоту Феодосий, Иван Воров, Ефим Пятышин да Митяй. Обложили зверя. В руках рогатины, за поясами топоры. Забили елкой пролаз и давай шуровать. Медведь проснулся, завозился, а потом с ревом выпихнул елку и бросился вон. Но на пути сбил Митяя, как трухлявый пень. Митяй сломался вдвое и рухнул на снег. Упал и ноги вытянул. Умер. Постояли мужики, почесали парные затылки, охотники-то они были плевые, начали гоношить носилки. Какая жалость, не уберегли деревенскую гордость. Заест их Марфа, проклянут сельчане. Но делать нечего, надо выносить усопшего. А далеко, а снег выше колен. Эко не вовремя испустил дух, да и не у места.
– Сердце оказалось хлипким. Медведь только плечом тронул, а он… Быдто букашка. М-да! – жалел Иван Митяя.
– Не отпущала его Марфа-то, будто ее сердце чуяло беду. Будет нам!..
Сгоношили носилки, несут Митяя, тонут в снегу, взмокли. Хоть и худ Митяй, а оказался тяжелым непомерно. Внесли в деревню. Давайте, мол, передохнем перед Марфиной бурей-то да погорюем чуток. А тут Митяй открыл глаза и говорит:
– Вот что, братия, умер я – это точно, но прошу вас, не бросайте Марфу, пусть ее Иван второй женой назовет…
Мужики даже присели, глаза навыкат, а Митяй ровно продолжает:
– Мы из чистых пермяков, у нас можно две женки иметь. Марфу Иван знает. Правда, его Харитинья – красавица, а моя – страхолюдина, но ниче. Харитинья хрупка, а моя одна плуг потянет. Сдружатся.
Мужики чуть подались от Митяя.
– Похороните меня на берегу речки, потому как любил я за девками подглядывать. Хороши они, че говорить. Хочу и с того света их прелестность видеть. Хошь и стрекали они меня крапивой, но я не в обиде. На Марфу я тоже не в обиде, но рад, что хоть на том свете отдохну в тиши и спокойствии. Марфа ить кобылища, замурыжила меня. Ночами маяла, днями покоя не было. Зверь, а не баба – по бабской части. Медведь супротив нее ангелочком покажется.
Первым бросился в бега Ефим, только лапти замелькали. За ним Иван: правда, перед тем как дать тягу, он спросил Митяя:
– А рази мертвые говорят?
– Говорят, потому как я, Митяй, вона вижу ангелов, архангелов, а дьявол манит своей лапищей меня в ад. Не хочу в ад, жарко там, поди. Так, Иване, ты уж сделай все честь по чести.
Но Иван уже не слышал Митяя. И верно, от Митяя всего можно ожидать. Остался при Митяе Феодосий. Наклонился и говорит:
– Как же понимать тебя, Митяй? Мертвый и говоришь?
– А как хошь, так и понимай.
– М-да! Ну и Митяй. Вставай-ка да пошли домой, хватит тебе прикидываться-то. Ить мы рады, что ты жив. Жив ты, Митяй. Ну вставай же.
– Ежели просишь, могу и встать. Жалко мне что-то стало Марфу. Ить слезой изойдет. Любит она меня страсть как!
Марфа любила Митяя. Но женился не он, а она его на себе женила. Поймала в переулке, сгребла в беремя и сказала:
– Завтра будем венчаться.
– Это для ча же? – удивился Митяй.
– Будешь моим мужем.
– Не хочу.
– Тогда я тебе все косточки переломаю и собакам брошу. Внял? Так что не шуми, руками не маши, завтра поведешь меня под венец.
Пришли в церковь, все как надо, на невесте фата. Поп обвел их вокруг аналоя и спрашивает: «По любви ли берешь в жены рабу божию Марфу?» – «А ты попробуй ее не взять, живо хребет-то сломает. Сказала – надо жениться, вот и женюсь. Венчай, батюшка, чего уж там, баба при силе, а я хлипок, все где заступится».
Над Митяем еще ко всему будто божье проклятие висело: если потравят кони овес, то обязательно у Митяя, если пооборвут в саду яблоки, то тоже у Митяя…
Митяй еще гордился очками немецкой работы, которые сидели на его куличьем носу. Марфа сама выписала из Германии. Но очки он носит не как все люди: один окуляр висит влево, второй вправо или на самом кончике носа.
Митяй с широкой улыбкой на тонких губах подошел к покосчикам.
– Митяй, как Марфа? – подмигнул Иван.
– Марфе че, заездила, едва ноги волоку. Все одно, грит, на урядницком покосе будешь робить, сила, мол, там не для ча, хоть разок меня ублажишь.
– Кормила-то чем? – жалостливо спросил Иван.
– Репой. Сокрушалась, что сала нету, а без сала кака сила? Вся мужицкая сила в сале.
– Оно так, – сдерживая смех, продолжил Иван. – С травы и сила травная. Сало есть сало. Сегодня била аль нет?
– Нет, жалела, дажить волосы расчесала. Ить она от любви меня бьет. Но только больнее ее кулакам, чем моему телу.
Хохот, как обвал с гор, сыпанул на восходе солнца, из-за заборов потянулись бабские головы: любопытно, с чего мужики ржут, как кони? А, Митяй! Все понятно, можно додаивать свою буренку.
Смех смехом, а на душе тягостно, душу точат черви.
– М-да, смеемся, плакать бы не пришлось, голодуха висит над нами, как небо, – проворчал Феодосий. Его сегодня Митяево ребячество не развеселило.
– Дела плохи, последние штаны сымут, голяком будем ходить, фиговым листом грех свой прикроем. Только игде достать те листы? – посерьезнел и Иван. – Растут только в жарких странах, у нас нетути.
– Боже, помилуй и отпусти грехи Феодосию и Ивану! – закатил серые глаза Ефим.
– Хватит, не юродствуй, надоело! – Крутнул на плече косу Феодосий, еще сильнее насупил брови-лишайники. По лицу сполохи, кипень в сердце. Быть буре. Из рос собирается она, сколготится в тучи, не унять грозы.
Урядник ждал мужиков на покосе, хмуро бросил:
– Вона уже солнышко всходит, а вы все прохлаждаетесь! Ясно, не свой покос, потому тянетесь. Чтобы за день весь луг скосили! – Вскочил на коня, хотел уехать.
– Не понятственно, мы что, твои работники аль полюбовные косари? – вспыхнул Феодосий. – Рази мы обязаны тебе косить?
– Обязаны ли? Вот об этом спросите себя, – усмехнулся урядник.
– Ах так, тогда мы не обязаны тебе косить! А раз не обязаны, то и не будем! – загремел Феодосий.
– Терпящие – в рай, а нетерпящие – в ад, – закатил глаза Ефим.
– Цыц! Не будем! Хватит! Сел нам на шею и погоняешь!
Над заливными лугами туман, с голубинкой, не сочный, какой-то квелый. Но травы здесь сочные, так и просятся на косу. Ждут косарей. Но косари стоят у кромки луга и молчат. Эх, будь это свое, тогда бы зазвенели косы с радостью, места бы не хватило широкому размаху! Молчит Феодосий. А Митяй, он везде Митяй, бросил свой латаный-перелатаный армячишко, упал на него и тут же захрапел.
– Начинайте с богом косить! – тихо проговорил урядник.
– Чевой-то не хочется, ваше скабродие! Вон свои травы на корню сохнут, а ваши еще могут подождать, – в раздумье сказал Феодосий.
– Это, эт что? Бунт?
– Какой там бунт, просто надоело, господин хороший, задарма травы косить. Неделю тут провошкаемся, а у других можно заробить гривну серебром. Деньга, надо думать, немалая. Платите, тогда и почнем. Вы не по закону творите!
У мужиков глаза навыкат, мечется в них страх. Такое сказать уряднику! Царю и богу на этой земле!
– Ты что сказал, сермяжья твоя душа? Повтори!
– Могу и повторить, ваше скабродие, что за спаси Христос косить не будем!
– Шутит он. Чего уж там, покосим, – снял с плеча косу Ефим.
– Знамо, покосим, а его благородие снова даст нам слабинку, – поддержали Ефима мужики, но не дружно.
– Каждый год косим, уже привыкшие.
– А нонче не будем! – гаркнул Феодосий. – Хватит задурняк горб ломить. Сломан и без того. Пошли по домам, свои покосы ждут.
Большая половина мужиков встала на сторону Феодосия. Одни кричали:
– Покосим, чего уж там, ваше благородие!
– Не будем косить, а кто почнет, тому головы косами снесем!
Проснулся от крика Митяй, вскочил и закричал:
– Не будем! Пора и честь знать!
– Ну, ежли Митяй сказал, что не будем, тогда пошли, мужики! Все! Звиняйте, ваше скабродие!
– Ах так! Ну погодите, вы увидите у меня кузькину мать! – взъярился урядник, хлестнул плетью коня и ускакал в деревню.
– Ну, теперича держитесь, мужики, съест нас урядник.
– Пошли на свои покосы. От всех чертей не открестишься.
Слух, что осиновские мужики отказались работать на урядника, быстро расползся по деревням. Урядник, мужики звали его уважительно Фролыч, бросился в одну деревню, другую, но везде получал отказ. Не прямо в лоб, а с мужицкой хитринкой: «Оно бы и надо покосить, люди свои, да еще наши травы не тронуты. Ить тут такое дело-то, спина третьеводни разболелась и досе не отпускает. Да и денег на подать надо заробить. А намедни баба сказала, что рожать будет, не бросишь. Жду, кто будет – бычок аль телочка. Оно конечно, косить бы надо, перестоят травы, сено будет не так духовитое. Свои уже перестаивают. Может, чайку изопьете, ваше благородие? Не побрезгуйте. Божий у нас чай-то».
Это уже был молчаливый бунт. Урядник метался, кипел злобой, но ничего не мог поделать с мужиками. Пришлось нанимать работников со стороны. Грозил: «Ну, погоди, Силов. Не я буду, если не упеку тебя в Сибирь!..»
7
А солнце палило и палило иссушенную землю. В небе ни облачка. Жаром курились соломенные крыши, одна искра – и сгорит деревня. По улочкам бродили кудлатые собаки, похожие на осиновских мужиков: взлохмаченностью, независимостью, валкой походкой, собачьим достоинством, а уж злобой – это точно. А терпеливы были те собаки, дальше некуда: бей в три палки – не заскулит, только будет стараться броситься обидчику на грудь, чтобы хрип перехватить. Собак осиновских, как и мужиков, не тронь – все за одного и один за всех.
Не помнят экзекуторы, чтобы под розгами хоть один осиновец застонал и пощады запросил, только покряхтывает, бывало, будто в печи парится. Недаром говорили мужики соседних деревень, мол, один осиновец трех сосновцев стоит…
Но все же собакам жилось лучше и легче, чем мужикам: хоть они и голоднющие бродили по деревне, могли целый день валяться в пыли, ловить блох, в речке искупаться, когда от жары невмоготу. Мужик же и этого лишен. И не понять было, для чего держат мужики этих собак. На охоту они уже давно не ходят, сторожить нечего. Может быть, лишний раз облают урядника, помещика – и то радость. Самим-то мужикам «лаять» опасно, а собакам можно, на то они и собаки…
Силовы, Воровы, Ждановы с давних времен косили травы сообща, Митяй тоже с ними, не оставишь, а потом, отец, умирая, просил Феодосия не оставлять сына одного. Да и покос у них общий, не стали делиться. Чего уж там, у всех по лошаденке да коровенке. А у Силовых и лошади не осталось. Лишнее сено, когда были хорошие травы, продавали, а деньги делили честно.
Косари гребли сено и метали стога. Все бабы на греби, только Марфа-богатырша подает сено на стога. Навильник – и нет полкопны. Митяй в гребщиках. Хотя у Митяя силы тоже не занимать, несмотря на его худобу, но Марфа не пускала его на тяжелую работу, говорила: «Надорвется, тогда что мне делать без Митяя?» А два года назад, когда все село секли за недоимки, то вместо Митяя легла на лавку Марфа и сказала: «За Митяя, он у меня хлипкий». Экзекуторы старались во всю силу, ладно расписали широченный зад Марфы. Марфа поднялась с лавки, одернула сарафан, бросила: «За-ради любви терплю такие муки, Митяй. Слышишь?»
Митяй плакал, обнимал и целовал Марфу, так в обнимку и ушли домой.
Работа шла дружно, споро. Стога росли, как на опаре. Это вам не вятичи, когда семеро на возу, а один внизу и кричат еще – не заваливай!
Время к полудню. Травная сила на исходе, пора обедать.
– Бабы, кончай грести, заваривай хлебово! – крикнул Феодосий.
Воткнули бабы черенки граблей в землю и пошли к табору, девки пусть гребут. Их в этой ватаге за два десятка. Парни почти все ушли на заработки. Бабы на скорую руку заварили борщ из лебеды в огромном котле, опустили кусочек сала, все мясным будет пахнуть, нарезали черного, как земля, хлеба, тоже больше, чем наполовину с травой и корой сосновой, стали звать мужиков.
– Надо бы еще один стожок подметать, Феодосий, ить число-то у нас бесовское, тринадцать, – боязливо заговорил Ефим.
– Пустое, небо синь синью, дождя не жди, а чего еще нам бояться?
– Всякое могет быть.
– Не каркай! Пошли полдничать. Будя себя стращать.
Пермяки – народ суеверный: кошка ли дорогу перебежит, собака ли завоет, курица ли петухом запоет – жди беды. А уж числа тринадцать боялись – чертова дюжина.
Вон и Андрей пересчитал стога, подошел к отцу и сказал:
– Тятя, а ить стогов-то тринадцать. Может, еще один распочать? Не надо беса дразнить.
– Ничего, сынок, тринадцать ли, двенадцать ли, какое дело. Пошли есть.
Андрей замолчал, спорить с отцом – тоже грех немалый. Дометать бы к ночи стога и убежать к Варьке. Отец упреждал сына: мол, орешек не по зубам. Зубин не отдаст Варьку за тя.
Зубин наметил в зятья Лариона Мякинина. Однолетки они с Андреем. Но таких, как он, девки не любят: руки почти до колен, рыжий, сутулый, челюсть тяжелая, лоб покатый, глаза маленькие, как у кабана, нос по-утиному плоский. Но Зубин подбадривал Лариона: мол, мужику красота не надобна, были бы сила и деньги. Бабы таких любят. А деньги у Мякининых водились, кубышки с золотом далеко были спрятаны. На дворе три десятка коней, столько же коров, сотня десятин пахотной земли да покосов: Всего не пересчитаешь в чужом кармане, однако можно было прикинуть, как туго набита мошна у Фомы Мякинина.
Ларион чуждался Варьки. Возиться с девкой? На кой ляд? Бегал к приветливым лихоимицам Параське и Любке. Обе любили Лариона – сильного и жадного в любви. Но больше нравилось ему ходить к Любке, когда дома не было урядника. Любка – красавица, первая красавица на деревне. Она говорила Лариону: «Чем страшней мужик, тем больше в нем силы, потому как не с кем ему ее истратить…»
Ларион чувствовал правоту Любкиных слов. Сам страшен – избегал чужой красоты. Андрея люто ненавидел. Но ненависть свою глубоко прятал. Понимал мужик, что женись он на Варьке, да при их достатке, не удержать Варьку в узде, заблудит, как Любка. И нашел в себе силы, чтобы сказать Варе: «Ты, девка, меня не боись. Не женюсь я на тебе, шибко красивущая. Не полюбишь, как жить будем?» Варя ответила: «Ежли поженят силой нас, то утоплюсь, а с таким страхолюдом жить не буду. На улице с тобой не покажусь» – «Спасибо за правду, живи, милуйся с этим лапотником. Мне есть кого любить, и есть кто любит меня. Прощевай!»
Так и благословил Ларион Варьку на добрую, тихую любовь. Верить или не верить Лариону?
Об этом думали Варя и Андрей. Ведь согласись он жениться на Варьке – женится. Зубин прикажет Варе быть женой Лариона, и никто его не отговорит.
Стоит Андрей посредине покоса, а перед глазами Варя. Вот берет он ее на руки и несет в сгепь. Там он под вскрики ночи и шепот трав будет с ней до зари миловаться. От этого под сердцем тепло, на душе радостно.
Варя рослая, гибкая, как лозинка прибрежная, а глазищи будто у дикой оленухи, голубее неба, чище уральских озер. Молчаливый смех в тех глазах затаился. А засмеется, будто золото сыпанет по избе. Собирай, не ленись, всем хватит. Песню запоет – вся деревня слушает. А когда начнет миловаться и целовать – голова кругом, будто жбан медовухи выпил. Упадет на руки, пойманным стрепетом забьется. Губы – пьявки. Руки – змеи. Вся на виду, вся в горении. Но не смеет Андрей впасть в грех. Только после венца…
Бывает, что и поддастся порыву Вари – забыв бога, все на свете, зароется в ее душистые волосы, поцелуями защекочет шею. Трогает руками сильное тело, трепетное, податливое. Бесовское томление и духота степная. Но стоит ему вспомнить Софкину любовь, как он тут же приходит в себя. Опустит Варю в травы, притихнет, замкнется. Обидно Варе, что недоласкал, недомиловал. Бросит злое слово:
– Все знают, как ты соблазнил Софку. Меня тоже хочешь соблазнить.
– Не права, Варя, сама чуть до греха не довела.
– Иди к Софке, она ждет тебя, глазищами рыскает, как голодная волчица. Или сбегай к девкам Мякининым, тоже с тебя глаз не спускают.
Девки у Мякинина – перестарки. Не берут их парни, на Лариона похожи. Кто такую возьмет? Находились женихи, ради приданого готовы были взять, но Фома начал нос воротить, мол, рвань, лапотники, а потому не пара. Гнал в три шеи. Теперь бы рад выдать своих блудниц за любого, но уже никто не берет.
Пойдут, бывало, в церковь Мякинины, впереди Фома Сергеич кривоного семенит, за ним дородная Василиса, следом девки; Ларион не ходил с семьей. Девки нарядные, нахально крутят ягодицами, совращают мужиков. Похохатывают мужики, крякают, судят, какая из них норовиста в любви, которая – холодна. Эти девки не натружают работой свои руки, вяжут кружева, шьют, бездельничают, как сказали бы в деревне. А между делом одного за другим приносят в подолах младенцев. Все от прохожих молодцов. Рычит и смертным боем бьет Фома своих дочерей, но унять блуд не может.
Андрей пристыженно сожмется в травах, уставит большие глаза в даль ночи и надолго замолчит. Неправда его больно ранит. Варя протянет руку и начнет тихо наматывать его кудряшки на палец. Извиняется за сказанное. Примиренные, задремлют под скрип цикад, крик ночных птиц, с росой проснутся…
У пермяков такое допустимо, когда девка может вернуться на рассвете, лишь бы работала во всю силу, не дремала бы на покосе. А если приспит мальца от безвестного молодца, то все это богово, все от бога. Поэтому Варя могла свободно встречаться с Андреем, пока об этом Зубин не узнал.
Согласился с отцом Андрей, пусть будет по его слову, лишь бы не нудиться еще одну ночь без Вари. Готов работать и без обеда.
Все сошлись к табору. Встали на молитву, повернув лица на восход солнца.
– Богородица дева, радуйся, благодатная Мария… – запричитал Ефим, остальные ему вторили.
Молились с усердием. Иван Воров назло Ефиму крестился лениво. После молитвы Ефим заворчал: – Завтра же скажу попу, пусть снова наложит на тебя епитимью.
– Десятый раз пужаешь меня попом. Так знай, что сегодня поп пребывает в болести, ему Ларька хребет колом перебил. Параську не поделили. Кровями мочится, ноги отнялись. Отходил старый кобель по бабам. Видел я, как он блюдет тайну исповеди, сам шепчет молитву, рука же под подол лезет.
Хмурится Феодосий, грозился он выгнать Параську из деревни; хоть он не староста и не поп, но по его слову выгнали бы! Но куда? Ей тоже, вдовушке, хлеб есть надо, жить надо. Вот и принимает, кто побогаче. Любке и мякининским девкам обещал завязать подолы на головах и голяком пустить по деревне, но все недосуг. А жизнь шла своим чередом.
– Мы и без попа можем сделать тебе судилище, каленым железом грехи изгоним, очистим твою душу от скверны.
– Слушай, Ефим, ты грамотей средь нас, многажды читал скитское покаяние, там написано: «Отпусти мне, боже, беззакония моя: зависть, сребролюбие, славолюбие, гордость и непокорение…» Скажи, что у меня есть: серебро, славолюбие? Неужли ты не поймешь, что это ладно для того, кто правит нами. Не быть гордым, быть покорным. А я мужик, я рожден быть гордым и непокорным. Ты хочешь исделать меня другим? Не выйдет, Ефим, потому нишкни и не пужай меня. Могу осерчать и выдрать бороденку.
– Тяжко спорить с тобой, зловредный ты мужик.
– Не зли, Иване, раба Ефима, – притворно запричитала Харитинья, повела глазами, а в них задор, смешинка. – Пропадем мы тогда, ить спать вместях не дадут, у попадьи в подполье будут держать, – дрогнули брови-дуги, потянулась гибким телом.
Крякнул Ефим от греховных мыслей, хохотнул Иван, усмехнулся Феодосий. Харитинья, когда надо, любого в соблазн введет, и потянется за ней мужик, как бычок на поводке. Зубин большие деньги предлагает за короткую любовь. На то же подбивает и Мякинин. Но Харитинья горазда подразнить мужиков, а дальше не подпустит.
– Придется бегать к Зубину аль, на худой конец, к Фоме – рыжему. Не люблю рыжих, а что делать?
– Будя молоть языком, – оборвал Феодосий. – Нашли время чесать языки, нужда в дугу гнет, а они про блуд. Кормите.
Ели шумно, ели долго, набивали животы травой. Запили квасом. Жить можно. Не грех и подремать чуток, кто горазд, а кто хочет говорить о деле – пусть говорит.
– Есть у меня думка шальная, бродяга ту думку заронил, душу сволновал. Бежать нам надо в Сибирь и еще за Сибирь. Там где-то есть Беловодское царство, вольные земли, вольные люди. Земли пустошные, ничейные, знать, наши, мужицкие. Ни царя там, ни разных живоглотов.
– Хэ, спятил, старик, – хохотнула Меланья, – в Сибирь за долги гонят, а он сам готов бежать по сказу бродяги.
– А че, пошли, Меланья, может, хошь раз наемся досыта, – подмигнула Харитинья.
– Я хошь завтра готов чапать, – потянулся Митяй.
– Сиди уж, по дороге свои мосталыги растеряешь, – цыкнула Марфа.
– И все ж подумать надо, мужики и бабы, здесь дожили уже до ручки.
Феодосий долго рассказывал о неведомом царстве, своего добавил, и выходило так, что хоть сейчас снимайся и убегай в ту страну.
– Антиресно, – крутнул лохматой головой Иван.
– Может, и антиресно, но рази можно оторваться от родной земли? Не было бы солоно? Как здесь ни тяжко, но свой дом, свои дороги. Не подходит! – взвился Ефим. Было с чего.
– А может быть, подходит? Подумать надо, – подала свой голос Марфа. – Рази здесь мы живем? Не живем, а сырой головешкой шаем.
– Пошли, Ефиме, доделаем мы тебя нашим святым, – захохотала Харитинья.
– Можно и здесь стать святым, молись и бога не гневи.
– Нет, Ефиме, здесь тебе не быть святым, здесь палку брось и в святого попадешь.
На сук села сорока. И ну трещать, свистеть, мешать душевному разговору.
– Киш! Затараторила! Шугните ее, парнишки! – крикнул Феодосий.
А парнишкам того и надо. Надоели им разговоры о нужде, о голоде, бросились гонять сороку. Митяй тоже не отстал. Сорока, разморенная жарой, метнулась в кусты, затем в лесок, на покос. Не отстает ватага. Загоняли сороку, упала в куст. Митяй выхватил ее из куста, шепнул мальцу:
– Сбегай принеси просмоленную веревку, мы ей счас комедь устроим.
Привязали к лапкам кусок веревки, подожгли и под свист, улюлюканье отпустили сороку. И понесла она за собой огонь, понесла пламя. До такого мог додуматься тоже только Митяй. Кругом сушь, одной искры хватит, чтобы сжечь всю округу.
– Ехать надо, – доказывал Феодосий – Терять нам нече.
– Нищему пожар не страшен, подпоясался и пошел дальше.
– А наших сопляков с собой возьмем али здесь оставим? – похохатывает Харитинья, не верит она в эти задумки. Осиновского мужика сковырнуть с места, от своей земли оторвать? Нет. Вперед Кама вспять потечет, чем пермяк свой угол оставит.
– Коров тоже с собой возьмем, привяжем к хвостам сено и пошли искать то царство, – улыбается Меланья.
– Нишкни! – насупился Феодосий.
– Да подите вы, пустомели. Затеяли пустое, людям мозга засоряете, – отмахнулась от мужа Меланья.
Харитинья знала мечту Ивана – разбогатеть. Но не получалось: ловил рыбу – прогорел, плавил лес – денег не прибавилось, а на углежогстве и вовсе нищим стал. Ведь копейка к копейке липнет, а рубль к рублю, а у Ивана все богатство, что полон дом детворы. Вот если бы Иван вышел на разбойную дорогу, как это сделал когда-то Фома, то можно было бы и разбогатеть. Честный человек богачом не станет: либо разбой, либо обман. А у Ивана – душа чижика, не приемлет разбоя, а обмана с детства не терпел. Такому не разбогатеть.
– Меланья, ты не серди меня, я ить правда той землей живу в думах и во снах.
– Ну и живи, без нас-то вы все равно не трекнетесь. Мелете языками, как псы хвостами, – бросила Харитинья и прилегла на сено.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































