Текст книги "В горах Тигровых"
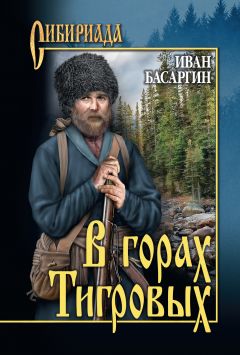
Автор книги: Иван Басаргин
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– А как ты, Марфа, про то думаешь? Ты голова семьи, Митяй… – Феодосий не договорил, поперхнулся, глаза полезли из орбит, вскочил, закричал: – Караул! Горим!
Что ни говори, а веселущий человек Митяй. Даже когда сорока села на первый стог, с горящей веревкой за хвостом, он вместе с мальчишками хохотал, приседая на журавлиных ногах, бил себя по бедрам. Только дикий крик Феодосия оборвал его смех и хохот.
Сорока сорвалась с пылающего стога, полетела на другой стог. А стога выстроились рядком возле леска, знай поджигай. А их тринадцать.
И загудел огонь, заревели люди, заржали кони. Тугое пламя метнулось в небо, туда же искры, черный дым. К стогам на двадцать сажен не подступишься. Те, что уже горят, – не спасти. Надо спасать остальные стога. Но огонь полыхнул по засохшей траве, перекинулся на лес, охватил кольцом еще целые стога…
На помощь бежали соседи, ведь огонь мог перекинуться и на их покосы. Бьют, сбивают огонь ветками, но они горят, армяками, чем только можно. Но… Загорелась даже земля. Теперь уже горели все стога. Однако общими силами удалось укротить огонь, что ходко бежал по травам. Стога спасать и думать нечего.
Крики, стоны, бабий плач. Ефим подскочил к Ивану, схватил его за бороду, дико закричал:
– Вот где твое богохульство отрыгнулось! Антихрист! Бейте его! – и первым ударил в скулу.
Иван не остался в долгу, хрястнул Ефима в челюсть, тот откатился на горелые травы. На Ивана бросился сын Ефима, Роман. Тоже был сбит. Но вскочил, а тут на Романа метнулся Степан Воров. Куча-мала. Горшковы, Пятышины, Пырковы бросились разнимать драчунов, но, получив по удару, тоже влезли в драку. Дрались за прошлые обиды, дрались, что не могут вырваться из нужды. А стога догорали. Пятышины взяли сторону Воровых, Пырковы пошли за Ждановых. Втянули в эту драку и Андрея. Все смешалось. Дрались бабы, таскали друг друга за волосы, дрались мальчишки, они тоже что-то не поделили. Гудел пожарище.
Марфа подозвала Митяя, сняла с него осторожно очки, в очках она его никогда не била, слишком дорогая вещь, можно и разбить, начала бить и приговаривать:
– Охлопень! Это ты мальчишек надоумил веревку поджечь! Ты сжег сена! Ты в разор нас пустил! – Била ритмично, наотмашь, будто вальком по белью. Голова Митяя моталась из стороны в сторону, не кричал, не сопротивлялся, а только мычал. Шибко била.
И вдруг крик:
– Митяй поджег сена! Пошли бить Митяя! Бить Митяя!
От крика драка распалась, хотя кое-кто напоследок дернул «недруга» за бороду, но все повернулись в сторону Митяя. Затем бросились к нему. Но Марфа загородила собой Митяя, раскинула руки, закричала:
– Не подходи! Зашибу! Не дам забижать Митяя! Всех в узел свяжу!
Крик не остановил, пришлось защищать Митяя силой: схватила за руку Ивана Ворова, полетел в сторону, будто пушинка, подвернулся Ефим, того поймала за ногу, на десять саженей отлетел. И пошла воевать. Кого хватит кулаком – волчком завертится, а кого сведет лбами – искры из глаз. Митяй за спиной, да еще подсказывает, кто откуда заходит…
Феодосий не дрался. Он стоял на угорье и смотрел куда-то за огонь, за дымы, еще более взлохмаченный, пламенел на солнце, на огне, щерил зубы, ноздри трепетали. Ветер надул его рубашку колоколом, сейчас улетит старик.
Драка, как и огонь, начала затухать. И вдруг над этим затишьем повис мощный голос Феодосия:
– Гроба мать! Смотрите, видение зрю! Вона на небеси показалось!
Люди вздрогнули и замерли, вскинули побитые лица в небо, зажимая расквашенные носы, смотрели туда, куда показывал Феодосий.
А в небе действительно плясали Иисус Христос и черт с рожками и хвостом, такие коленца выделывали, что любому плясуну на зависть.
Мираж был настолько четким, видимым, что казалось, завис над покосами. Ахнули люди, кто-то упал ниц, закрыл голову руками, другие бросились в деревню. Ефим Жданов часто-часто крестился, читал молитвы.
– Зрите, люди! – гремел Феодосий – Христос с дьяволом «Барыню» отплясывают. Вот как наш бог радеет о людях! Вот почему нет на земле радости и сытности! Отрекаюсь! Будь ты проклят! – грозил в небо волосатым кулачищем Феодосий, еще, более могучий, страшный.
– Сатано! Сатано! Феодосий – сатано! Дьявольское наваждение ниспослал нам. Душу дьяволу продал, чтобыть он сомустил наши!
– Зрю рога на его лбу! – завизжал Ефим и в ужасе бросился бежать.
Мираж растаял. Феодосий устало сказал:
– Вставайте, люди. Не я сатано, а наш бог сатано. Вставайте, подружки наши. Теперь мы стали боле того нищи. Теперь нам одна дорога – в Сибирь. Больше не на че надеяться: хлеба высохли, сена сгорели, денег нет. А там голод, розги, болесть душевная.
И встали люди, кудлатые, побитые, ошалевшие, в глазах боль, страх, тоска.
– Как же ты смог показать нам бесовское игрище? – закричала впервые в жизни на мужа Меланья.
– Не показал, а само показалось. Откель оно пришло – не знаю.
– Бога проклял! Отрекся от бога. Господи, прости ему согрешения вольные и невольные.
– Мне однова, простит аль нет, у нас нужда, а он с чертом пляску затеял.
Люди, осеняя себя крестом, расходились по своим покосам. Остались погорельцы, кто не убежал в деревню. Присели на кочки, головы опустили.
– Вот оно, явление Христа народу! Все видели?
– Тогда не судите меня за отречение. Доходил я душой давно, что бог и дьявол – едины, счас глазами узрел. Все, отрекаюсь от бога, совсем отрекаюсь, – неуверенно говорил Феодосий.
– Не спеши, Феодосий, отрекаться, может быть, дьявол в лик божий превратился, чтобыть нас сомустить, – проговорил Иван, сморкаясь кровью.
– Я тожись отрекаюсь от бога! – с плачем бросил Митяй. – Марфа бьет, жрать нече, жисть дохлая. Отрекаюсь!
– Я те отрекусь, на одну ногу встану, за другую дерну и сделаю из тебя двух Митяев, – прохрипела Марфа, прикрыла толстые колени изодранным в драке сарафаном.
– Уходить надо. Это уж точно, жисти здесь не будет.
– Отрекаюсь! – хныкал Митяй, поправляя очки.
На колокольне загудел набат.
– Неужли где еще горит? – завертел головой Феодосий. – Ну беда.
– Это Ефим полошит народ. Дурак старый! Пошли в деревню, – поднялся Иван. – А ить славно подрались. Мне так звезданул Горшков, что досе скула ноет.
– В Сибирь уходить надо, – тянул свое Феодосий.
– Нет, на месте и камень обрастает.
– Нашей нуждой.
– Бабы тожить ладно дрались, хоть чуток вшу из голов повыскребли. Пошли быстрее, может, и не Ефим полошит… А вы, бабы, приберите грабли, что не сгорело, несите домой, – наказал бабам Иван.
Ефим влетел в церковь грязный от сажи, в крови, в поту и тут же запнулся за дьяка, который валялся в блевотине. Бросился в клетушку звонаря, тот тоже лыка не вяжет. К попу, но его шугнула поленом попадья. Влетел на колокольню и начал бить в колокола. Очнулся дьяк, полез на колокольню. Ефим заорал:
– Силов бога проклял, отрекся от бога! Анафеме предать надобно.
– Неможно, на то надо разрешение епископа аль еще кого. Проклял бога? Эка невидаль, я давно его проклял и отрекся. Все мы от него отреклись, а батюшка еще раньше меня. Нет бога. Все то дым, туман, – пьяно говорил дьяк – Зелье – это бог, дажить лучше, тьма, но не вечная. Бог – тьма вечная.
Ефим влепил дьяку затрещину, закричал:
– Ты что глаголешь? С ума спятил от зелья? В губернию пожалуюсь! Цыц, дьявол!
– Погодь, погодь… Гришь, отрекся от бога! Анафема! Гони звонаря сюда, я пороблю. Анафема!
Ефим облил звонаря холодной водой из колодца, тот очнулся, понял, что от него хотят, пополз на колокольню, сменил дьяка и ударил в колокола веселую «Барыню». Так и слышалось: «Барыня с перебором, ночевала под забором…»
Сбегался народ. А дьяк уже стоял на паперти и могучим басом орал:
– Анафема! Грешнику и богоотступнику рабу Феодосию – анафема!
– Анафема! – визжал Ефим Жданов.
– За что Силова предают анафеме?
– Не знаем.
– Анафема! – орал дьяк.
– Анафема! – прокричал звонарь с деревянной колокольни и свалился под колокола досыпать.
– Тиха, Ефим Тарасович говорить будет.
– Такие дела, братья во Христе, значитца, у нас был пожарище. Потом Феодосий показал нам сатанинское видение, будто Исус Христос с дьяволом «Барыню» плясали. А как отплясали, Феодосий тут же отрекся от бога. Сатано он, давно в его душе дьявол сидит. Он меня не однова подбивал отречься от бога, – забыв о старой дружбе, о том хлебе и соли, что съели вместе в мытарствах по земле, рассказывал Ефим.
– Анафема! Отлучить от церкви и сжечь на кострище колдуна.
– Анафема! В омут нечестивца! Зовите попа, пусть отлучит от церкви!
– Поп не могет, намедни он крался от Параськи, а Ларька его перестрел и колом хлобыстнул. Анафема!
– Пымать Феодосия и на судилище! Сюда его, сатано!
– В церковь нельзя, осквернит святыни! Анафема! Анафема…
8
Косоротились мужики, изрыгая проклятия, а из синей дали накатывалась дробь барабана.
Трам-та-та-та-там! Трам! Трам! – Барабан гремел, густела его дробь. Это Никита Силов шел со службы царской. Двадцать пять лет отбарабанил, за это получил ружье, амуницию и барабан. На груди Георгиевские кресты, медали.
Трам-та-та-там! Трам! Трам! Трам!..
Феодосий и Иван, не зная, что творится у церкви, подбежали к толпе. И их тут же вытолкнули на паперть. Не успели и слова сказать, как скрутили руки, прижали к стене. Больше всех старался Зубин, между делом дал Ивану под дых. Тут же крутился Фома Мякинин. Хотел было торскнуть по сопатке Феодосию, но сдержался.
Звенят на груди кресты и медали. Все это добыто в бою, через свои раны, кровь людскую. Может быть, впервые в свое удовольствие тянул носок Никита. Радовался, что еще в силе. Артикулы ружьем выкидывал. Что есть мочи бил тяжелыми ботинками по пыльной дороге. Все позади. Впереди жизнь, какой-то она будет?..
– Анафема! Несите дров на кострище! Колдуна сожгем, а Ивана плетьми выпорем!
– Сжечь и Ивана! Анафема! Он давно воротит нос от бога!
На паперть поднялся Митяй. Встал рядом со связанными друзьями, вскинул голову, крикнул:
– Коли их жечь, то и меня жгите!
– Не трогать Митяя! Гоните его прочь!
– Я тожить отрекся от бога! Анафема! – невпопад закричал Митяй. В толпе захохотали. – Не уйду, они мои побратимы, я до последнего издыхания с ними.
– Чего с дурака взять? Гоните его! Где Марфа, пусть бы она наклепала ему по загривку.
– Еще с покоса не вернулась, сейчас придет. Анафема!..
Шел Никита по ровной дороге, его всюду встречали доброй лаской, с той же грустью в глазах провожали. Дети махали ручонками вслед, а он им на потеху бил в барабан, будил сонных собак…
Анафема!..
Шел Никита и широко улыбался родной земле, солнцу палящему, небу, все это будто увидел впервые. Млел от песен жаворонков, хмелел от трелей соловья. Но и тревожился, видел, как горит земля, неурожай… Падал в нескошенные травы и тут же засыпал. Засыпал под говор пересохшего ручейка, с теплом в душе и радостью в сердце. Знал, что больше не закричит на него служака-фельдфебель: «Подымайсь! Стройсь! Мать вашу поперек!» Спит Никита где захочет, радуется тишине, к сердцу прислушивается. А оно трепещет, дом близко, дом чует…
– Анафема! Читай, Феофил, очистительную молитву, и с богом почнем. Да пусть примут покаяние, ить были христианами.
– Детей и женок в огонь!
– Анафема!..
…Загрустил Никита при виде родных мест, прошлое темной тучкой накатилось, грустью наполнились глаза, на сердце камень. Отяжелели ноги, не спешит Никита в родную деревню. А зря. Зубин и Мякинин уже подбили народ, чтобы сжечь всех трех еретиков. Уже Митяя связали. Давно, конечно, не считая Митяя, стоят эти двое у них рыбьей костью в горле. Урядник тоже спешит к церкви. Он не будет вмешиваться в дела церковные, но все же приятно посмотреть, как будут жечь врагов.
– Анафема!
– Сжечь еретиков и бунтовщиков, царя бунтуют, бога отвергают. Анафема! – визжит Мякинин.
Тяжко народу. Голод страшной тенью маячит впереди. Убить Феодосия, а случись бунт, ведь без Феодосия они стадо баранов. Он всегда даст совет, может встать в голову бунта. Ошалел Ефим – супротив друга пошел. Дурит старик. Рвет путы Феодосий, хочет что-то сказать, но рот кляпом забит. Уже слышны голоса:
– Наложить епитимью!
– Отлучить на чуток от церкви, а потом спросить сызнова, что и как.
– Пусть каются!
– Их бес попутал!
– Анафема! – глушат эти голоса сытые глотки богатеев.
Иезуитство, время жестокой веры, пусть все это не так сильно выпячивало на Руси, но сжечь в срубе могли. Тем более колдуна. Анафема! Хотя без разрешения верховной власти церкви – это уже самосуд.
А люди все бегут и бегут на крики. Бегут бабы, дети, всем интересно, как будут жечь колдунов.
Выли собаки. Быть беде.
– Анафема! – громче всех орет Зубин, гоношит костер, мужики копают ямы под столбы, сам же косит глаза на Харитинью, которая только что подбежала, в немом испуге прикрыла рот платком, часто дышит, еще не знает, что делать: броситься ли на выручку мужу или закричать истошно. Может быть, это шутка, может быть, новое представление дает Иван. – Анафема! – «Теперь не уйдешь ты от меня, – думает Зубин. – Моя будешь…»
Смолк барабан. Никиту захлестнули воспоминания. Вот мостик, совсем развалился, не чинят, а тогда был новым. Вон озеро, и оно уже заросло камышом. На этом озере Ефим и Никита ловили карасей. Тогда Никита был верткий, как щуренок. Все ушло, все мимо прокатилось. Стал сед, неповоротлив. Служба укоротила жизнь. Годы, годы, вернуть бы их назад! А вот здесь Никита спасал Ефима. Ефим врухался в болотину и начал тонуть. А через год – Ефим Никиту.
– Поди, забыл, что я есть на свете, – выдохнул Никита. – Как они живут? Скоро увижу. Должно быть, как все мужики расейские.
Еще один мостик, еще один ручеек. Скрипнули под ногами бревна, защемило сердце, туман застлал глаза.
– Ксина, любушка! Жива ли ты? Вот и я возвернулся. Отзовись!
Нет, не проскочить голосу из прошлого, через двадцать пять лет. Не сможет крикнуть из небытия Аксинья Стогова. Забил ее вожжами суровый и ревнивый муж Трефил Зубин, замурыжил. Двадцать пять лет! Ничего назад не возвращается, даже вчерашний сон…
– Анафема!..
Вся деревня провожала рекрутов, тех, кому выпал тяжкий жребий идти в солдатчину. Никто не виноват, сам Никита вытянул из шапки свою судьбу, трудную и горькую. Могла оказаться там бумажка, что быть ему дома, не оказалась… Плакала жалейка Петрована Пятышина. Умел старик выводить на ней дивную музыку, да такую, что за сердце брала. Ох, как брала, что и слез не удержать! Голосили матери, никли их головы, как травы под ветром, к пыльной дороге. Чуть потише плакали невесты. Уходили суженые, уходили, можно сказать, навсегда. Кто же будет ждать солдата двадцать пять лет?
– Ждать ли тебя, Никитушка? – спросила, рыдая, Аксинья – Скажи слово, до седых волос буду ждать.
– Неможно ждать. Ежели не убьют на войне, то вернусь стариком. Ты тоже уже будешь не молодицей. Не томись. Вей гнездо. Всякая птаха вьет гнездо смолоду, птенцов выводит, чтобы земля не скудела. Прощай! Даст бог – свидимся. От судьбы не убежишь, от судьбы не спрячешься. Вернусь, хоть детьми твоими порадуюсь. Прощай!..
Люди, толпа, неразумность. Зубин спешил, в глазах нелюдской блеск, руки в тряске, тело в переплясе дикой радости, что наконец-то освободится от врагов своих. Толпа тоже напряжена. Толпа тоже готова бросить в огонь старых друзей…
Один из всех, кого взяли в рекрутчину, Никита возвращается домой. Несет плохие вести матерям и отцам. Только живы ли они? Братья должны быть живы. А что братья? Они за нуждой забыли, кто ушел, а кто остался дома, кого любить, а кого ненавидеть.
Здесь Аксинья целовала и миловала Никиту. Двадцать пять лет берег солдат на своих губах тот поцелуй. Здесь вот они присели. Помолчали, повздыхали… Все это уже стало вечностью. Аксинья вот у этого дубка, теперь уже дуба, целовала Никиту, обвивалась гибкой лозинкой, людей не стыдилась…
– Анафема! Смолья несите…
Зря она это делала, ведь ей здесь жить, ей быть чьей-то женой. Никита ушел под ружье солдатское, все за собой оставил. Ад войн выбелил его волосы, вынул душу. Любому прохожему отдал бы Никита свои кресты и медали, чтобы хоть день побыть в прошлом. Да что там кресты!..
Сейчас поведут Феодосия и Ивана к столбу, скрутят их одной цепью, так-то надежнее. Митяя не хотят сжигать.
– Люди! Кого вы слушаете? Эти кобели старые, псы вонючие давно зубы точат на наших! – наконец-то закричала Харитинья. Сбила с паперти Зубина, подскочила к Ивану, вырвала кляп изо рта – Зубин и его свора хотят сжечь самых праведных мужей. Люди!
Позади рев Марфы:
– Эт кто моего Митяя спеленал? Кто его забижает? А? Митенька, я счас. Разойдись! – Марфа взмахнула тяжелой дубиной над головами, и толпа подалась в сторону, расступилась. – Митяя мучить? Убью!
Едва увернулся от дубины Зубин, кубарем скатился с паперти Мякинин. Марфа поддала дьяка ногой, тот улетел к столбу. Она же схватила Ефима поперек и бросила на головы людей…
– Вот я и пришел, – грустно сказал Никита, тронул корявой рукой почерневший угод чьего-то дома, загрустил. Но тут же расправил плечи и ударил в барабан, да так, будто солдат вел в бой. Без его барабана – не бой… Бьет кленовыми палочками по тугой коже, гудит барабан, поет барабан. А впереди и верно бой, здоровенная баба разгоняет толпу, машет над головами дубиной. Но не бьет, только пугает. Заспешил Никита, борода на две стороны, заслужил бороду. Услышал барабан народ, затих. Опустила свою страшную дубину Марфа, остановилась. А то уже деревня разделилась на две стенки, быть бою.
– Вяжи стерву! – закричал Зубин, но сам не подходит близко, чужими руками хочет укротить Марфу.
Никто не решается вязать Марфу. Не по силе многим. К тому же она метнулась на паперть, порвала веревки, освободила пленников. Силы прибавилось. Эти будут драться насмерть. А за спиной Марфы дружки Феодосия уже начали хватать поленья, что приготовили на костер, Зубин своих дров не пожалел, готовы дать бой.
– Что вы творите? Сами вы колдуны, еретики, винище хлещете, скоромное в постные дни едите. А ты, Зубин, среди раскольников вьюном ходишь. Все знаем, свидетелев можем привести! – кричала Харитинья.
Трам-та-та-та-там! Трам! Трам! Трам! Трам-та-та-там!
– Анафема! – очнулся дьяк, поднимаясь из пыли. Остановился Никита перед ошеломленной толпой, руку бросил к шапке, отдал рапорт:
– Бомбандир Измайловского полка, третьей роты, первого взвода Никита Силов прибыл после прохождения службы царской! – Сам же себе приказал: – Смирно!
Все стоят, и никто не может признать служивого, – может, и правда Силов, а может быть, из другой деревни, там тоже есть Силовы? Даже Феодосий нахмурил лоб, что-то силится вспомнить. Батюшки, так это же родной брат, Никита!
– Никита, годок! Вернулся! – бросился к Никите Ефим Жданов, облапил служивого, ткнулся грязной бородой в бороду дружка, прослезился. Но Никита и здесь солдат, он оттолкнул дружка, выбежал на паперть.
– Что происходит, миряне? – зычно крикнул.
– Колдунов собрались жечь. Твоего братца. Он видел видение на небеси, – ответили из толпы.
– Како тако видение?
– Бог с чертом на небеси «Барыню» отплясывали.
– Ну, – притворно удивился Никита, – знать, и здесь такое появилось?
– А че, рази еще где бывает?
– Бывает, мне не мене как сто раз видеть такое доводилось. Особливо в пустынях. Жара, а там, гля, озеро в небе висит. Другой раз будто и на песках, мы к нему, а оно все дальше и дальше. Перса мы воевали, так я видел в пустыне, как корабель плыл по небу, потом видели всем полком, как Христос шествовал по облакам, тожить чутка приплясывал. Это все от духоты. Потому зряшно вы забижаете людей.
– Феодосий от бога отрекся, как посмотрел, что Исус Христос с дьяволом заодно, тут же и отрекся.
– Хе, пустое, наш полковник тожить не однова отрекался от бога, а как глянет смертушка в глаза, так снова за бога. Это он не отрекся, а поругался с богом.
– А рази же можно ругаться с богом, ить он не баба?
– Знамо, лучше не ругаться, а ежли такое привиделось, то можно и ругнуться. Потом Феодосий не знал, что это бесовское видение, кое чаще бывает в жару, обманное видение. Миражой оно называется.
– Вот ядрит твою бабушку! Сразу видно, солдат, все знат, все ведат, – загудела толпа. – А не врешь, служивый?
– Вот вам крест, не вру! – перекрестился Никита. – Ефим, ты дружок, тебе и скажу еще чего на ухо. Иди, не бойся, ружье мое не заряжено, – усмехался Никита.
Ефим влетел на паперть, Никита что-то зашептал на ухо. Ефим тут же отпрянул, закричал:
– Врешь! – Глаза его полезли из орбит. – Не могет того быть, чтобы царь не верил в бога!
– Да не ори ты! Ить я тебе только на ухо сказал. Слухай и не ори. Однова я стоял на часах в Зимнем дворце, был Великий пост; гля, царь мимо прошмыгнул с княгиней Потемкиной, еще мне пальцем погрозил: мол, молчи, солдат, не то семь шкур спущу. В Страстную неделю это было, потом ему пронесли курятину, вино и разные закуси. Я молчал. Снова такое же бы то, но уже перед самой Пасхой, я снова смолчал. Царь за верность мне тотчас же поломойку свою подсунул… Чистых кровей баба, ить там дажить полы моют чистые бабы, белые бабы. Потешились мы…
– В пост? – снова вырвалось у Ефима.
– Знамо, в пост, как царь, так и я.
– Врешь!
– Вру, то дорого не беру.
– Никита, сказывай всем, чего же одному-то! – кричали нетерпеливые.
– А еще похабнее наш патриарх, – шептал Ефиму Никита. – Я стоял у его покоев, так он понавел туда разного цыганья, заставил всех раздеться, а потом ходил средь голых баб и за сиськи дергал. Другое-то уже не могет, так хоть так поигрался.
– Врешь.
– Вру, тогда смотри! – Никита расстегнул мундир, выхватил нательный крест и смачно его поцеловал.
– Вот якри тя в нос, что деется.
– Везде одна шайка-лейка. А вы тут за миражу людей в костер.
– Не верю!
– Отсохни у меня язык, ежли что.
Ефим скатился с паперти, начал что-то шептать друзьям. И пошло. Мужики ругались, другие хохотали, бабы визжали. А когда сказанное Никитой дошло до последних, то выходило, что царь сам голяком по Питеру бегал, по иконам стрелял, баб черных к себе водил, даже срам с бабами в церкви творил.
И те, кто стоял стенка на стенку, начали смешиваться, переговариваться.
– Анафема! – снова пьяно завопил дьяк.
– Цыц, паскуда, дай послухать доброго человека. И царица у солдат спала. Эко повезло Никите, саму царицу тискал. А ить сказывали, что после одной ночи с солдатом она приказывала убить солдата. Глянуть бы на нее одним глазом, там можно и помирать.
– Дурак, то Катька убивала солдат, а энта добрее.
– Цари тожить люди, а у цариц все такое же, как у наших баб. Однако приятно…
– Царица рази баба?
– А кто же? Такая же баба, однако своя привышнее.
В толпе смешки, нервное напряжение спадало. Пермяки – народ отходчивый, долго зла не помнят. Даже после драки могут легко помириться.
Урядник понял, что дело повернулось не в его пользу, решил вмешаться, расталкивая людей, закричал:
– Анафема! Зубин, разводи костер! Колдуна в огонь!
А навстречу Никита. Остановились друг против друга, Никита усмехнулся и сказал:
– Ваше благородие, вы чего полошите народ? Это дело церковное, а не гражданское. И другое: как вы стоите перед георгиевским кавалером? Устав забыли? Молчать! Мне сам царь-государь первым честь отдавал, пошто же ты не делаешь того же? Во фрунт!
Урядник опешил, откачнулся назад. Неумело вскинул руку к козырьку фуражки, левую положил на саблю, расправил грудь, правда впалую, и пошел мимо Никиты строевым шагом, люди расступились.
– Ножку!! Ножку тяни! Брюхо подбери! Грудь держи колесом!
Сельчане и рты раскрыли, глаза навыкат. Отдать честь мужику, такого еще на их веку не было. Тишина, строевой шаг урядника – и враз хохот, улюлюканье, победные крики, свист мальчишек. Урядник сбился с ноги, затрусил домой. Оглянулся, погрозил кулаком толпе, юркнул в калитку.
Зубин и Мякинин не стали ждать развязки, мышатами сиганули за угол церкви, убежали. Буря пронеслась. Никита отвел бурю. Шагнул к брату, обнялись, по-мужицки расцеловались. Никита спросил:
– Скажи по чести, сожгли бы аль только попугали?
– Сожгли бы, – выдохнул Феодосий. – Сколько бы ни махались поленьями, а нас бы скрутили. А нет, то кто-то бы почил в бозе.
– Свиделись. Веди в дом, братуха. Соскучился по дому – спасу нет.
Обрел дар речи и Митяй, прокричал:
– Дурни, кого хотели спалить? Митяя? А вот вам!.. – Показал кукиш толпе.
Сельчане облегченно захохотали. И верно, дурни – Митяя могли бы сжечь под запарку.
За Феодосием пошли друзья. Ефим хотел было увернуться, но Марфа схватила его, как котенка, за шиворот и повела на подворье Силовых. Вошли во двор. Марфа подвела Ефима к Феодосию, рыкнула:
– Пади в ноги! В ноги, пес бузой! Слезно проси прощения за облыжность и недоумие.
– Да уж каюсь, но ить Феодосий… Он отрекся от бога!
– Молчи! Веру у тебя в бога никто не отнял, но за-ради нее друга в огонь, можно и самому там очутиться! – гремела Марфа. – Сжег бы наших, то и тебе бы не жить.
– То так, от бога можно отречься, но вслух об этом говорить нельзя, знай это, брат. Почти каждый солдат ненавидит царя, но об этом тоже молчит. Даже близкому другу не говорит.
– Отпусти ты его, Марфа, оба мы с ним хороши, – устало проговорил Феодосий. – Садись, Ефим, прощен, чего же тебе еще надо! Садись же!
– Да уж сяду, но вы простите меня, бога ради! Все это от лукавого.
Сели на бревна. Никита заговорил:
– Прошел я много пешки, много видел, не сладка ваша жизнь, но и солдатская не лучше. Врал я Ефиму, что царю брат и сват. Дружками у нас были мордобой, шпицрутены. Но знал, что таким наговором на царя можно остановить народ от драки. Но что бы ни было – солдат с солдатом редко дерется. До драк ли, когда день и ночь на взводе? А потом войны, а потом раны на теле, в душе. И вам не драться надо, а дружить, чтобы легче было беды от себя отводить. Где Аксинья? – вдруг спросил Никита.
– Умерла. Три сына и дочь после себя оставила. Трефила знал ли? Богач. Он-то и хотел нас сжечь, – ответил Феодосий.
– С чего же он разбогател?
– С разбоя, купцов с Фомой Мякининым грабили на Казанском тракте. Едва от каторги открутились. Деньги награбленные спасли. Потом, когда был картофельный бунт, они с башкирцами грабили шадринцев. Тоже прибавка к богатству. Солдаты тоже усмиряли.
– Был и я на усмирении. Жуткое дело. Когда воевал перса, турка, там все было ясно – это мой враг, он хочет убить меня. А мужик – разве мне враг? В первые годы службы был на усмирении декабристов. Это офицеры. Хорошие люди. Хотели сковырнуть царя, дать послабление солдату и мужику, но не вышло. Один проморгал, носом прохлюпал, другой струсил. Нас не позвали. Мужиков не кликнули. А тут нас под присягу – и делу конец. Присяга не баба – ей не изменишь, а изменил, то голову на плаху аль прогонят через палки, все одно смерть. От палок нашего брата погинуло тыщи, кто выживал, тот умом трекался. Что говорить, в России сладко живется тем, кто правит.
– Как сам жить будешь?
– Дали пенсию. Женюсь. Земли прикуплю и буду жить тихонько, доживать век.
– Ну, други, по домам ходите, кормить будем служивого, хоть репой, да накормим, – отправил домой друзей Феодосий. Нехотя разошлись.
После ужина Феодосий рассказал о своей мечте. Никита пристально посмотрел на брата, пожал плечами, ответил:
– Не след о таком думать. Бывал ведь я и в Сибири. Каторжных провожал. Холоднючая страна, дикая страна. Но ежли честно, то воли там больше. Народ не так забит. Но как же свою землю-то бросить? Здесь могилы наших отцов, то да се.
– А ежли бы тебя убили на войне, то рази бы знали мы, где твоя могила?
– Нет, не знали бы. Но не верю я в то Беловодье. Нет его. Ежли бы было оно, то люд бы знал.
– Я тоже мало верю. Ежли его нет, то можно и свое поставить.
– Не поставить; чтобы было то Беловодье, должна быть армия, генералы, да мало ли еще что. Враг, он нигде не дремлет, чуть что, так и норовит чужой земли кусок прихватить.
– А рази вы не прихватывали чужие куски?
– Не без того. Всяк государь радеет о своих палестинах. Да и хватит об этом, пустой разговор, лучше кажи мне свое семейство.
– Управятся с делом, и покажу.
Дети Феодосия понравились солдату. Особенно по душе пришелся Андрей. А когда узнал, что он дружен с Варей, дочкой Аксиньи, то просиял, при случае просил Андрея показать ему.
Вечером снова повели разговор про Сибирь. Андрей о Сибири тоже не раз думал. Понимал, что Зубин не отдаст Варю за него. Только Сибирь может их соединить. Варю спрашивал, побежит ли она с ним в Сибирь.
– Побегу. Куда хошь побегу, только скажи когда. Гриша нам бежать поможет. Он один любит и жалеет меня. Боится, что отец просватает меня за Ларьку. Самого ведь отец женил на нелюбимой. Страховата. Зла. Признался мне, мол, не лежит душа, к жене. Даже притронуться гадко, будто к жабе холоднючей! Брр! – зябко повела плечами Варя.
– Отец зовет своих в Сибирь.
– Дай-то бог, да побыстрее бы гоношились.
Шепот в ночи. Шепот в травах…
Ночи, ночи, плачете вы звездами, катитесь бесконечной чередой над землей, несете с собой волны темени. Зачем вы рождены? Сказывал Андрею один бродяга, что ночи рождены для продолжения рода человеческого, для роздыха земного. Ночами милуются, ночами любятся.
Ночи, ночи, кутаете вы травы туманами, умываете землю росами, звените луной, прячете под своим пологом тайны, а звезды что-то хотят сказать. А что?..
Травы, травы, ковер земной. Вы чуду подобны. Вы заменяете постель влюбленным, прячете их в своей густоте. Вы, как и все живущее на земле, спешите пустить буйные всходы, зацвесть, заполнив землю пьянящим дурманом, дать семя и увясть. Пролетело лето, а кто заметил? Пожухли травы, поседели, а кто приметил? Все скоротечно, все не вечно. Но вечна земля, вечна жизнь на земле, вечны люди.
Млеет ночь от шепота трав. Душно. Стонет ночь. Шепчут травы извечную сказку о радостях земных. Только полынь-трава горькая не любит радостей, радостных сказов. Так пусть простят ей люди, ведь она растет там, где прошло горе, умерла ли деревня, сгорел ли дом, бросил ли поле хозяин. Полынь горе людское в себя впитывает, оттого она и горькая, оттого она и молчаливая.
Есть у осиновцев, может быть, еще у кого есть, свой дуб-патриарх, дуб-венчалец, дуб-клятвенец. Стоит он на околице. Никто трав под ним не косит, желуди не собирает. Священный дуб. Пусть это опасное язычество. Оно давно забыто, но под этим дубом будто бы пировал Ермак с разбойной ватагой. Здесь, а это уже точно, дал клятву мужицкий царь, что будет служить верой и правдой народу. Под этим дубом клялись в верности Ефим Жданов, Иван Воров, Феодосий Силов, клялись друг другу, клялись своим будущим женам. Кто порушит клятву – того ждут тысячи бед и несчастий, а их и без того с избытком… Хуже того: кто нарушит клятву, тот не умрет своей смертью. А Ефим Жданов уже предал Силова, Ворова. Не случилась бы вскорости с ним беда…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































