Текст книги "Кремль"
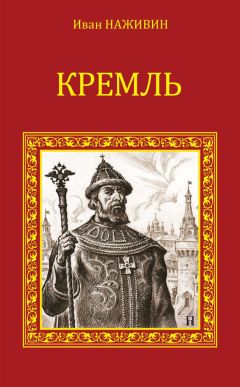
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
XXII. Закатный час
Неподалеку от Волока Ламского по лесам и полям шумела боярская охота. Устроена была она больше для того, чтобы бояре могли на свободе потолковать о делах государских. Но ничего из этого не вышло: в последнюю минуту с боярами собрался царевич татарский Даньяр, дружок государев. Бояре думали, что великий государь не без умысла им татарина подсылал… Но золотое бабье лето так радостно сияло над затянутой парчовыми коврами землей, так весело было скакать в звонких лесах и широких лугах, затканных серебряной паутиной, так возбуждающе ревела стая псов и пели рога, что бояре очень скоро забыли о всех делах и заботах своих и, все забыв, носились на диких конях в золотых просторах…
Отдельно от всех ехал со своим стремянным Василий Патрикеев. Боярская тешь мало тешила его. Елена больше мучила его, чем давала ему радостей, и ненасытное сердце его уже тянулось назад, к Стеше. Но она была не Елена, и то, что она была не Елена, и было в ней ему дороже всего: сердце искало, перед кем бы преклониться… Но нечего о ней и думать…
Слушая дикий рев стаи в звонком острове, князь Василий ехал солнечными опушками неподалеку от Московской дороги и, повесив голову, смотрел на уже привядшую траву. Будь они не на Москве, они могли бы хоть встречаться свободно. Вон новгородцы, в Москве поселенные, и те смеются над московскими обычаями. Недавно он пировал у боярина Григория Тучина, который выдавал дочь за своего же брата новгородца. И странно было москвитянам смотреть на вольные обычаи вечевиков. Когда жених с тысяцким и поезжанами приехали по невесту, родители, отдавая дань строгой Москве, вывели ее было под фатой. Новгородцы загрохотали.
– Мы не фату приехали смотреть, а невесту!.. Кажи давай нам ее…
Фату с невесты сняли.
– Ну, люба ли тебе невеста? – по обычаю Новгорода, спросили жениха.
– Люба… – бойко ответил он.
– А тебе жених люб ли?
– Люб… – зарумянилась красавица.
Они поклонились один другому, и им поднесли на подносе две чарки вина. Все жадно следили за обычаем стародавним: жених с невестой должны были чокнуться так, чтобы вино из одной чарки переплеснулось бы в другую – кто пересилит, за тем будет и первенство в доме… И как все закричали, как захохотали, когда боярышня переплеснула свое вино в чарку жениха, как сконфужен был жених, как зарделась невеста!.. В Москве все это было делом неслыханным. Он принял жену под фатой, даже не видавши ее никогда, а теперь только и отрады находит, только и дышит, когда от нее подале. И благодаря всем этим вольностям новгородским уже многие на Москве поговаривать стали, что в самом деле лучше, пожалуй, смотреть не фату, а человека, с которым связываешься на всю жизнь…
Князь поднял вдруг голову: где-то неподалеку, за кустами, на дороге Московской, послышались вдруг испуганные крики, звук колес и опять крики:
– Держи, держи их!..
«Что такое? – нахмурился князь, придержав коня. – Лихие люди? Немыслимое дело: никогда не посмеют они напасть, когда рядом большая боярская охота. Что такое?»
– Держи… держи…
Кивнув стремянному следовать за собой, князь вынесся на дорогу и сразу понял все: по дороге, тяжко и опасно переваливаясь по колеям с боку на бок, неслась тяжелая колымага. Несколько вершников старались заскочить вперед, чтобы остановить чем-то напуганных лошадей… И вдруг колымага накренилась, рухнула, кони оторвались и, прижав уши и храпя, понеслись дальше. Часть вершников бросилась в погоню за ними, а другие, быстро слетев с коней, испуганно бросились к колымаге.
– Что у вас тут такое? – подлетев, спросил князь. – Чьи вы? – Лица вершников показались ему знакомы.
– Беда, княже… – снимая шапку, сказал старый слуга. – Везли мы молодую княгинюшку нашу с богомолья, из Волоколамского монастыря, и вдруг – должно, ваша охота потревожила его, – из кустов выкатил волк. – Здоровенный, лобан!.. Кони и понесли… Да тише вы!.. – строго прикрикнул он на вершников, подымавших колымагу.
Князь сразу узнал старика и затрепетал… И радость, и страх охватили его. Он бросился к колымаге. Вершники, переговариваясь встревоженными голосами, уже поднимали княгиню. Стеша была без чувств. За ней вытащили Ненилу. И осторожно положили княгиню на обочине дороги под молодыми березками, которые млели в солнечном блеске. Приличие не позволяло князю быть близко, но нельзя было оставить ее и одну. Повесив голову, он стоял над ней. У разбитой колымаги стонала Ненила: у нее была не то вывихнута, не то сломана рука… Князь не знал, что делать. Старый князь Холмский был на охоте, но она разбросалась на версты, и неизвестно было, где искать его…
Стеша открыла глаза. В них было недоумение: где она? И вдруг она увидела князя, присмотрелась, и по лицу ее – она точно от глубокого сна пробуждалась и не знала, явь перед ней или сон, – и в глубокой глубине глаз затеплилась радостная и стыдливая улыбка. Не отрываясь она смотрела на того, кому давно она отдала душу свою. Она боролась с ним, но не могла его победить. И вот вдруг судьба свела их среди пустынных осенних просторов, когда в звонком лесу трубили рога и рыдали собаки, – в первый и, вероятно, в последний раз…
– Ты останься при княгине, – сказал князь старому вершнику, – а вы все, – обратился он повелительно к молодым, – ходом за конями… Живо!..
Вершники вскочили на коней и понеслись по залитой вечерним золотом дороге…
– Ох! – мучаясь, качалась Ненила. – Господи Батюшка, да что это такое будет?! Силушки моей нету!.. Ох.
– Ну, чего ты, бабка, так разохалась?.. – суровым басом бросил ей старый вершник. – Чай, не до смерти тебя убили… Потерпи!.. Где у тебя болит-то?..
– В плече… Вот… Ох, силушки моей нету!..
– А ну, покажь…
Стеша смотрела на князя глазами, полными бездонной ласки, и радости сияющей, и грусти бесконечной.
– Стеша… – едва выговорил он. – Я…
Он не мог говорить. Она тоже не могла вымолвить ни слова. А может быть, и не хотела: так небесно-сладок был для нее этот закатный час среди пустых полей. И глубоко-глубоко она вздохнула, приподнялась и села на привядшей траве.
– Вася… – слабым голосом едва вымолвила она. – Великий грех беру я на свою душу, но, Вася… столько времени таилась я, и мучилась, и молчала!.. И… изнемогла…
Золотая земля кружилась в его глазах.
– Стеша… радость моя…
– Погоди, постой… Может, я выскажу все тебе, так легче станет. Ведь и твои глаза давно сказали мне, что носишь ты меня в сердце своем. И неужели все это от лукавого?! Так зачем же вложил тогда Господь в грудь нам сердце живое?.. Милый, солнце, радость моя, помоги: мне так тяжко!..
Закрыв глаза, она вся побелела, и по милому лицу покатились тяжелые слезы.
– И ты для меня на всей земле одна… – горячо дохнул он. – И почему, почему не хотела ты уйти со мной?! Ах, уже ведут… – почти простонал он, увидев вдали на дороге гомонящих вершников, которые вели в поводу взмыленных коней. – И слушай, слушай меня, Стеша… Ежели ты решишься, то дай мне только знак один… Нет, идут! Прощай, солнышко мое…
Вдруг крик вершников прервал его. Одна из лошадей колымаги снова вырвалась у них и, разметав хвост и гриву, пронеслась мимо Стеши и князя. Старик, бросив Ненилу, вскочил на коня и помчался вслед ей. Ненила, рыдая от боли, упала лицом вниз.
Княгиня пошарила что-то у шеи и, вынув ладанку из потемневшей кожи, протянула ее князю.
– Возьми ее, милый… – тихо проговорила она. – Это от матери моей… Она обережет тебя от всякого урока, от колдовства, от всего…
Он взял ладанку, украдкой поцеловал ее – она носила ведь ее на груди! – и набожно надел на себя. Стеша неотрывно следила за ним любящими глазами.
– Теперь мне в терему моем нечем уж и дышать будет… – прошептала она и снова заплакала. – И ты… хошь изредка дай о себе весточку мне… А теперь… прощай… уходи…
Стиснув зубы, он подошел к подъехавшим вершникам. Старик тоже привел пойманного коня. Лошади тряслись и дико поводили красными глазами. Князь осмотрел колымагу. Кое-как наладить ее до монастыря можно будет, а там монахи дадут что-нибудь…
– Ох, нет, нет!.. – всполошилась Стеша. – Нет, не хочу я назад в монастырь… Может, доедем как до кормежки…
Старик опять обошел колымагу. Беспокойство внушало только левое заднее колесо.
– Ничего, доедем потихоньку… – сказал он. – Тут неподалеку есть село Язвищи, вотчина отца игумена. Там и кузня есть… Ничего, доедем…
Князь дождался, пока при нем усадили Стешу в колымагу, подняли и усадили Ненилу, которая все плакала от боли. Возницы сели на коней – тогда кучера ездили не на козлах, а верхом, – и колымага, скрипя, тронулась. Точно прикованный, смотрел он на Стешу. И она неотрывно, не смущаясь людей, прощалась с ним глазами, и в голубой глубине их была мука смертная…
И долго смотрел вслед ей князь Василий, пока в вечерней дали не исчезло совсем счастье его…
XXIII. Княгиня Голенина
– Скажи отцу игумену, что княгиня Голенина приехала… – сказала кудрявому служке уже пожилая, энергичная боярыня с полным лицом и бойкими глазами. – И скажи, чтобы не медлил, а то недосуг мне…
В живых глазах ее мелькнул недобрый огонек: видимо, она предвкушала не совсем христианское удовольствие наговорить игумену немало остренького, что наготовила она про него по пути в обитель.
– Да ты поворачивайся у меня поживее!.. – сердито крикнула она вслед служке. – Ишь, проклажается…
Тот сразу перешел на рысь.
Через несколько минут княгиня, сверкая глазами, уже входила в сени отца игумена. В другие двери, навстречу ей, шел уже и игумен отец Иосиф, представительный монах, лет сорока пяти, с красивым румяным лицом, холеной бородой и темно-золотистыми кудрями, выбивавшимися из-под черного клобука по обеим сторонам лица.
В миру Иосиф звался Иваном Саниным. Дед его, Сань, был выходцем из литовской Руси и получил от великого князя вотчины около Волока Ламского. Семи лет Иван был отдан в науку в монастырь и так пристрастился там к хитрости книжной, что и сам возжелал принять чин ангельский. Он отправился в Тверскую землю, в монастырь святого Саввы, где подвизался тогда знаменитый старец Варсонофий Неумой. Войдя с великим трепетом в святую обитель, Иосиф первым делом услыхал, как монахи садят один другого непотребными словами. Пораженный, он бросился вон. Старец Варсонофий, поняв его, пустился за ним вдогонку и, нагнав, посоветовал ему идти лучше в Боровской монастырь, к Пафнутию.
Пафнутий был родом татарин. Дед его, баскак, принял на Руси святое крещение и занял высокое положение. Сам Пафнутий был одним из основоположников того внешнего аскетизма, который причинил Руси и Церкви столько зла. Великим грехом в Боровском монастыре считалось, если кто из иноков говорил хотя немного «кроме божественного», нарушение поста. Чуть что, и Пафнутий гнал инока в шею. Вообще он ходил по обители своей «с яростным оком».
Пришед в Боровской монастырь, Иосиф застал игумена за колкой дров. Пафнутий принял его в свою обитель и сперва поставил на кухню, а затем перевел на еще более тяжелый труд, в пекарню. Потом, приглядевшись к ловкому парню, Пафнутий стал поручать ему разные хозяйственные дела. Иосиф занимался много писанием и так в этом деле навострился, что держал все писание «памятью на край языка»…
Привлекательная внешность, ясный и простой, не знающий сомнений ум, практичность, начитанность, замечательное умение петь псалмы и читать в церкви нараспев и красноречие скоро выдвинули Иосифа. О нем заговорили даже в Москве, где он произвел самое приятное впечатление на Ивана III и на весь двор. Когда Пафнутий преставился, сам Иван III убеждал Иосифа принять игуменство в Боровском монастыре. Он повиновался.
Прежде всего он ввел общежитие и более строгую дисциплину. Но сразу же он наткнулся на крутое сопротивление братии. На его стороне оказалось только несколько старцев-подвижников. Он решил покинуть непокорный монастырь и основать свой. Он выпросил у князя волоколамского земли и построил монастырь. Первыми иноками в нем были старцы-подвижники из Боровского монастыря, которые поддерживали его там в борьбе с непокорными иноками.
Монастырь его сразу прославился. В нем стали постригаться добрые люди от князей, бояр и от богатых торговых людей, и вклады потекли обильным потоком. Дарили не только деньгами, но и хлебом, конями, оружием, мехами, седлами, сосудами, землями – все принималось с благодарностию во славу Божию. Князь Андрей Голенин, потомок князей ростовских, часто приезжал в обитель послушать поучений Иосифа. Картина Страшного суда приводила князя в трепет. Однажды князь выехал из своей вотчины как будто на охоту в сопровождении множества слуг в дорогих одеждах и на великолепных конях. Поравнявшись с монастырем, князь въехал в ворота, вошел в церковь и обратился к Иосифу с просьбой немедленно постричь его и принять в дар Богородице все имение князя: золото, серебро, одежды, скот, сосуды и села. Иосиф тут же постриг его. Отроки князя, ожидая, болтали и смеялись у ворот. И вдруг к ним выходит в монашеской мантии их князь. Он тут же отпустил всех их на волю. Одни огорчились – на княжеских харчах жилось неплохо, – но удалились, а другие тут же приняли чин ангельский…
– Матушка княгиня!.. – расплылся в приятнейшей улыбке Иосиф. – Благодетельница наша… Вот привел Господь…
– Ну, ну, ну… – подходя под благословение, сердито проговорила княгиня. – На словах-то благодетельница, а на деле только и думаете, как своей благодетельнице какую пакость учинить…
Слегка придерживая рукав рясы, Иосиф благословил княгиню и тотчас же ловко подкатил ей стуло.
– Садись, садись, княгинюшка… Так-то вот… А я вот насупротив тебя сяду… Нет, нет, это ты нас забижаешь: мы твои верные молитвенники и слуги и ничего так не желаем, как только во всем тебе угодными быть…
– Ну, уж я знаю тебя, отец игумен: как начнешь ты языком мед точить… – сердито воскликнула княгиня. – А я баба твердая и в деле порядок люблю…
– Чего же лучше, княгинюшка-матушка?.. Чего лучше?..
– Опять говорю: не подсмаливайся!.. Я тобой и твоими монахами недовольна, и ежели что, так мне ведь и разругаться с вами недолго. В другой монастырь ездить буду. Чего-чего, а монахов-то на Руси хоть отбавляй!..
– Да в чем же мы тебе, матушка княгинюшка, так не угодили-то? Чего ты на нас так разгневалась?
– Не юли, отец!.. – отмахнулась нетерпеливо княгиня. – А разгневалась я на вас вот за что. Сколько я на ваш монастырь на помин души моих упокойничков-то пожертвовала?
– А сколько, матушка княгинюшка?
– Не знаешь? А еще игуменом зовешься!.. Я внесла вам в разное время семьдесят рублей[24]24
По тем временам очень большие деньги. Псков поднес Софье в качестве свадебного подарка всего пятьдесят рублей от всей земли Псковской.
[Закрыть]. А поминаете вы их только на общих панафидах наряду с другими. Так неужто ж за такие деньги князья Голенины в уровень с другими поминаться должны?! Я хочу, чтобы вы творили им поминовение отдельно и внесли бы их в синодик…
На холеном лице Иосифа выразилась глубокая грусть.
– Но, княгинюшка-матушка, тогда ведь по положению надо сделать большой вклад…
– А я тогда тебе без обиняков скажу, отче: это – грабеж…
– Ах, Господи!.. Да ты, княгинюшка-матушка, послушай только. Упокойничков твоих, царство им небесное, мы поминаем на общих панихидах, литиях и обеднях не меньше шести раз в день – в день, в день, княгинюшка-матушка!.. – а иной раз и до десяти поминовений в сутки бывает. Ведь поп даром обедню служить не будет, ему надо платить… Это надо в соображение взять. В синодик тоже можно записать только при большом вкладе деньгами, но можно, – хозяйственно пояснил он, – и хлебом, и землей…
– А того, что покойный князь тебе при пострижении внес, ты уже не считаешь? – сверля его сердитыми глазами, говорила княгиня. – Ух и завидущие же у вас, у монахов, глаза!.. Говорите, от мира отрекаетесь, а на деле, напротив того, только и думушки, как бы поболее всего нахватать… Ты на меня, отче, не серчай, – вдруг немножко спохватилась она. – Я не лисичка, я человек прямой и правду кому хошь в глаза скажу…
– Ах, княгинюшка, благодетельница, – развел Иосиф белыми руками. – Как же можем мы забыть князя, благодетеля нашего? Правда, он внес при пострижении деньги немалые, так ведь у нас и положение такое: вносить должны все. Есть такие, которые и пятнадцать – двадцать рублей вносят, а есть и такие, с которых по двести и по триста берем…
– Дак что же, значит, душу-то свою спасти только князья да бояре могут?.. – зло улыбнулась княгиня. – А общий народ погибай?.. Неча сказать, гоже удумали!..
– Зачем погибать?.. А мы-то на что? Мы за них Господу Богу молим, – улыбнулся отец игумен. – На то мы и монахи…
– А земель набираете?.. – не сдавалась княгиня. – Чай, скоро по всей округе и повернуться уж негде будет, все угодья под твоим монастырем будут…
– Опять же мы тут не причинны… – сказал игумен, которому все это стало, однако, уже надоедать. – Ежели милостивцы на помин души нам угодья отписывают, как же можем мы отказать? И опять же в монастыре нашем все вящие люди стригутся; ежели бы таких людей в монашестве не было, откуда бы Церковь брала епископов да архиереев и прочих духовных властей? Нетто мысленно какого неуча на такое место поставить?.. А раз такие люди нужны, значит, надо им упокой дать, чтобы они не о рукоделии каком заботились, а более того книгам прилежали бы…
– Так, так… – безнадежно вздохнула княгиня. – Борз ты на язык-то!.. За тобой не угоняешься… Одно только вижу: подавай еще… Ну ладно, подумаю… А раз уж я браниться к тебе приехала, так ты уж кстати недоумения мои разреши.
– Сказывай, княгинюшка-матушка: с Божией помощью попытаюсь помочь тебе скудным умом своим и малым знанием…
– Первое дело вот: как правильнее молиться, двуперстным крестом или троеперстным?.. Одни твердят одно, а другие другое – индо голова кругом идет!..
– Наша святая обитель двуперстия придерживается, княгинюшка-благодетельница… – сказал игумен важно. – Не глаголет ли Петр Дамаскин: «Два перста и едина рука являют распятого Господа нашего Иисуса Христа, в двою естества и едином составе познаваема?»
– Дак почему же другие-то иначе глаголют? Чай, могли бы вы промежду себя и столковаться.
Игумен развел руками.
– Что же, скрывать нечего, матушка княгинюшка, – сказал он. – Много еще в Церкви нашей нестроения. Надо бы почаще соборы созывать для суждения, постановления и наказания[25]25
Научения.
[Закрыть]. Но мы, сказываю, двуперстия придерживаемся… Ну а еще что у тебя, матушка благодетельница?
– А еще. Молиться всегда на восток надо, – продолжала княгиня. – А у меня моленная на заход солнца. Дак как же тут быть?
– Нет, молиться можно и на запад и куда угодно, – поглаживая свою шелковистую бороду, отвечал игумен положительно. – На восток же действительно лутче, ибо Христос был распят ликом на запад, и потому поклоняющиеся на восток как бы предстоят пред ликом Его… На востоке же был и рай, и потому поклоняющиеся на восток как бы снова в рай устремляются. И второе пришествие, по Писанию, последует с востока же…
– Так тогда я велю лутче моленную переставить… – решительно сказала княгиня. – Что же я зря не знай куды молиться буду, коли на восток всего лутче?..
Иосиф незаметно вытер проступивший на красивом белом лбу пот. Загоняла-таки его княгинюшка-благодетельница…
– Ну, спасибо тебе, отец, на добром совете, – помягчела княгиня. – Сколько раз принималась я серчать на тебя, а приедешь к тебе, ты умаслишь, умаслишь, сердце-то и отходит… Иной раз, право слово, боюсь, с тобой поговоривши, в монастырь уйти.
– А что же? И доброе бы дело, княгинюшка-матушка!..
– Ну, ну, ну… Ты не в путь-то не говори!.. – отмахнулась княгиня. – У меня внуков-то сколько… За всеми приглядеть надо, всех на ноги поставить… А вот насчет синодика и отдельного поминовения я подумаю. Тут у меня добрая пустошь есть, Дубовые Гривы, – вот, может, ее вам и отдать…
Игумен, смиренно опустив глаза, гладил только свою чудесную бороду…
– Да… Еще про одно дело забыла! – вдруг всполошилась княгиня. – Пособи-ка и тут мне твоим советом, отец.
– Сказывай, княгинюшка-матушка… – опять вытер пот игумен. – На то мы и поставлены.
– Вот внук у меня один помер, отец… – озабоченно начала княгиня. – И мальчонка-то был так, кволый… А мать – вот уж сорочины прошли – все никак утешиться не может. Она и завсегда эдакая… пискля была, а теперь и совсем глаз не осушает. Пощунял бы ты, что ли, ее – прямо не знаю, что мне с бабой и делать!..
Игумен укоризненно покачал умащенной главой.
– Это грех… – решительно сказал он. – Так и скажи ей от меня, княгинюшка-матушка… Мир сей – погибель. И потому, – скажи, – ежели бы отшедшего она любила, радовала бы ся еси и веселилася о нем, яко настоящих свободися волн и тленными суетными прелестного сего жития не усладишася, ниже лукавству и злобы изучишася… Особенно же, княгинюшка, грешно плакать о детях кщеных: ведь они идут в царствие небесное…
– А некщеные?.. – с испугом посмотрела на него княгиня. – Нюжли ж их в ад сажают?
– Нет… – твердо сказал игумен. – Ни в рай, ни в ад, а так, посерединке. Не написано ли: некрещении убо младенцы царствия Божия не сподобляются, в муку же не отходят?.. А о крещеных и горевать нечего… – еще раз повторил он. – Некая мать весьма плакала о детях своих, и вот Бог таинственно послал ей одного из святых своих в образе некоего инока и настрого запретил ей плакать. И не глаголет ли Афанасий Александрийский, что чада чистии там спасения получат? Иногда и так бывает, что Господь чрез смерть уничтожает будущий сосуд сатанинский: не удавил ли ангел одно дитя потому, что оно орудие сатанино хотяше быти?.. Что ты, княгинюшка-благодетельница?.. – вдруг оборвал он, увидев, что княгиня смотрит на него вытаращенными глазами.
– Да чтой-то чудно говоришь ты, отец!.. – сказала она. – Как же это ангел мог наперед узнать, что дитя орудием сатаниным быть хочет? Нешто это загодя указано, кто будет сатане угодником, а кто Богу? Потому, ежели все предуказано, так чего же нам стараться тогда быть праведными? Чудно чтой-то, отец!..
Игумен смутился.
– Ах, матушка княгинюшка!.. – сдерживая досаду, воскликнул он. – А Божья-то милость? Помолится человек поусерднее, Господь и помилует… – уверенно сказал он. – Ну и родителям назидание: яко да се видевше родители абие в страх придут и тако умилившеся оцеломудрятся.
И, сдерживая зевок, он ласково погладил свою чудесную бороду.
– Ну вот, спасибо тебе, отец, за наставление, – проговорила княгиня, решившая, что бабьего ума ее на эти дела не хватает. – А теперь пора и к дому.
– А не прикажешь ли собрать тебе закусить на дорожку, княгинюшка-матушка? – сказал отец игумен. – Щи со снетками у нас больно гожи сегодня. Можно для тебя и карасиков в сметане обжарить, а?
– Нет, нет, спасибо, отец… Я в Язвищах поела. Думала, разругаюсь с тобой, так и кормить меня не будешь.
– Ну, полно-ка!.. А тогда постой, я велю тебе грибков сушеных, охотницких, с собой дать да медку… – сказал игумен и постучал белой рукой своей по столу, – Эй, кто там есть?
В сени вошел тот же доброзрачный послушник.
– Нет, нет, отец, грибов у меня у самой сколько хошь, спасибо, – сказала княгиня. – Хошь воз и тебе пришлю. Девки натаскали… А теперь вот лениться стали, непутные… То все ревели: светопреставление скоро, а теперь точно с цепи сорвались, кобылы: «Напоследышки, – говорят, – хошь душу маненько отвести…» А я вот не верую в светопреставление!.. По книгам у вас, знаю, выходит, что свету вольному скоро конец, а я вот не верю.
– Вот что, Вася… – с улыбкой обратился игумен к послушнику. – Сходи-ка ты к брату Даниле, кладовщику, и скажи, чтобы он княгинюшке нашей медку какого поскладнее выбрал… Поди-ка, поспешай, – сказал он и совсем уже другим, светским тоном спросил княгиню. – Ну, как здоровье великого государя нашего? Что на Москве новенького?
– Да сказывают, что, как старица-то Марфа преставилась, стал, вишь, государь на братьев своих опять коситься… – отвечала княгиня, хотя ей и хотелось выяснить до конца вопрос о светопреставлении. – Будто, сказывают, хочет уделы их прибрать…
– И гоже бы, княгинюшка-матушка!.. – сказал игумен. – И больно бы гоже!.. Так всю Русь потихоньку под одно и подвел бы… Что же это было бы, ежели бы вот хошь в нашем монастыре десять игуменов посадили бы? Тут порядку уж не жди… А одна голова – самое разлюбезное дело… Конечно, отчего не посоветоваться, когда нужно, с бояры, но только вожжи все же надо в одних руках держать… Да и опять, что же лучше, в избенке двухоконной жить али в палатах распространенных? А князьям место всегда на службе великого государя найдется, он не покинет… А-а, Данила… Ну что, выбрал княгинюшке нашей медку-то.
– Расстарался… – улыбнулся Данила Агнече Ходило. – Липовый… Дух такой, на пять верст слышно!.. Изволь, княгинюшка-матушка… Только недавно удостоился я поднести такого же великому государю, когда он приезжал сюда утешения ради смотрити зверского уловления зайцев…
Данила пораздобрел, расцвел еще больше, и обхождение его стало еще изысканнее. Игумен давал ему теперь самые ответственные дела: покупку угодий, выдачу денег в рост мужикам, продажу сельскохозяйственных продуктов и прочее. И Данила превосходно справлялся со всем. Его уверенность в себе росла, а цветистый язык его становился все пышнее…
Княгиня милостиво – она совершенно успокоилась – побеседовала с Агнечем Ходилом, а когда пошла она потом к своей колымаге, вся братия вышла проводить благодетельницу. Игумен на прощание еще раз благословил ее, и колымага, провожаемая ласковыми пожеланиями монахов, заколыхалась по колеистой дороге… Княгиня вспомнила было опять о светопреставлении, но тут же и успокоилась: первое дело, не скоро еще, а кроме того, нет вот в ней веры в конец света!..
«Нет, это они общий народ стращают все, – подумала она, – чтобы он слушался их больше…»
Игумен же в самом веселом расположении духа направился в свои покои: ему надо было закончить послание к вновь назначенному в Новгород владыке Геннадию. Геннадий приобрел самую широкую известность, еще будучи архимандритом Чудова монастыря, своим участием в обсуждении вопроса о том, как надо ходить крестным ходом при освящении церквей, посолонь ли или против солнца. Митрополит московский Геронтий стоял за хождение против солнца, а Геннадий мужественно отстаивал хождение посолонь. Иосиф в послании своем присоединялся к владыке Геннадию: ходить надо, конечно, посолонь, так, как указал Господь солнцу…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































