Текст книги "Кремль"
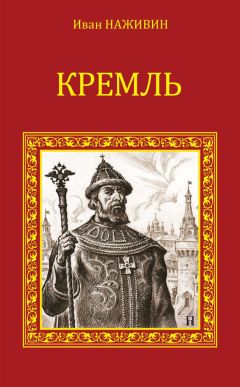
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
XIX. «С заглавной, дурак!..»
Дьяк Федор Курицын, блестя бойкими глазами и красивой собольей бородой, стоял над своим подьячим Васькой Хлюстом, румяным, круглолицым парнем, с уже вспотевшим от трудов чистописания лбом, и размеренно диктовал ему чин царского величания. Васька склонял намасленную голову – он был великий франт – то направо, то налево и старательно писал. В стороне, у окна, сидел за чтением какого-то рукописания дружок Федора, Григорий Тучин. В числе немногих новгородцев он получил разрешение остаться в Москве. Остались в столице даже некоторые еретики, а некоторых великий государь даже и возвысил: попа Алексея сделал протопопом Успенского собора, а Дионисия – Архангельского собора. Но еретики на единодержавие смотрели косо и тянули, большею частью, руку старобоярской партии. Дьяк Федор Курицын был весьма близок к ним и ими весьма почитаем…
– Ну, написал? – спросил дьяк. – Дальше. «И поставити столы, и скатерть настлати, и калачи положити…» Написал? «А тысяцкова жене, и свахам, и боярыням…» – продолжал он и вдруг зашипел и звонко хлопнул себя по ляжке. – Да сколько раз тебе, дураку, говорить еще, что «боярин» и «боярыня» с заглавной писать надо! Ну?
Васька еще более вспотел и стал выправлять свой огрех.
– Нечего поправлять, все одно перебелять придется, – с досадой проговорил дьяк. – Пес тебя знает, то бывают дни, хошь дьяком к великому государю ставь, а то дурак дураком. Ну, пиши уж… «И боярыням всем готовым быти у нее, и свечам обоим, и караваем туто ж готовым быть…»
– Да на что ты это переписываешь? – спросил от окна Тучин.
– Велел великий государь изготовить, а зачем, не ведаю, – отвечал дьяк. – У него повадка такая: никогда ничего не говорить, что и зачем. Придет время, может, скажет и сам, а выпытывать – сохрани Бог. Думаю так, время женить Ивана Молодого пришло.
– Кого же присмотрели?
– Как будто на Елене, дочери господаря молдавского, остановиться решили.
– Эта честь не велика после Византии-то!.. – улыбнулся Тучин. – Я думал, теперь куда выше метить будете.
– Сказывают, девка-то очень уж гожа… Ну, разинул рот-то!.. – цыкнул он на Ваську. – Пиши… «А как великий князь пришлет к – смотри, с заглавной!.. – к боярыням и велит княжне идти на место, и княжне пойти из своих хором в середнюю палату, направо в сенные двери, а с нею тысяцкова жене, и свахам обеим, и боярыням…» Да с заглавной опять, дурак!.. Нет, упарил ты меня седни, Васька! Индо круги в глазах ходят…
И он, зорко следя, чтобы подьячий не делал огрехов, усердно диктовал, как опахивать соболями жениха и невесту, как, кому и где сидеть, как осыпало на мисе золотой должен хмелю насыпать в три углы, да тридевять соболей положить, да тридевять платков бархатных, и камчатных, и атласных с золотом и без золота, и какая у платков тех должна быть длина и ширина, и как поедет царский поезд в собор, и кто с кем сядет, и где все в соборе стать должны…
– «…И, венчав, митрополит… – тоже с заглавной, так… – даст вино пить великому князю и княжне, а великий князь, выпив вино, ударит тут же скляницею о землю да и ногою потопчет сам великий князь, иному же никому не велети топтати…»
– Это и у жидов водится… – сказал Тучин. – Этим у них напоминают молодым о бренности земного счастья…
– И как ты только все знаешь, посмотрю я!.. – удивился дьяк. – Дошлый ты человек, боярин… Ну, пиши, Васька…
Васька был весь до ушей мокрый от волнения и ужаса. Ничего уже не понимая, он писал, как один из бояр с саблей наголо будет всю ночь ездить вкруг подклети новобрачных, как будут у постели кормить курем великого князя, как на постелю положат две шубы собольих, одну мехом вверх, другую мехом вниз, а наутро как вести великого князя в мыльню, а великую княгиню как и кому вскрывать…
– И это вот тоже у жидов есть… – сказал Тучин. – У них сорочку новобрачной отдают родителям на сохранение на случай клеветы какой…
– Вишь ты!.. – сказал дьяк. – Ну, развесил уши-то!.. Совсем это не твоего ума дело!.. – прикрикнул он на Ваську. – Пиши давай, уж немного… «А нести перед постелею свечу водокщеную, у ключника взявши, да перед постелею поставити два рожества, Рожество Христово да Рожество Пречистой, да крест воздвизальной поставити в головах у постели…»
За дверью послышались вдруг шаги, и в сени вошли князь Василий Патрикеев да отец Зосима, архимандрит от Симонова, толстый, налитой жиром старик с темно-багровым лицом и белой бородой. Нездоровая толщина его была бы неприятна, если бы не глазки его умненькие, полные сдержанного, насмешливо-ласкового смеха.
– Милости просим, гости дорогие… – ласково приветствовал их дьяк. – Милости прошу к нашему шалашу…
Раскланявшись с гостями и усадив их, он в нерешительности посмотрел на Ваську.
– Ну, вот что… – сказал он. – Ты поди перебели то, что мы написали, а конец допишем потом. Да смотри у меня, ежели опять напрокудишь чего!.. И лапы свои вымой, а то еще весь пергамен изгваздаешь…
Весь мокрый, изнемогая, Васька выкатился вон, а хозяин, распорядившись об угощении, присел к гостям, которые уже вступили в оживленную беседу.
– Да какие же они чудотворцы? – зло бросил князь Василий. – Я их всех смутотворцами зову…
– Ах, ах, ах!.. – в притворном ужасе ахал Зосима, и глазки его смеялись. – Да разве ты не читал в житии-то его, как он на освящение церкви Богородицы на облаке из Ростова в Киев летал?.. А Левонтий опять? Когда его ростовцы изгнали, он поселился подле города, кутьей заманивал к себе ребят и крестил, а когда ростовцы за то хотели убить его, он вышел к ним в полном облачении и одни из них ослепли, а другие пали мертвыми…
– А!.. – нетерпеливо тряхнул головой князь Василий. – Будет тебе глумы-то творить…
– А теперь вон Макара Калязинского в святые произвели, и, говорят, чудеса творит… – усмехнулся дьяк. – А мужик был сельской…
– А ты что думать, одни бояре только чудеса-то творить умеют?.. – заколыхался в смехе всем телом Зосима.
– Поосторожнее только быть надо… – сказал дьяк. – Среди наших есть такие, которые стали уж на улице открыто над православием смеяться. Пущай православие и не православие, а кривославие, а все надо держать себя поумнее… Великий государь мирволит нововерам, а другие косятся…
– Я как-то с Иосифом Волоколамским встрелся… – захрипел Зосима натужно. – И все он меня по голове Писанием-то, Писанием-то… А я и смеюсь ему: да что ты-де больно лихуешься-то? Ведь сами же вы говорите, что пасхалия на исходе, Страшный суд на носу, и всему конец. Вот тогда-де Господь всех и рассудит, кто православный, а кто кривославный… А на Москве-де говорят, что ты много земель по случаю кончины мира нахватал – вот, мол, к Страшному-то суду оно и гоже…
Беседа оборвалась: слуги вошли собирать угощение. Дьяк, человек на Москве видный, угостить и умел, и любил. Глазки отца Зосимы разгорелись: старый греховодник высоко ценил наслаждения гортаннобесия и чревоугодия. И когда слуги удалились и все по усиленным приглашениям хозяина – так требовал хороший тон – приступили к брашнам и питиям, Зосима, трясясь в беззвучном смехе, с замаслившимися глазками, проговорил:
– Вот это гоже, дьяк… А то говорят: второе пришествие… Вот винца доброго или медку выпьем – и воскреснем, а того ничего несть: умер кто ин, по та места и был… Ну-ка, подсунь мне рыбки-то, хозяин… Ах, и гожа у тебя семужка, дьяк!.. Ну, телу во здравие, душе во спасение…
– А я тут лекаря Антония повстречал, звездочетца… – сказал князь Василий. – Вот тоже плетет, вот плетет!..
– А что? – поднял на него заплывшие глазки Зосима. – Ежели вот налижемся мы до риз положения, то, по-ихнему, не ответственны мы про то ни перед кем же: все от звезд и планид схождения… По-моему, это они гоже придумали…
Он заколыхался в смехе и стал еще багровее…
Князь Василий был сумен.
Невесел был и маленький Тучин. По мере того как все больше и больше приставало к новой вере людей, она становилась ему все подозрительнее, и его уже тянуло прочь, идти в одиночку, своим путем… Дьяк Федор смеялись с Зосимой… И вдруг в дверь высунулась намасленная голова Васьки-подьячего.
– Прости, хозяин… – робко сказал он. – Вот тут слово одно не разберу… Сделай милость…
– Которое, покажи. Это?.. Да ты угорел, парень?.. Это «простыня» – только всех и делов… На! – вдруг вспыхнул дьяк. – А это что?! – яростно закричал он, тыкая пальцем в пергамен. – А это?!
Васька оторопел и ничего не понимал.
– Да опять у тебя «боярин» с малой буквы, дурак ты стоеросовый!.. Не сотни ли раз повторял я тебе это?.. Брось этот пергамен и начинай сызнова… И ежели ты мне к вечеру всего путем не перепишешь, вот истинный Господь, велю наказать тебя!.. Да что это такое?! Словно кто его сглазил!.. Поди пиши… И на глаза мне не кажись, ежели хошь раз один не в путь напишешь…
Васька, взопрев опять, как ломовая лошадь, скрылся. Гости снова взялись за брашна. Но князь Василий встал: пора – отец ждет.
– Ну, что делать… – сказал дьяк, вставая, чтобы проводить почетного гостя. – Напредки жалуй, не забывай…
Они простились. Князь сел на коня, которого держал в поводу его стремянный, и поехал к дому, в Кремль. Как всегда, москвитяне ходили вдоль медленно подымающихся стен туда и сюда, любуясь работой, но больше всего толпились около Успенского собора, который был совсем уже кончен. «И была та церковь чудна вельми величеством, и высотою, и светлостию, и звонкостию, и пространством», – говорит летописец, а придворные ловкачи, чтобы подольститься к великому государю, все повторяли, что, когда впервые пришли они в собор, они не знали, где они и стоят, на земле или на небе.
Вокруг весело кипела жизнь. И князь Василий, глядя на медленно рождающуюся твердыню, смутно и грустно думал: «Как каждому человеку значительны кажутся его собственные страдания, и радости, и успехи, и поражения, а вот в сравнении с этими толстыми каменными стенами, которые встают тут из земли на века, как все это кажется мизерно и ненужно… Да, но как ни мал комарик, а все же жить и он хочет…»
Проехав мостом башни Кутафьей и Боровицкими воротами, он остановился у своих палат и бросил поводья стремянному.
– Княже, милостыньку-то убогенькому Христа ради…
Пред князем на земле сидел без шапки Митька Красные Очи. Князь Василий равнодушно бросил ему подаяние.
– Вот спаси тя, Господи, кормилец… – приторно-сладким голосом затянул тот. – Вот тоже княгинюшка, княжича Андрея супруга, жалеет так же нас, людей убогиих: уж так-то над нищей братией она убивается, лебедушка белая, так-то убивается… Ведь я у них во дворе кажный почитай день за милостынькой бываю… Ежели бы таких людей, как ты да она, на свете не было бы, что бы мы, бедные да убогие, делали?..
В страшных, красных глазах нищего было что-то недосказанное. Князь строго остановил на нем свой слегка косящий глаз, перед которым робели многие.
– А вот не посылает Господь ей счастья-то тоже, голубушке сизокрылой… – продолжал Митька. – С мужем разладье, и все-то он в разъездах, а она и-и убивается, и-и тоскует… Я ведь видел, княже, как ты с великим государем из похода-то возвращаючись, мимо их хором проезжал да на терем их высокий все поглядывал… Ежели тебе туда, княже, весточку какую подать надо, ты мне только словечко кинь: вмиг все для тебя исполню…
Князь потупился. И вмиг решил: свое он у жизни вырвет! «Сперва спрошу ее… – думал он. – Может, она согласится… А нет, силой возьму и умчу в далекие края… За что, за что мы оба мучаемся?..»
– Сегодня к ночи зайди ко мне… – сказал он нищему и шагнул в калитку.
XX. Ненила
Сиренево-пепельные сумерки спускались на затихающую Москву. Небо и река догорали. В долине Неглинки и за рекой, в Садовниках, по садам боярским соловьи голос подали… Раздвигая душистые заросли черемухи, князь Василий осторожно вошел в небольшой сад Холмского, который для утехи ребячьей был посажен за службами. Василий знал тут каждое дерево, каждый уголок. Вот, как и раньше, стоит и шалаш, который воздвигла детвора, играя «в татаре»: тут они стояли сторожей, чтобы беречи землю Русскую, и, когда те – в воображении – появлялись из-за сонной Москвы-реки, сколько было тут шуму, сколько подвигов знатных, сколько доблестных смертей!.. И, как и тогда, пахло из шалаша горьковатым запахом соломы…
И вот сейчас она выйдет к нему. Казалось бы, какое счастье… Но счастья не было, а была мука мученская… И совесть тревожила: как же можно было так против Андрея идти?.. Но что же делать? Мучаются все трое ведь… Может, если кончится все это, и Андрей счастлив будет… Ах, да что бы там ни вышло, только бы кончилась эта мука!.. И опять отдаленно, точно во сне, вспомнилась зеленая и дикая глушь Заволжья; туда, что ли, убежать от всех этих терзаний мирских?..
В кустах послышался шорох. Сердце его забилось с такой силой, что даже дыханье пресеклось. И вдруг из кустов вышла к нему старая мамка ее Ненила.
– Знаю, княже, что не меня ты, старую, ждешь… – проговорила старуха тихо. – Велела она мне передать тебе, чтобы ничего ты не ждал: не перешагнет она к тебе через грех… Уж так она мучится, княже, так мучится, что и обсказать тебе не сумею… И чего-чего только я не придумывала: и молебны всем почитай святителям служила, и зелий всяких ей против тоски любовной приносила – нет, ничего не помогает! Недавно одну старуху я из Зарядья к ней приводила, Апалитиху, – слыхал, чай? – которая заговорами да травкой пользует. И та, давши в руки ей замок, долго над ней шептала, а потом заперла замок тот, а ключ велела мне в Москву-реку бросить, чтобы поглотила его щука золотая, божественная… И веришь ли, сколько разов к тебе я бросалась: возьми ты ее хошь силой, только душеньку ее от муки ослобони… И назад ворочалась: нет, эту силой не возьмешь… И вот хошь голову с плеч руби, не ведаю, что с ней делать… Себя умучила, мужа умучила, – а и он ведь человек такой, какого другого на Москве, может, и не сыщешь, – и тебе свет Божий не мил.
– А где князь Андрей теперь? – тихо спросил князь.
– Опять за охотой уехал… – сказала Ненила. – И кто это вам всем так жизнь изгадил? Все молодые, все пригожие, все богатые – жить бы да радоваться, а вы все равно в аду кипите!..
И князь думал то же. Но точно вот нетопыри какие впились в сердца их и сосут кровь, и сосут, а зачем – никому не известно!..
– Так попроси ее хоть проститься со мной выйти… – сказал князь. – Великий государь посылает меня с посольским делом на Литву. Кто знает, вернусь ли я оттуда…
– Не пойдет!.. – отвечала Ненила. – Забоится, что уговоришь ты ее… Ни за что не пойдет… Вот, может, куда мы с ней опять на богомолье соберемся – так дала бы я тебе знать, а ты там сам гляди, как и что… Только как сделать-то это? У тебя на дворе мне показываться негоже, а этот Митька твой что-то не люб мне…
– Ничего. За золото он все сделает и будет молчать, а не смолчит, так и подвесить можно… – сурово сказал князь, которому и самому противно было путать во все чужих людей. – Так вот так пока и порешим…
Он подумал было дать Нениле что, но тут же почувствовал, что этого нельзя…
– Ну, прощай, баушка… – мягко сказал он.
– Прощай, княже… Ну только смотри: ничего без ее согласу не делай… Успокой меня, старуху глупую…
– Не бойся!.. – дрогнул он голосом.
И он исчез среди пахучих зарослей черемухи.
Он чувствовал, что какое-то решение судьбы близко. Да, взять ее хоть бы против воли, умчать в далекие края, а там, под поцелуями, отойдет душа ее… И вдруг в узкой улочке его остановил хриплый, пьяный голос:
Эх, уж я улицею
Серой утицею.
Через черную грязь
Перепелицею…
Митька сделал было молодецкую выходку, чтобы показать удаль свою, но его вдруг шатнуло, и он бессильно прилип к забору. Нахмурившись, князь решительно подошел к нему. Тот сразу узнал его и подтянулся.
– Княже, благодетель ты наш… – забормотал он.
– Слушай… – сурово проговорил князь. – Ты мне еще понадобишься. За службу я отплатить сумею. Но если ты, собака, хоть словом одним кому обмолвишься, так и знай: будешь собою раков москворецких кормить… Понял?..
– Благодетель, кормилец, да нешто я…
– Ты понял?
– Понял, благодетель, понял… Да я за тебя в огонь и в воду, а не то што.
Но князь, не слушая, уже ушел. И Митька подмигнул себе:
– Не робей, Митрий Иваныч: теперь будет тебе жизнь боярская!.. На радостях можно и еще хлебнуть винчишка на сон грядущий…
И он неверными шагами направился в ближайший кабак.
Как только татары из Москвы ушли, так сейчас же снова повсюду открылись кабаки и зашумела снова Русь пьяным шумом. Ту дань, что раньше она неволею несла татарам, теперь с полной охотой отдавала она кабаку. Заботники мирские не раз уже делали великому государю представления, что надо пьянство остановить: не пьют же поганые.
– Так ли, эдак ли, а жрать винище они все равно будут… – сказал он. – Так уж пусть лучше оттого государству прибыток будет. Нельзя всякого пьяницу за руки держать: «Не пей, соколик…» А который, напимшись, дурака валять будет, на тех стража есть…
Всю ночь шумно кутил Митька с другими забубенными головушками в царевом кабаке… В отуманенной голове его вдруг встала мысль о Стеше: а по кой пес будет он добывать ее для того же князь Василия, когда он может взять ее и себе… Сперва он даже испугался сам этой мысли, но постепенно она все более и более завладевала дымной душой урода. Кабацким шумом он старался заглушить ее в себе, но чем больше он старался, тем крепче захватывала она его.
XXI. Ночи московские
Вскоре после бескровной победы над погаными великий государь со всем пышным двором своим встречал невесту сына своего Ивана. Вся Москва вышла на встречу красавицы Елены, но увидала только возок ее да вершников вокруг: невеста, чтобы не сглазил ее какой лихой человек, была до глаз укутана фатой. Но ахнул и великий государь, и все ближние бояре его, когда они впервые увидели ее без фаты: высокая, стройная, с горящими, как звезды, глазами и тяжелыми черными косами, она слепила. Улыбка ее была колдовство. Во всем существе ее было что-то до такой степени раздражающее, что даже самые хладнокровные люди чувствовали, что у них кружится голова…
Ивана она огромила. То, чем он до сих пор рядом со своей необъятной волосатой грекиней страдал втайне, теперь вдруг воплотилось в этой девушке, которая весело, точно в пляске какой, вошла в его палаты. К свадьбе он подарил ей ожерелье из голубых алмазов цены неимоверной – из сокровищницы владыки новгородского, смиренного Феофила, – и Елена, принимая подарок свекра, подняла на него восхищенные глаза и чуть вздрогнула: в его страшных глазах она увидала восторг бескрайний. И много дней ходила она после того в задумчивости. Хитренький Иван Молодой сразу подметил впечатление, которое произвела на его родителя Елена, и снова стал охать: он хорошо понимал, что девок-то на Москве всегда найдешь сколько хочешь, а голова на плечах одна…
Иван был точно околдован. Новые жуткие мысли мутили его теперь по ночам, когда рядом с ним среди жарких перин храпела грекиня ненавистная. Вот он великий государь всея Руси, перед которым склоняется в прах все, и все же он не только не может взять черноокой колдуньи, но даже слова ей о том дохнуть не смеет. И кому досталась!.. – с презрением думал он. – Ну, можно убрать с дороги и сопляка этого, убрать эту перину, которая храпит рядом с ним, а дальше опять хода нет и нет!.. Не может же он, великий князь московский и всея Руси, жениться или так овладеть вдовою сына… Тайная тоска его о счастье личном, счастье жарком и ярком, стала теперь еще острее…
Он стал раздражителен. Еще во время свадьбы сына с Еленой дружок его, татарин князь Каракучуй, что-то расхворался: должно быть, на русские меда приналег. При дворе был тогда доктор-иноземец, мессир Антон. Его позвали к больному. А Каракучуй возьми да и помри! Москва зашепталась: «Уморил князя ни за что, немчура!..» Иван выдал немчина головой Каракучуеву сыну. Тот, изрядно его помучив, хотел взять с него только хороший за родителя окуп и отпустить. Но великий государь крепко опалился и приказал немчина казнить. Татары свели его на Москву-реку под мост и там зарезали как овцу… Иван гремел, и никто не знал, почему так гневлив стал великий государь, – никто, кроме Елены, может быть. Она в положенное время родила мальчонку, которого нарекли Дмитрием, резко отдалилась от мужа, легко и смело стала выше этих постоянных испугов московских, и Москва зашепталась: «Балует валашка!..» Она смеялась…
Еще во время свадебного пира увидал ее впервые князь Василий Патрикеев и тоже был ею ослеплен. Стеша царила в его душе по-прежнему, но между ним и Стешей была пропасть ее испуга перед жизнью. И была Стеша в самом деле словно и не женщина совсем, а именно какая-то Богородица фряжская, а Елена была женщина прежде всего и после всего. И она, впервые заметив его, надолго остановила на нем огневые звезды свои и опустила ресницы длинные, и они затрепетали, и в груди князя Василия забушевал пожар…
…В мыльне при хоромах государевых осторожно вспыхнул слабый огонек. Две темные женские фигуры пошептались о чем-то, и одна из них с поклоном скрылась. Пахло баней, вениками, мылом. Вдоль стен лавки широкие, ковром покрытые, тянулись для отдыха упарившихся. На столе слабо мерцала свеча восковая. В банях, как известно, особенно любит водиться всякая нежить, но не такова была Елена, чтобы испугаться ее: это-то и любо!
И едва князь Василий переступил порог предбанника, как навстречу ему поднялась знакомая стройная фигура и в слабом свете свечи заиграла эта улыбка ее окаянная. Он остановился, всякий раз она поражала его опять и опять этой ядовитой красотой своей так, как будто он видел ее впервые. И стоял он, и смотрел на нее исподлобья своими слегка косящими глазами, и в душе его, как всегда, боролась бешеная страсть с бешеной злобой, почти ненавистью к ней…
– Ну, что же? – улыбаясь, проговорила она своим певучим голосом, и на щеках ее проступили две ямочки, от которых у него в глазах потемнело. – Так у порога стоять и будешь?
Она жарко прильнула к нему, и полные губы ее уже искали его губ. Он вдруг резко отшатнулся и, точно сломанный, опустился на лавку.
– Елена, сил моих больше нет!.. – с мукой едва выговорил он. – Или ты меня вправду жалеешь, или ты мной играешь, незнамо зачем. Я не могу больше! Бывают дни, когда я убить тебя готов. Да что, убить мало: я готов привязать тебя к хвосту коня и размыкать по полю…
– Да чего же ты, дурной, еще хочешь?.. – усмехнулась она страсти его бешеной. – Что, не все я отдала тебе?
– Мне одному? – бешено скрипнул он зубами.
– А ты слушай еще всех баб на Москве! – сказала она. – Ты видел когда что за мной?
– Ежели бы я что видел, так тебя давно и на свете бы не было, – сказал он, дрожа. – А ежели ты меня взаправду любишь, так бросим все и бежим…
– Куды? – засмеялась она своим отравляющим смехом.
– Куды хочешь… На Литву, к немцам, к шведам… Мало, что ли, места на свете?..
Она покачала своей красивой головой.
– Великий князь все не нахвалится сметкой твоей… – сказала она. – А ты, словно ребеночек несмысленый, лопочешь неведомо что. Бежим. Куды бежать великой княгине московской – пусть завтрашней, все равно. И счастье не ногами, а умом искать надо, лапушка моя. Иди сюда.
– Нет, постой! Тогда прямо говорю тебе – вот тебе крест святой!.. – перекрестился он истово. – Ежели я что за верное узнаю, не жить тебе… Пусть тут же с меня и голову снимут, но я зарежу тебя, проклятая!.. – опять скрипнул он в белом бешенстве зубами.
– У-у, какой сердитый!.. – засмеялась она ласково. – А покажи-ка, что это у тебя за поясом…
– То кинжал… – недовольно отвечал он. – Фрязи мне из страны италийской привезли…
– А ну, покажи, покажи… – сказала она, и, когда князь хмуро отстегнул ей кинжал, она воскликнула: – У-у, да золотой!.. И как сработан!.. Подари его мне: может, пригодится когда…
– Сделай милость, возьми…
– Спасибо, сокол мой… – сказала она. – А что ты шумишь все, так сердцем пня не сшибешь, Вася… А мы вот лучше давай подумаем, как нам судьбу нашу тут же, на Москве, без беготни устроить, да так, чтобы оба мы радостны были, чтобы не мешал нам никто… Мне ведь ведомо, что вы там – князь Семен, отец твой да другие… – налаживаете. И вот ежели бы был ты посмелее да дело это повернул как следует, так тогда… нам и гоже было бы… На моего сопляка смотреть нечего – опостылел он мне хуже редьки горькой, и убрать его с дороги ничего не стоит… Нешто это великий князь? А вот ежели бы нам так с тобой ослободиться… Да ежели бы тебе на… его место стать… – не сводя с него сияющих глаз, вкрадчиво говорила она. – Тогда и бегать никуда не надо было бы… Все-таки, чай, шапка-то Мономахова стоит, чтобы из-за нее потрудиться маленько!..
– А откуда тебе известно про разговоры бояр? – спросил Василий, глядя в ее побледневшее и возбужденное лицо.
– А сорока на хвосте принесла!.. – засмеялась Елена. – Вот ежели бы такое дельце удалось, так и был бы ты со мной по вся дни. И не было бы этой твоей муки чудной… Подумай-ка… А теперь иди ко мне. Долго мне быть с тобой нельзя: хватится великий князь-то мой… Иди, сокол!.. Ежели бы ты вправду любил меня, по-настоящему, чего бы мы с тобой не наделали бы…
Она не то что вправду к власти стремилась, а все эти затеи ее, вся игра людьми забавой для нее были. Что из этого выйдет, то и выйдет, только бы дух захватывало…
– Я не люблю тебя?! Да для меня ты… – страстно бросил он и покраснел: а Стеша? И тотчас же ответило сердце: с ней все кончилось, не начинаясь. А он хочет жить. – Елена, радость моя, уедем! Ну на что тебе вся эта пустяковина? Чего тебе не хватает?
Он жарко сжимал ее в объятиях и покрывал бешеными поцелуями. И она, шепча огневые слова, жгла его огнем ответным. Она, правда, хотела поиграть с ним, но обожглась и теперь любила его накрепко.
В темной вышине играли и переливались звезды. По дворам собаки заливались. Четко стучали колотушки сторожей. И когда некоторое время спустя князь Василий осторожно вышел из мыльни, в душе его уже была, как всегда, осенняя мгла: нет, не то!.. И образ Стеши, фряжской Богородицы, еще победнее сиял в его ненасытной душе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































