Текст книги "Пророк, или Загадка гибели поэта Михаила Лермонтова"
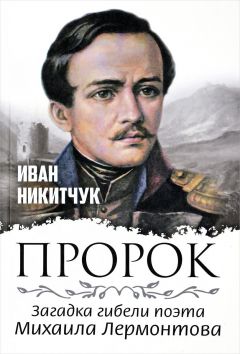
Автор книги: Иван Никитчук
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Лермонтов, подходя к группе гостей:
– У меня весь день такое чувство, будто я попал в железное кольцо, оно все время сжимается и вот-вот меня раздавит.
– Забудьте эти нервические мысли. Когда вы вернетесь с Кавказа… – пытался отвлечь Лермонтова Тургенев.
– Я не вернусь. В этом-то я единственно уверен, – перебил его Михаил Лермонтов.
– Не надо, Лермонтов. Этак вы заставите всех нас разрыдаться, – промолвила Мусина-Пушкина с каким-то нервным смехом.
– Я хочу, Мишель, чтобы вы увезли из Петербурга светлую память, – сказала Софья Карамзина.
Она садится к роялю, играет, а потом напевает:
Кубок янтарный полон давно,
Пеной угарной блещет вино…
– Я прикажу подать вина. Сегодня у нас особенный вечер, – выходя из зала, сказала Екатерина Карамзина.
Софья внезапно обрывает игру и встает.
– Вы весь вечер молчите, Мишель. Прочтите нам что-нибудь новое, – обратилась она к Лермонтову.
– Новое? Извольте!
Облокотившись на стол и не меняя позы, он начал читать просто и тихо, глядя на Мусину-Пушкину.
Не смейся над моей пророческой тоскою.
Я знал, удар судьбы меня не обойдет.
Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет.
Я говорил тебе: ни счастия, ни славы
Мне в мире не найти, – настанет час кровавый,
И я паду, и хитрая вражда
С улыбкой очернит мой недоцветший гений,
И я погибну без следа
Своих надежд, своих мучений.
Но я без страха жду довременный конец.
Давно пора мне мир увидеть новый…
Пускай толпа растопчет мой венец:
Венец певца, венец терновый…
Пускай! Я им не дорожил…
Все слушают потрясенные. В конце чтения Лермонтов отворачивается и замолкает. Когда он читал, вошла Екатерина Карамзина и остановилась у стены. Лакей с бокалами на подносе тоже замирает, и только изредка слышен звон хрусталя.
– Какая мрачная сила! Превосходно! – прошептал Вяземский.
– Должно быть, тяжело носить в груди такое пламя, – вслед за ним проговорил Тургенев.
– Мишель, неужто вы не могли прочесть что-нибудь светлое? – со слезой в голосе сказала Софья Карамзина.
– Этого не должно быть, Лермонтов! Вы поклялись беречь себя. Нет, нет. Я не хочу даже думать об этом, – почти воплем прозвучал голос Эмилии.
Вяземский берет бокал, чокается с Лермонтовым:
– Выпьем за неизбежную победу счастливых дней над минутами душевной усталости.
– Возвращайтесь невредимым, мсье Лермонтов, – тихо промолвила Пушкина, прикасаясь губами к вину.
Появился в дверях слуга:
– За вами приехал господин Шан-Гирей, сударь.
– Ну вот… Как быстро, однако, пролетело время. Я ничего не успел сказать. Это приехал Аким. Мы условились, что он отвезет меня на станцию.
– Погодите, Михаил Юрьевич. Мы простимся по нашему старому семейному обычаю, – сказала Екатерина Карамзина. – Человек, принеси из прихожей шинель, фуражку и саблю Михаила Юрьевича. Михаил Юрьевич, вы пристегните саблю, наденьте шинель, и после этого мы простимся.
– Чудесно, – согласился Лермонтов.
Слуга принес шинель, саблю и фуражку, помог Лермонтову надеть шинель.
– Мы сядем, помолчим, а потом все, кроме Михаила Юрьевича, уйдут в соседнюю комнату и будут по очереди входить, прощаться с ним, выходить в прихожую и там дожидаться, когда окончится прощанье.
– Какой удивительный обычай! – удивленно сказала Наталья Пушкина.
– Его придумал еще мой дед. Он говорил, что каждый из близких людей должен побыть хотя мгновение наедине с тем, кто уезжает в далекую дорогу, – объяснила Екатерина Карамзина.
– Превосходный обычай! Я непременно введу его в своем беспорядочном семействе, – пообещал себе Вяземский.
– Но это слишком торжественно. Это похоже на исповедь, – смеясь, сказал Лермонтов.
– Садитесь! – сказала Софья Карамзина.
Все сели. Молчание. Мусина-Пушкина сидела, низко опустив голову. Слышно, как за окнами лошади нетерпеливо звенят бубенцами.
– А теперь – пойдемте, – приказала Екатерина Карамзина.
Все, смеясь, ушли. Лермонтов остался на мгновение один.
Вошла Екатерина Карамзина.
– Ну вот, Мишель. Прощайте. О бабушке не беспокойтесь – мы будем навещать ее и оберегать от огорчений.
– Я вам благодарен бесконечно.
Он целует руку Екатерине Карамзиной.
Карамзина выходит. Входит Тургенев. Он молча целуется с Лермонтовым и идет к двери. В дверях на минуту останавливается:
– Если вы действительно любите всех, кто связан с Пушкиным, как я имел нескромность подслушать, то любите себя и не рискуйте понапрасну.
Входит Софья Карамзина.
– Будьте покойны, Мишель… Она войдет последней.
Лермонтов целует ей руку:
– Вы совершенно тронули меня.
Софья целует Лермонтова в лоб и выходит.
Входит Вяземский.
Вяземский крепко целует Лермонтова.
– Ей-богу, этот обычай прелестен! Я заставлю всех моих семейных каждый раз провожать меня таким вот манером. И напоследок пропишу каждому такую ижицу! – Смеется. – Ну, дай бог час, как говорят ямщики. Вспоминайте. А мы вас будем ждать.
Вяземский уходит. Входит Пушкина.
– Ну что ж, исполним этот странный обычай и попрощаемся.
Подает Лермонтову руку.
– Я так рассеянна, я хотела подарить вам маленький нагрудный крестик, но забыла его дома. Такая досада!
– Достаточно вашего желания, сударыня. Прощайте!
Целует ей руку.
Пушкина уходит. Лермонтов подошел к дверям. В них появляется Мусина-Пушкина. Она кладет Лермонтову руки на плечи. Судорожно гладит его шинель, потом подымает глаза, полные слез, притягивает к себе голову Лермонтова и целует его в глаза.
Мусина-Пушкина прячет голову на груди у Лермонтова и говорит шепотом:
– Как это страшно, Лермонтов. Но я не променяю эту любовь ни на что в мире.
Лермонтов поднимает ее заплаканное лицо, одно мгновение смотрит на Мусину-Пушкину, потом целует ее глаза, лоб, губы.
Она крестит Лермонтова.
– Теперь идите! – прошептала она.
Лермонтов быстро выходит. В прихожей слышен гул голосов, прощальные возгласы. Мусина-Пушкина делает движение к дверям прихожей, но опускается на кресло и сидит, закрыв лицо руками.
Звон бубенцов. Мусина-Пушкина вскакивает, подходит к окну и плачет, глядя на улицу. Вошла Софья Карамзина. Она обняла Мусину-Пушкину за плечи и увела ее в соседнюю комнату.
– Сейчас сюда войдут… Пойдемте ко мне, – сказала ей Софья…
Утром, едва развиднелось, двоюродный брат Лермонтова, Аким Шан-Гирей, проводил Михаила Юрьевича до почтамта, от которого закладывались кареты в Москву. Вместе с Лермонтовым ехал и его слуга – крестьянин из Тархан. Карету подали, вещи загрузили, подорожную отметили. Вся поклажа состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит недописанными стихами, заметками в прозе, планами будущих романов… Лермонтов надеялся, что ему удастся найти время серьезно потрудиться в перерывах между экспедициями, а может, чем черт не шутит, бабушка добьется в Петербурге ему отставки. Дай-то бог!..
Пока закладывали лошадей, Лермонтов давал Акиму различные поручения к Жуковскому, Краевскому, Соллогубу… Но тот, расстроенный отъездом друга, ничего не слышал. Когда Лермонтов сел в карету, Аким немного опомнился, и почти уже вослед карете сказал ему:
– Извини, Мишель, я ничего не понял, что ты говорил. Если что нужно будет, напиши, я все исполню.
– Какой ты еще дитя, – ответил Михаил Юрьевич. – Ничего, все перемелется – мука будет. Прощай, поцелуй ручку у бабушки и будь здоров…
И вот уже позади застава. Начинается настоящая Россия с ее непролазной грязью, разбитыми по весне дорогами, печальными селами и деревнями с покосившимися избенками… Лермонтов, устроившись поудобней в уголке кареты, закрыл глаза и скоро уснул под звон колокольчиков и заунывную песнь ямщика.
А вслед ему и втайне от него на Кавказ полетело предписание Николая I: «…дабы поручик Лермонтов непременно состоял налицо во фронте и чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в своем полку». Царь желал, чтобы опальный поэт был постоянно под угрозой чеченских пуль, которые могли освободить, успокоить его головную боль от очередного, после гибели Пушкина, возбудителя спокойствия. А если останется жив, то пусть торчит подальше от столицы.
На одной из станций, пока меняли лошадей, Лермонтов вышел с коляски, чтобы немного размять затекшие ноги. День угасал; лиловые облака, протягиваясь по западу, едва пропускали красные лучи. В храме, стоявшем на площади, звонили к вечерне. У ворот храма несколько нищих и увечных ожидали милости богомольцев; они спорили, бранились, делили медные деньги.
«Это люди, отвергнутые природой и обществом. Только в этом случае общество согласно бывает с природой. Эти люди, погибшие от недостатка или излишества надежд, олицетворенные упреки провидению; создания, лишенные права требовать сожаления, потому что они не имели ни одной добродетели, и не имеющие ни одной добродетели, потому что никогда не встречали сожаления. Их одежды – изображения их душ: черные, изорванные…» – грустно подумал Лермонтов, наблюдая происходящее у ворот храма.
– Христа ради, барин… Христа ради копеечку! – раздался слабый голос, и кто-то коснулся рукава его одежды.
Перед ним стоял нищий с протянутой рукой, наверное, слепой, тощее тело которого едва прикрывала ветхая и грязная одежда.
Лермонтов достал монету и положил ее в руку старца.
– Спасибо, тебе, добрый человек. Бог тебе воздаст. Ты добрый… А ведь мне уже не единожды вместо хлеба в руку клали камень… Бог их простит… – с покорностью в голосе произнес нищий.
Лермонтов в глубокой задумчивости вернулся к карете. Коней уже заменили. Он сел в карету, и она двинулась дальше. Михаил Юрьевич сидел, и в уме его звучали слова нищего: «А ведь мне уже не единожды в руку клали камень…» В голове мысли стали складываться в стихотворение:
У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.
Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку…
Он вспомнил это стихотворение, написанное более десяти лет назад. Тогда тоже была церковь, и они ехали с бабушкой и детьми соседей в деревню на лето. Тогда тоже были нищие… Ах, как далеко то, почти детское, время, когда он со всем жаром юного сердца отдался чувству любви к красивой девочке Кате Сушковой. Юная кокетка отвергла его признания, но осталось это стихотворение, которое заканчивалось словами:
Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!
Лермонтов грустно улыбнулся…
Глава вторая
Москва

Только через трое суток, 17 апреля 1841 года, в 7 часов пополудни, он приехал в Москву.
В Москве он остановился у Д.Г. Розена, своего однополчанина по Лейб-гвардейскому Гусарскому полку, в доме Костеровского в Староконюшенном переулке. Встреча друзей, обмен новостями Петербурга и Москвы, несмотря на утомительное путешествие Михаила Юрьевича, затянулись далеко за полночь…
В Москве Лермонтов встретился с друзьями и знакомыми. В первые дни он навестил Н.Н. Анненкова и его супругу Веру Ивановну, с которой Михаил Юрьевич был знаком ранее и посвятил ей стихи.
19 апреля он спешит написать письмо бабушке, чтобы ее успокоить:
«Милая бабушка! Жду с нетерпением письма от вас с каким-нибудь известием: я в Москве пробуду несколько дней, остановился у Дмитрия Григорьевича Розена; Алексей Аркадьич Столыпин здесь еще; и едет послезавтра. Я здесь принят был обществом по обыкновению очень хорошо – и мне довольно весело; был вчера у Николая Николаевича Анненкова и завтра у него обедаю; он был со мною очень любезен; – вот все, что я могу вам сказать про мою здешнюю жизнь; еще прибавлю, что я от здешнего воздуха потолстел в два дни; решительно Петербург мне вреден; может быть, также я поздоровел оттого, что всю дорогу пил горькую воду, которая мне всегда очень полезна. Скажите, пожалуйста, от меня Екиму Шангирею, что я ему напишу перед отъездом отсюда и кое-что пришлю.
Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что бог вас вознаградит за все печали. Целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь, покорный внук М. Лермонтов».
На следующий день к Розенам зашел Ю.Ф. Самарин – публицист, философ, славянофил, с которым Михаил Юрьевич познакомился еще три года назад. Они с первой встречи прониклись взаимной симпатией. На этот раз Самарин заметил перемены в характере поэта. Его в высшей степени артистическая натура подавлялась тяжелым, проницательным взглядом, какой-то индифферентностью в восприятии собеседника, которая часто сменялась простотой обращения и детской откровенностью.
Воспоминания о Кавказе оживили их беседу. Лермонтов рассказывал о стычках с горцами, в которых он участвовал, особенно о той, в которой был ранен его друг Трубецкой. Голос его вдруг задрожал, и он готов был прослезиться…
После некоторой паузы беседа продолжилась. Самарин начал говорить о положении в обществе, о страдании людей…
– Хуже всего не то, что известное количество людей терпеливо страдает, а то, что огромное количество страдает, не сознавая этого… Но горе будет, когда они это осознают, – медленно произнес Лермонтов. – Я много думал об этом, будучи еще юношей, – продолжил он после короткой паузы, – мои размышления отразились в стихотворении:
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь – и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож;
И горе для тебя! – твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.
– Какое мощное и мрачное предсказание, Михаил Юрьевич. В нем чувствуется нечеловеческая сила и мощь прозрения. Неужто такое может быть у нас в России? – каким-то изменившимся голосом проговорил Самарин.
– Европа нам показала, что такое вполне может быть. Но русский народ терпелив… А примеры ведь есть и у нас. Вспомните, Юрий Федорович, пугачевщину… декабрь 1825 года… А знаешь, Самарин, я многое задумал. Хочу издавать свой большой журнал. Это будет журнал, наполненный настоящей литературой, наполненный самой жизнью… Сегодня его так не хватает для нашего сонного общества…
Они еще долго говорили, в том числе и о литературных новостях, об ожидаемом втором издании «Героя нашего времени», о невероятном успехе у читателей Москвы вышедшей недавно книги стихов Лермонтова. Прощаясь, Михаил Юрьевич попросил Самарина передать в журнал «Москвитянин» свое стихотворение «Спор».
Как-то раз перед толпою
Соплеменных гор
У Казбека с Шат-горою
Был великий спор.
«Берегись! – сказал Казбеку
Седовласый Шат, —
Покорился человеку
Ты недаром, брат!
Он настроит дымных келий
По уступам гор;
В глубине твоих ущелий
Загремит топор;
И железная лопата
В каменную грудь,
Добывая медь и злато,
Врежет страшный путь…»
Это стихотворение было особым в его творчестве, открывало в нем новое направление. Оно отличалось многоплановостью общественно-исторических и философских исканий Лермонтова, поднимало обширный круг вопросов: предназначения России, отношений Востока и Запада, цивилизации и природы. Россия предстает в нем живой, активной силой, противодействующей «дряхлому» Востоку, погруженному в многовековой сон.
Они договорились встретиться у Самарина вечером.
– Михаил Юрьевич, вечером у меня обещалась быть Катерина Потапова, будут Голицын, Зубов…
– Ты меня уже соблазнил Потаповой, говорят, она скоро выходит замуж… Почему-то все хорошенькие женщины становятся чьими-то женами.
Самарин рассмеялся.
– Не переживай, Михаил Юрьевич, у тебя еще все впереди.
– Ты меня успокоил, обязательно вечером буду у тебя…
Но Михаил Юрьевич в тот вечер не пошел к Самарину. Он послал слугу предупредить Самарина, что обстоятельства не позволяют быть у него.
Лермонтову стало известно, что в Москве находится княгиня Мария Щербатова, женщина, которую он боготворил и которая отвечала ему взаимностью. Защищая ее честь, он дрался на дуэли с де Барантом, сыном французского посланника. За эту дуэль царь и сослал его на Кавказ.
«Я должен ее увидеть!» С этой мыслью он подошел к дому, где остановилась Щербатова. Войдя в дом, он попросил доложить о себе, и сразу же услышал ее голос:
– Проси!
– Пожалуйте! – сказал слуга.
Лермонтов почти вбежал в комнату. Щербатова стояла у стола, и глаза ее наполнялись слезами…
– Миша! – вырвался ее радостный почти крик.
– Машенька, как я рад, – горячо ответил Лермонтов, обнимая ее за плечи и целуя ее руки, глаза и губы. – Как я счастлив вновь видеть тебя! Я искал тебя в Петербурге, а нашел в Москве… Я все знаю, все твои несчастья и горечи, которые свалились на эти прекрасные плечи… Мне в Петербурге все рассказали, … и о твоих хлопотах по разделу имущества… Я тебя очень люблю, и никогда не переставал любить. И даже в самые трудные и опасные минуты на Кавказе я думал о тебе, я видел твои вот эти синие глаза, я мысленно обнимал тебя…
– И я, поверь, Мишель, безумно рада прижаться вновь к твоей груди и слышать, как бьется твое сердце. Все это время без тебя меня преследуют одни несчастья… Смерть моего сына, малютки… Это был наш сын, Мишель…
Щербатова закрыла лицо руками. Лермонтов помог ей сесть в кресло.
– Маша, что ты говоришь, это правда? Почему ты мне раньше об этом ничего не говорила?.. Боже мой, какая несправедливость!.. Я разделяю твое горе, но оно не должно омрачить радости нашей встречи… Улыбнись, я рядом, я люблю тебя, как и прежде…
– Миша, родной мой мальчик, я счастлива слышать эти слова. Они для меня как чарующая музыка… Видишь, я уже улыбаюсь… – почти шепотом сказала Щербатова, утирая слезы.
– Помнишь, Маша, ты просила меня молиться за тебя? Я исполнил твое желание. Я даже придумал эту молитву. Хочешь, я тебе ее прочитаю?
– Конечно, родной…
Лермонтов, став перед ней на колени, стал читать:
В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко…
Щербатова поцеловала его в голову и тоже стала перед ним на колени.
– Мишенька, я преклоняюсь перед твоим талантом, – сказала она, заглядывая ему в глаза. – Я тебе безмерно благодарна за твои чувства ко мне. Мне они очень дороги, дороги моей одинокой душе…
Они проговорили весь вечер. Было уже поздно.
– Миша, ты сегодня останешься у меня? – робко спросила Щербатова.
– Если позволишь… Ты же знаешь, быть рядом с тобой для меня огромное счастье…
Утром они пили чай, молчали и с грустью смотрели друг на друга.
– Тебе когда ехать? – спросила Щербатова.
– Еще один день в Москве. Сегодня я провожу на Кавказ Столыпина, вечером надо быть у Погодина… Потом уеду вслед за Монго… Надо уходить, Машенька. Спасибо тебе за все! Будем прощаться… Бог знает, свидимся ли когда еще… У меня плохие предчувствия… – грустно промолвил Лермонтов.
– Бог даст, все будет хорошо, и мы с тобой встретимся, друг мой…
Слезы снова появились на ресницах Щербатовой.
– Мне тоже предстоит поездка через несколько дней на Украину, – продолжила она, – может быть, я там многое забуду, развеюсь… Буду вспоминать нашу встречу…
Они обнялись, поцеловали друг другу глаза и губы. Лермонтов долгим взором заглянул в ее глаза, поцеловал руку, поклонился и ушел…
22 апреля Лермонтов провожал на почтовой станции Монго, который также направлялся на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк.
– Дорогой Монго, удачной тебе дороги. Приедешь в Тулу, не торопись, подожди меня, я тебя догоню, и поедем вместе. Вместе будет веселей.
– Ты только не задерживайся здесь. Конечно же, я тебя подожду, – сказал Столыпин, обнимая Лермонтова.
– Нет, Монго, долго я здесь не задержусь. Сегодня на вечер меня пригласил Погодин, и я ему дал согласие. Он пообещал познакомить меня с Гоголем. А завтра отправлюсь вслед за тобой.
Друзья на прощанье обнялись…
На вечере у Погодина Лермонтов молчал, сидел грустный, погрузившись в свои мысли. Гости пытались расшевелить его, вызвать на разговор, но он отделывался лишь короткими фразами.
– Михаил Юрьевич, – обратился к нему хозяин дома, – мы все ждем от тебя, что ты нас обрадуешь чем-нибудь новеньким.
Лермонтов, словно сбросив с себя груз мыслей, неожиданно ответил:
– Извольте, совсем свежее, – и начал читать:
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же изгнанники,
С милого севера в сторону южную.
Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?
Нет, вам наскучили нивы бесплодные…
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.
Эти стихи он сочинил прямо здесь, только что.
Все были ими очарованы, все поздравляли его. Лермонтов кланялся, с лица его не сходила грустная улыбка…
Он давно и сам уже был вечным странником, а теперь еще и изгнанником. Государь император, изгоняя провинившегося офицера на Кавказ, не удержал издевки в письме императрице: «Счастливый путь, господин Лермонтов, пусть он, если это возможно, прочистит себе голову…»
Здесь же он впервые встретился с Гоголем. Гости сидели в саду. Пыль, золотясь от вечерней зари, оседала на деревьях.
Гоголь, подойдя и прищурив глаза, долго смотрел на Лермонтова – чуть сутуловатого офицера – и лениво сказал, что стихи его прекрасны, но Лермонтов, очевидно, не знает русского народа, так как привык вращаться в свете. «Попейте кваску с мужиками, поспите в курной избе рядом с телятами, поломайте поясницу на косьбе – тогда, пожалуй, вы сможете – и тогда ваши стихи будут еще лучше».
Лермонтов вежливо промолчал. Это Гоголю не понравилось.
Лермонтов был удивлен разговорами Гоголя, его брюзгливым голосом. За ужином Гоголь долго выбирал, помахивая в воздухе вилкой, в какой соленый груздь эту вилку вонзить.
Одно было ясно Лермонтову – Гоголь им пренебрегал. «Способный, конечно, юноша. Написал превосходные стихи на смерть Александра Сергеевича, и сегодня отличился. Но мало ли кому удаются хорошие стихи! Писательство – это богослужение, тяжкая схима. А офицер этот никак не похож на схимника».
В ответ Гоголю Лермонтов, выждав время, прочел отрывок из «Мцыри».
Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел, благодарю.
Все лучше перед кем-нибудь
Словами облегчить мне грудь;
Но людям я не делал зла,
И потому мои дела
Немного пользы вам узнать, —
А душу можно ль рассказать?
Я мало жил, и жил в плену.
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
Я знал одной лишь думы власть,
Одну – но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской;
Ее пред небом и землей
Я ныне громко признаю
И о прощенье не молю…
– Еще что-нибудь, – приказал Гоголь.
Тогда Лермонтов прочел посвящение Марии Щербатовой:
На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украйны она променяла…
Гоголь слушал, сморщив лицо, ковырял носком сапога песок у себя под ногами, потом сказал с недоумением:
– Так вот вы, оказывается, какой! Пойдемте!
Они ушли в темную аллею. Никто не пошел вслед за ними. Гости сидели в креслах на террасе. Обгорали на свечах зеленые прозрачные мошки. На бульваре лихо позванивала карусель.
В аллее Гоголь остановился и повторил:
Как ночи Украйны,
В мерцании звезд незакатных,
Исполнены тайны
Слова ее уст ароматных…
Он схватил Лермонтова за руку и зашептал:
– «Ночи Украйны, в мерцании звезд незакатных…» Боже мой, какая прелесть! Заклинаю вас: берегите свою юность.
Гоголь сел на скамью, вынул из кармана клетчатый платок и прижал его к лицу. Лермонтов молчал. Гоголь слабо махнул ему рукой, и Лермонтов, стараясь не шуметь, ушел в глубину сада. Ему не хотелось возвращаться к гостям, он легко перелез через ограду и вернулся в дом Розена, который находился рядом. Надо было собираться в дальнюю дорогу.
Прощай, Москва! Лермонтов занял место в карете, и кони понесли его снова по дорогам России. Поручик Тенгинского пехотного полка Лермонтов ехал на Кавказ, в ссылку, которая была сродни путешествию с билетом в одну сторону. За окном кареты снова потянулись грязные дороги, нищие, печальные деревни, люди с изможденными, хмурыми лицами… Грустные мысли Лермонтова скоро оформились в стихотворные строки:
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ.
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































