Читать книгу "Пророк, или Загадка гибели поэта Михаила Лермонтова"
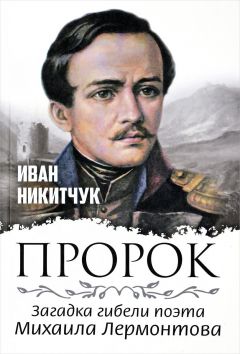
Автор книги: Иван Никитчук
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Михаил Юрьевич, дорогой, – обратилась к нему Карамзина, – вы сегодня совсем другой, молчите… Мне кажется, вы чем-то расстроены…
– Софья Николаевна, добрая душа, ну что меня может расстроить, кроме царской немилости. Кабы знал, где упаду, там бы соломки подостлал… Вчера мне сказали, что их величество в очередной раз вычеркнул меня из наградного списка. Двору я не мил. А это значит, что не видать мне отставки. Снова сошлют меня под чеченские пули…
– Ну, что вы так, Михаил Юрьевич? Все уладится, все будет хорошо. Я знаю, что за вас хлопочет Жуковский, а он имеет большое влияние при Дворе.
Лермонтов посмотрел на Карамзину, потом на Жуковского своими печальными глазами. Горькая улыбка застыла на его лице.
– Ах, Софья Николаевна, ничего этого не будет… Я чувствую, что жить мне осталось совсем немного.
– Михаил Юрьевич, ну, зачем эти грустные мысли?! Все вас просят прочитать нам ваши новые стихи. И я очень прошу.
– Может быть, в другой раз? Ей-богу, мне сегодня не до стихов.
В зал вошел еще один гость – граф Соллогуб. Он поцеловал руку Софьи Николаевны и сразу же обратился к Лермонтову:
– Михаил Юрьевич, я к тебе с приятной новостью.
– Для меня приятная новость? И что это за такая?
– Я узнал, что цензура выдала разрешение на печатание вашего романа «Герой нашего времени». Поздравляю!
– Спасибо, граф! Спасибо, Владимир Александрович! Это действительно радостное для меня известие.
Лицо Лермонтова просветлело. Все гости оживились, поздравляя его с этой новостью.
– Граф, – обратилась Карамзина к Соллогубу, – поддержите нас, упросите Михаила Юрьевича прочитать нам свои новые стихи.
– Я думаю, Михаил Юрьевич нам не откажет, – глядя на Лермонтова, сказал граф, – Он ведь видит и мое нетерпение услышать их.
Лермонтов нехотя поднялся со своего стула и подошел к окну. Софья Николаевна, Соллогуб и еще двое-трое из гостей окружили Лермонтова, приготовившись его слушать. Он оглянул всех беглым взглядом, потом, словно задумавшись, медленно начал читать:
На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил;
Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада.
Час разлуки, час свиданья —
Им ни радость, ни печаль;
Им в грядущем нет желанья
И прошедшего не жаль.
В день томительный несчастья
Ты об них лишь вспомяни;
Будь к земному без участья
И беспечна, как они!
Несколько минут все молчали, завороженные прекрасными стихами и прекрасным исполнением автора. Потом все кинулись обнимать Лермонтова, выказывая истинное восхищение.
Кто-то воскликнул:
– Это по-пушкински!
– Нет, это по-лермонтовски! Одно другого стоит, – возразил Соллогуб.
Лермонтов стоял с глазами, наполненными слезами.
– Нет, друзья, далеко мне до Пушкина, – сказал он, грустно улыбнувшись, – да и времени работать мало осталось: убьют меня… Я чувствую это.
Все стали утешать и поздравлять Михаила Юрьевича. Но он, никого не слушая, взял за руку Соллогуба и отошел с ним в сторонку. Здесь, встав перед ним, Лермонтов стал взволнованно говорить:
– Послушай, Владимир, скажи мне правду. Слышишь – правду… Как добрый товарищ, как честный человек, как поэт… Есть у меня талант или нет?.. говори правду!..
– Помилуй, Лермонтов, – стал отвечать Соллогуб с настойчивостью в голосе, – как ты смеешь меня об этом спрашивать! – человек, который, как ты, который написал…
– Хорошо, – примирительно начал Лермонтов, – ну, так слушай, милостивый государь: когда я вернусь, а ты женишься, образумишься, я тоже, и вместе с тобою станем издавать толстый журнал…
– Конечно, Михаил Юрьевич, – соглашался Соллогуб.
Но ему показалось, что какое-то тайное скорбное предчувствие зарождается в его душе, подсказывающее, что не бывать этому.
Вскоре Лермонтов распрощался с гостями, поцеловал руку Софьи Николаевны и откланялся.
Бабушка добилась продления отпуска для внука еще на две недели. Лермонтов был счастлив. Он много гулял по улицам весеннего Петербурга, дыша петербургским воздухом. Лермонтов все чаще думал о Пушкине, применял его судьбу к своей. И все больше находил несовпадений.
Пушкин жил в окружении людей, близких по духу. Лицейское товарищество было важнейшей частью его жизни, тем светлым кругом от лампы, где душе казалось вольно и уютно… Лермонтов, как и Тютчев, прошел мимо Пушкина, не был им особо замечен, находился как бы за чертой света, хотя стихи его Пушкин читал. В сущности, жадности к новым дарованиям у Пушкина могло и не быть: он сам был переполнен до краев. То, что он хвалил (и, наверно, искренно) стихи своих приятелей, говорило лишь о том, что их пустоты и слабины он безотчетно заполнял собою. Он нуждался в ласке и побратимстве. Лермонтов мог обходиться самим собой.
Пушкин не выходил из-под обаяния образа Петра. Восхищался им и противоборствовал ему, искал литературному образу точный исторический эквивалент.
Для Лермонтова Петр словно вовсе не существовал. Самой влекущей фигурой в истории для него стал Наполеон – почти современник (когда умер Наполеон, Лермонтову было уже одиннадцать лет). Иван Грозный был интересен не столько как личность, сколько как весь отрезок времени, придавленный тяжелой дланью царя, – и то, как выпрямлялись люди, вырываясь из-под этой длани. Мотив, в высшей мере созвучный самому поэту!.. Но Пугачев притягивал их обоих. Они постоянно возвращались к нему пером и мыслью…
Лермонтов посещал друзей, салон Карамзиных, Смирновой-Россет и других важных дам. Познакомился с поэтессой Е.П. Ростопчиной – Додо, как ее называли близкие, часто обедал у нее. Как поэтические натуры они хорошо понимали друг друга, и это их сблизило. Встречались они едва ли не каждый день, обмениваясь впечатлениями о литературных новинках. Они обменялись и стихотворными посланиями. Евдокия Петровна подарила ему стихотворение «На дорогу»:
Михаилу Юрьевичу Лермонтову
Ты бросишь все, столь нежно любимое.
Данте. «Божественная комедия»
Есть длинный, скучный, трудный путь…
К горам ведет он, в край далекий;
Там сердцу в скорби одинокой
Нет где пристать, где отдохнуть!
Там к жизни дикой, к жизни странной
Поэт наш должен привыкать
И песнь, и думу забывать
Под шум войны, в тревоге бранной!..
Михаил Юрьевич вписал в альбом Ростопчиной:
Графине Ростопчиной
Я верю: под одной звездою
Мы с вами были рождены;
Мы шли дорогою одною,
Нас обманули те же сны.
Но что ж! – от цели благородной
Оторван бурею страстей,
Я позабыл в борьбе бесплодной
Преданья юности моей.
Предвидя вечную разлуку,
Боюсь я сердцу волю дать;
Боюсь предательскому звуку
Мечту напрасную вверять…
Евдокия Петровна, прочитав стихотворение, стала возражать против слов о вечной разлуке:
– Михаил Юрьевич, ни к чему такая мрачность! Я верю, что все обойдется и мы с вами еще вместе посотрудничаем в каком-нибудь журнале. Лучше в вашем.
– Любезная Додо, поверьте, это не мрачность или напускной байронизм. Я далек от всего этого. Я, как и, наверное, любой человек, люблю жизнь и не хочу умирать. Мною намечено много планов, которые надо бы осуществить… В этот приезд я сильно изменился. Вы, наверное, это заметили. Времяпрепровождение в свете больше не манит меня. На балах я встречаю тех же дам с невинно-ядовитыми улыбками, тех же пустых блестящих адъютантиков. По гостиным поют те же самые романсы и теми же сахарными голосами. Когда гусары зовут меня к ломберному столу, я ставлю несколько карт, потом, зевая, удаляюсь. Но душа моя в тревоге… Знаете, вчера я был у одной гадалки, так она мне сказала, что больше не бывать мне в Петербурге, что я получу отставку, но воспользоваться ею не смогу.
– Стоит ли уж так верить гадалкам?
– Это не простая гадалка, дорогая графиня. Она нагадала гибель нашего незабвенного Александра Сергеевича.
– И все же, Михаил Юрьевич, я бы не стала придавать ее словам столько серьезности.
– Спасибо, вам, Додо, за слова утешения, но от судьбы не уйти никому… Впрочем, я у вас, кажется, засиделся, мне пора. Еще увидимся. Целую вашу ручку.
Дома его встретила взволнованная бабушка.
– Мишенька, где ты так долго был? Я уже все глаза проглядела.
– Бабуля родная, был у друзей, у знакомых, заезжал к Жуковскому, Краевскому, Одоевскому, обедал у графини Ростопчиной… Был у Софьи Соллогуб. Какая же она красавица! Она сказала сегодня, что у меня магический взгляд, и я на нее имею магнетическое влияние. Муж ее, кажется, ревнует меня к своей жене и не любит меня… Это так забавно. Я, чтобы муж перестал ее ревновать, написал для нее стихотворение и уже вручил его ей. Вот послушай, бабушка.
Лермонтов улыбнулся и начал читать:
Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье:
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.
Когда порой я на тебя смотрю,
В твои глаза вникая долгим взором:
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.
Я говорю с подругой юных дней,
В твоих чертах ищу черты другие,
В устах живых уста давно немые,
В глазах огонь угаснувших очей.
– Мишенька, у тебя прекрасные стихи, все об этом говорят. И тебя здесь все любят…
Лермонтов посмотрел с грустной улыбкой на Елизавету Алексеевну:
– Это вам, моя родная, только так кажется. Если и любят, то, помимо вас, бабушка, еще три, четыре человека. Двор меня ненавидит…
– Ну, что ты, Мишенька, их величество отнесся с уважением к моей просьбе и продлил твой отпуск. Может, смилостивится и вообще разрешит тебе остаться в столице?..
– Ой, пустая моя голова, – сплеснув руками, проговорила Елизавета Алексеевна, – совсем забыла. Приходил курьер, принес тебе приглашение к завтрашнему дню явиться в военное министерство. Вон оно на столе лежит. Может, завтра скажут, чтобы ты оставался здесь, в Петербурге?
Лермонтов подошел к столу, взял в руки присланную бумагу, посмотрел и снова положил ее обратно на стол.
– Нет, бабушка, боюсь, что не скажут. Надо снова собираться в дальнюю дорогу…
– Бог смилостивится! Все будет хорошо. Ты сегодня вечером зван?
– Зван, но я хочу сегодня побыть одному.
– Отдохни, Мишенька. Я сейчас велю приготовить тебе ужин.
С этими словами бабушка вышла хлопотать, а Михаил Юрьевич сел за стол, на котором светила свеча, лежала стопка бумаги, перья и чернильница. Лермонтов взял в руку перо…
И скучно и грустно! – и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды…
Желанья… что пользы напрасно и вечно желать?
А годы проходят – все лучшие годы!
Любить – но кого же? – на время не стоит труда,
А вечно любить невозможно…
В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа,
И радость, и муки, и все там ничтожно.
Что страсти? – ведь рано иль поздно
их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка,
И жизнь, как посмотришь
с холодным вниманьем вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка!
– Какая тоска! – негромко произнес Лермонтов.
На следующий день Лермонтов отправился в военное ведомство. В приемной дежурного генерала Главного штаба графа Клейнмихеля Лермонтову предложили пройти в его кабинет. Кабинет оказался обширной комнатой, уставленной старинной мебелью с огромным портретом царя Николая I. В кресле с высокой спинкой сидел сам Клейнмихель, довольно пожилой человек.
При входе Лермонтова он поднял голову и, глядя куда-то в сторону, медленно проговорил слегка скрипучим голосом:
– Господин Лермонтов, мне поручено довести до вашего сведения высочайшую волю государя императора, из которой следует, что вы обязаны покинуть Петербург в течение 48 часов и отправиться в расположение вашего Тенгинского полка. Одновременно их императорское величество изволил заметить, что отпуск вам был предоставлен не для посещения балов и театров, а для свидания с вашей престарелой бабушкой. В вашем положении неприлично разъезжать по праздникам, особенно когда на них бывает Двор. Подорожную и прогонные получите в канцелярии. Не смею вас более задерживать.
– Ваше превосходительство, – обратился Лермонтов, – значит ли это, что поданное ходатайство на высочайшее имя о продлении моего пребывания в столице отклонено?
– Вам продлили отпуск на две недели. Он, как вам известно, подошел к концу. У меня нет никаких других сведений, кроме тех, которые вам сказаны. Не смею вас больше задерживать.
Проговорив это, генерал уткнулся в лежащие на столе бумаги.
Лермонтов вышел от Клейнмихеля взбешенным. Его вывели из равновесия и само приказание убраться из столицы в 48 часов, и тот тон, которым с ним разговаривали.
– Он говорил со мной так, как будто я его слуга, выставив меня за дверь… Вот они – кабинетные вельможи, для которых судьба человека ничего не значит! И что ему какой-то офицеришка!.. – зло высказался Михаил Юрьевич.
Сев в экипаж, он приказал ехать к Краевскому. Не застав его дома, повернул к Карамзиным.
Сидя в экипаже, он с некоторым удивлением подумал о выросшей своей популярности. Недавно вышедшую книжку стихов, куда он включил всего двадцать восемь произведений, в Москве покупали чуть не с боя. В Петербурге все выглядело сдержаннее, но литературные круги встретили его уже как бесспорно своего. Белинский смотрел на него влюбленно, Краевский с жадностью хватал любой черновик, Карамзины обижались, если он пропускал хотя бы один их прием.
У Карамзиных собралась целая компания. Здесь был и Краевский. Все с радостью встретили Лермонтова. Вечер у Карамзиных разгорался, как теплый огонек в печи. На столе шумел сменяемый самовар.
Петр Андреевич Вяземский задал всем тему, утверждая, что стихи надобно читать, сообразуясь с логикой и смыслом, а не монотонной скороговоркой, как проборматывал их Пушкин.
Дух Пушкина витал в этих стенах, и на него поминутно оборачивались.
– Вот и нет! Пушкин читал как истинный поэт, – пылко возразила Евдокия Ростопчина, считавшая себя ученицей Пушкина с тех пор, как тот одобрил стихотворные опыты восемнадцатилетней девушки. Пушкину даже пришлось утихомиривать тогда ее деда Пашкова, пришедшего в негодование от неприличия самого факта: стихи дворянской девицы, его внучки, напечатаны в альманахе «Северные цветы»!
– Обыденность интонаций принижает стих, – продолжала Евдокия Петровна. – Без ритма он не может существовать. Поэт мыслит не только словами, но и мелодией. Вы согласны? – обратилась она к присутствующим поэтам. Владимир Федорович Одоевский кивнул со своим обычным сомнамбулическим видом. Мятлев неопределенно пожал плечами. Лермонтов задумался.
– Нельзя по старинке только выпевать стих, – с досадой сказал он. – У стиха есть мускулы, он способен напрячься. Страсть чувства передается острием рифмы. О, я положительно несчастен, когда образ, найденный в кипении, вдруг застывает и давит на меня, как надгробие. Стихи могут жить только в движении, в изменчивости обличий. Люблю сжимать фразу, вбивать ее в быстрые рифмы, но, когда нужно для мысли, вывожу ее за пределы одной-двух строк, растягиваю в ленту. Мысль должна жить и пульсировать. Вот вам мое кредо, милая Авдотья Петровна!
– Вы немыслимый вольнодумец, Мишель! Ищете свободу даже от цезуры и ямба, – отозвалась Додо, скорее одобрительно, чем порицая.
Мятлев и Одоевский слушали их разговор с полным вниманием, сочувствуя Лермонтову, хотя его взгляды едва ли совпадали с архаическими поисками Одоевского или с полными юмора поэмами Мятлева.
Пауза не ускользнула от острого внимания Софьи Карамзиной.
– Вот и прекрасно, – воскликнула она, торопясь дать нужное направление возникшей заминке. – Каждый станет читать свои стихи, а мы послушаем и решим, кто более прав. Согласны?
Гости задвигались и заулыбались. Чтение стихов было обычным на этих вечерах, где редко танцевали, и, вопреки принятому правилу, никогда не играли в карты.
– Вы начнете, князь?
Петр Андреевич Вяземский слегка поклонился и поправил очки. Он произносил стихи, как слова в разговоре, сопровождая их обычной для него улыбочкой, вкладывая двойственный смысл в каждое выражение:
Сердца томная забота,
Безымянная печаль!
Я невольно жду чего-то,
Мне чего-то смутно жаль.
Не хочу и не умею
Я развлечь свою хандру:
Я хандру свою лелею,
Как любви своей сестру.
Стихи были старые; Петру Андреевичу писалось все труднее и труднее с каждым годом. Но все сделали вид, что слышат их в первый раз.
Мятлев, умница, дипломат, насмешник, читал театрально, простирая вперед руки, играя лицом и тоном. Он по-актерски нажимал на те слова, которые казались ему особенно трогательными:
Как хороши, как свежи были розы
В моем саду. Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой…
Настал черед Лермонтова. Он произносил стихи сдержанно и отчетливо, без драматических ударений, выдерживая ритм. Его голос звучал то глуховато, то звенел баритональным металлическим гудением, словно издалека ударяли в колокол. Глаза его, не мигая, смотрели на яркий огонь стеариновых свечей:
Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья,
Но я люблю – за что, не знаю сам —
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
«Какое львиное трагическое лицо!» – пронеслось в уме Одоевского, пока его уши жадно впитывали своеобразную мелодику лермонтовской речи.
«Боек не по возрасту и не по роду. В чертах что-то восточное. А вовсе не шотландское, как ему угодно вообразить!» – Князь Петр Андреевич Вяземский тем сильнее раздражался, чем властнее брали его в плен, помимо воли, лермонтовские стихи.
«Ай да офицерик! Колышет строфу, как на волнах, и я качаюсь вместе… слушал бы да слушал…» – безгрешно восхищался Мятлев.
«Конечно, он умнее их всех здесь, – думала Софи Карамзина. – Пушкин, бывало, забавлял меня и радовал, но от этого человека ознобно, как на морозе. Что готовит ему судьба? Боже! Защити и помилуй…»
Лермонтов закончил чтение, но никто не шевелился. Молчание прервал Краевский:
– Михаил Юрьевич, вы обязаны отдать мне это стихотворение для печати. Экая дьявольская сила в нем заключена! Такому, пожалуй, и французы бы позавидовали…
– Любезный Андрей Александрович, хочу заметить, мы должны жить своею самостоятельною жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам все тянуться за Европою и за французским. Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов, и для нас еще мало понятны. Но, поверь мне, именно там, на Востоке, тайник богатых откровений…
– Именно туда скоро я и отправляюсь. – После некоторой паузы продолжил Лермонтов. – Только что Клейнмихель объявил мне монаршую волю – в 48 часов отправиться на Кавказ в свой полк. Я знаю, это конец! Ворожея у Пяти углов сказывала, что в Петербурге мне больше не бывать, а отставка будет такая, после которой уже ничего не попрошу…
Одоевский в безотчетном предчувствии подошел к окну, взглянул на гнилые сумерки петербургской весны.
– Душно у нас и темно, – сказал он.
– Право? А я не чувствую, – рассеянно отозвался Лермонтов. – Мне хорошо здесь.
– Отчего же хорошо, мон шер? – не то с досадой, не то с удивлением сказал князь. – Всё пятимся назад. Что было обнадеживающего, светлого, вспять течет, как река.
– Реки вспять не идут, – сказал Лермонтов с мягкостью и терпением. – Реки к крутизне стремятся. Я насмотрелся на кавказские стремнины: лишь упав с высоты, разбившись на тысячу струй, река и собирает себя воедино, вольно течет к морю.
– Так ты веришь в ясную будущность?
– Разумеется. – Лермонтов тоже посмотрел на густеющий туман, на желтоватые капли испарины в стеклах. – Но не для себя. Мне-то головы не сносить. Царь – животное плотоядное.
– Бог знает, что ты говоришь! – расстроенно вскричал Одоевский. – Грешно, брат.
– Прости, не стану.
Владимир Федорович с поспешностью начал рыться в своих карманах. Из одного добыл песочного цвета дорожный альбом на застежке. Макнул в чернильницу перо, сделал надпись широким почерком: «Поэту Лермонтову, дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам и всю исписанную, к. В. Одоевский. 1841. Апреля 13-е. С. Пбург»…
– Возьми, Михаил Юрьевич, и исполни то, что здесь мной написано. Теперь попробуй, ослушайся!
Они обнялись.
– Михаил Юрьевич, вы давно мне обещали написать в альбом, – подойдя к ним, обратилась София Карамзина, – вот и альбом.
– Обещание даме надо выполнять, Мишель, – улыбаясь, сказал Одоевский.
– Непременно! Дайте только возможность мне где-то посидеть в уголочке.
– Вот здесь вам будем удобно, – сказала Софья Михайловна, усаживая Лермонтова за стол в дальнем углу залы.
– Конечно! Спасибо, Софи…
Примерно через четверть часа Лермонтов вернул Карамзиной альбом с вписанным стихом.
Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
И бури шумные природы,
И бури тайные страстей.
Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный
И оглушающий язык.
Люблю я больше год от году,
Желаньям мирным дав простор,
Поутру ясную погоду,
Под вечер тихий разговор,
Люблю я парадоксы ваши
И ха-ха-ха, и хи-хи-хи,
Смирновой штучку, фарсу Саши
И Ишки Мятлева стихи…
– Какая прелесть, Михаил Юрьевич, – с восхищеньем воскликнула Софья Николаевна. – Спасибо! Спасибо! Спасибо!.. Михаил Юрьевич, как вы посмотрите, если здесь у меня устроить вечеринку, чтобы проводить вас?
– Право, мне не хотелось бы вас затруднять…
– Нас это вовсе не затруднит, – ответила Карамзина.
– Михаил Юрьевич, Мишель, соглашайся, – сказали вразнобой все присутствовавшие.
– Друзья, я принимаю ваше предложение, и прошу всех прийти. Мне будет очень приятно провести с вами последний вечер.
В последний день отпуска, вечером провожали на Кавказ Лермонтова. Салон Карамзиных. За окнами – Летний сад в туманной весенней зелени. Сумерки. Блещущая закатом Нева.
За круглым чайным столом непринужденное и веселое общество. Софья Карамзина, Мусина-Пушкина, Вяземский, Александр Тургенев, Лермонтов, другие гости. Екатерина Карамзина разливает чай.
– Самое интересное зрелище, какое мне привелось видеть в жизни, – это обед у Жуковского, когда Крылов ел поросенка и от удовольствия мог только шевелить пальцами. Потом его отвели в кабинет, и он проспал на диване до утра. Проснувшись, рассказывал, что снилось ему, будто государь, Николай Павлович, стоит у стола, трет хрен с сахаром и плачет крупными слезами, – со смехом рассказывает Вяземский.
Все смеются, кроме Лермонтова и Мусиной-Пушкиной. Мусина-Пушкина только слабо улыбается. Лермонтов гладит мохнатого пса и незаметно дает ему тартинку. Мусина-Пушкина грозит Лермонтову пальцем.
– Страшен сон, да милостив бог, – реагирует на сказанное Екатерина Карамзина, мать Софьи.
– А вы слышали новость, господа? На Булгарина в Нарве напали разбойники. Окунули его с головой в реку, и в кармане у него раскис очередной пасквиль на русскую литературу, – подлил масла в огонь юмора Тургенев.
Снова все смеются, кроме Лермонтова. Мусина-Пушкина тревожно взглядывает на него. Лермонтов сидит сгорбившись, смотрит за окно, где в густых сумерках пылает странным желтоватым огнем зелень Летнего сада.
– Ничем не удается развеселить его, – почти шепотом говорит Софья Карамзина Вяземскому.
– Вы видите, София Николаевна, мы уж с Тургеневым стараемся вовсю, как два старых рысака, но ничто не помогает, – тоже шепотом отвечает ей Вяземский.
– А Мятлев будет сегодня? – спросил Тургенев.
– Обещался прийти, – ответила Екатерина Карамзина.
– Вы знаете, какую дерзкую штуку он на днях отколол на обеде у графини Воронцовой? Он сидел с молоденькой маркизой Траверсе. Маркизу преследовал поклонник, адъютант наследника, – он поднес ей огромный букет. Маркиза имела неосторожность пожаловаться Мятлеву на назойливость поклонника. Что же делает Мятлев? Он требует у лакея блюдо, берет букет, крошит ножом цветы и листья на мельчайшие кусочки, поливает маслом, солит, перчит и приказывает лакею отнести этот салат из цветов поклоннику в качестве угощения, присланного маркизой, – смеясь рассказал Тургенев.
– Сразу узнаю Ишку Мятлева! – сказала Софья Карамзина.
– Да, это очень забавно, – говорит Лермонтов, не улыбаясь, думая о чем-то своем и гладя собаку.
После недолгого молчания:
– Софи, вы знаете, что сегодня я уеду на Кавказ прямо отсюда? Я распорядился, чтобы лошадей подали к вашему крыльцу. С бабушкой я уже попрощался. Бедная моя бабушка… Сколько было слез…
– Это очень хорошо, по-дружески, Мишель, спасибо, – ответила Софья Карамзина.
– Наталия Николаевна Пушкина! – объявил слуга в дверях.
Мужчины встали. Екатерина и Софья Карамзины торопливо пошли к дверям. Вошла Наталия Пушкина.
– Какая редкая гостья! – воскликнула Екатерина Карамзина.
– У меня столько забот с детьми, что я с трудом освобождаю для себя только два вечера в неделю, – здороваясь со всеми, сказала Пушкина.
Лермонтов последним поцеловал у нее руку.
– Я слышала, что вас снова усылают на Кавказ, Михаил Юрьевич.
Лермонтов поклонился.
– Отчасти вы виновник того, что я приехала сюда. Я хотела проститься с вами.
– Вы слишком добры. Чем я заслужил такое расположение? – с некоторым удивлением ответил Лермонтов.
– Я знаю, что вы в душе осуждаете меня из-за мужа, и, поверьте, я благодарна вам за то, что вы со мною никогда не лицемерили.
– Если это заслуживает благодарности, то извольте, я ее принимаю.
– Значит, мир? Мне бы не хотелось, чтобы что-то оставалось между нами, мешающее нашим добрым отношениям… Я вам очень благодарна за ваши стихи, посвященные Александру…
– Моя любовь к Александру Сергеевичу так велика, что я переношу ее на всех людей, которые были ему дороги.
Он наклонился, поцеловал руку Натальи Николаевны.
Наталья Николаевна, давно отвыкшая от особого мира поэзии, втянувшаяся в докучный вдовий быт с болезнями детей и необходимостью экономить на шпильках, вдруг под устремленными на нее черными глазами поручика начала освобождаться из невидимых пелен, дышать глубже и вольнее. Она просыпалась, хорошела на глазах, все ее существо, как встарь, излучало простодушную прелесть – на нее смотрел поэт!
– Вы еще будете счастливы, – сказала она ему благодарно.
Он покачал головой.
– Человек счастлив, если поступает, как ему хочется. Я никогда этого не мог.
– Почему? – Ее большие близорукие глаза смотрели с ласковой укоризной.
– Моя жизнь слишком тесно связана с другими. Сделать по-своему значило бы оскорбить, причинить боль любящим меня, неповинным.
Она прошептала, потупившись:
– Неповинным?..
Он ответил не слову, а тоске ее сердца:
– Все неповинны, вот в чем трудность. Некому мстить, и с кого взыскивать?
– Многое начинаешь понимать и ценить, только потеряв, – сказала она, поборов близкие слезы. – Это ужасно.
– Нет, это благодетельно! Душа растет страданием и разлукой! Счастливые дни бесплодны. Вернее, они начальный посев. Но подняться ростку помогает лишь наше позднее понимание.
– Я богата этим пониманием, мсье Лермонтов. Но что с того? Он об этом никогда не узнает!
Лермонтов близко заглянул в ее глаза с влажным блеском.
– А если он знал всегда? Если его доверие было безгранично, как и любовь к вам?
Они молчали несколько минут.
– Бог воздаст вам за утешение, – сказала, наконец, она, откидываясь с глубоким вздохом. И вдруг прибавила непоследовательно, с живой, ясной улыбкой:
– Я очень люблю вашего «Демона». Почему-то ощущаю себя рядом с ним, а не с Тамарой. Особенно когда он так радостно парит над миром. Я никогда не видала Кавказа… Всегда завидовала Александру, что он так много путешествовал.
Движение ее мысли сделало новый поворот. Черты стали строже, словно тень юности окончательно покинула эту женщину – вдову и мать.
– Смолоду мы все безрассудны: полагаем смысл жизни в поисках счастья.
– А в чем этот смысл? – спросил Лермонтов с напряженным вниманием. Казалось, от ее слов зависит: упрочится или оборвется возникшая между ними связь. Она была чрезвычайно важна для обоих.
– Думаю… нет, знаю! Назначение в том, чтобы наилучшим образом исполнить свой долг.
– В чем же, в чем он? – добивался Лермонтов. Не для себя он ждал ответа. Да, пожалуй, и не для нее. Неужели для мертвого Пушкина? Чтобы разрешить вечную загадку поэта? Понять предназначение поэта?
Тень беспомощности промелькнула по гладкому лбу Натали. Она не могла объяснить.
– Это знает о себе каждый, – сказала она просто.
– Вы правы, – отозвался Лермонтов спустя несколько секунд, словно смерив мысленным взглядом безмерные глубины и возвращаясь из них. – Главное, не отступать от самого себя. Довериться течению своей судьбы.
– И божьей милости, – добавила она.
После некоторой паузы Лермонтов вдруг снова продолжил:
– Когда я только подумаю, как мы часто здесь встречались!.. Сколько вечеров, проведенных здесь, в гостиной, но в разных углах! Я чуждался вас, малодушно поддаваясь враждебным влияниям. Я видел в вас только холодную неприступную красавицу, готов был гордиться, что не подчиняюсь общему здешнему культу, и только накануне отъезда надо было мне разглядеть под этой оболочкой женщину, постигнуть ее обаяние искренности, которое не разбираешь, а признаешь, чтобы унести с собою вечный упрек в близорукости, бесплодное сожаление о даром утраченных часах! Но когда я вернусь, я сумею заслужить прощение и, если не слишком самонадеянна мечта, стать когда-нибудь вам другом. Никто не может помешать посвятить вам ту беззаветную преданность, на которую я чувствую себя способным.
– Прощать мне вам нечего, – ответила Наталья Николаевна, – но если вам жаль уехать с изменившимся мнением обо мне, то поверьте, что мне отраднее оставаться при этом убеждении.
Вдруг она осознала, в ее жизни случалось, что люди поддавались ей, но она знала, что это было из-за ее красоты. На этот раз была победа сердца, и этим она была дорога для нее. Ей было радостно подумать, что он не унесет о ней дурного мнения.
Лермонтов тоже в этот момент осознал, что, будучи мрачно предубежденным против нее – издали, умозрительно, понаслышке, – оказавшись вблизи и заговорив с нею, он тотчас подпал под очарование пушкинского вымысла о ней. С изумленной умиленностью поверил, почти убедился, – Пушкин не ошибался! Чистейшая прелесть. Образец ее.
На этом кончился их разговор. Он подал ей руку братским движением. Она поднялась с кресел и возвратилась к остальному обществу.
Весь конец вечера Лермонтов был спокоен и умиротворен. Вдова Пушкина оставила в нем чувство прекрасного и безнадежного.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































