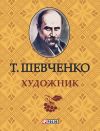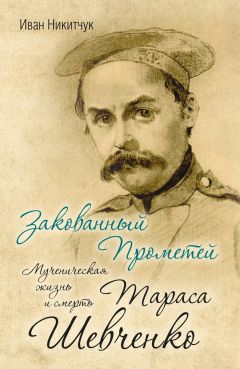
Автор книги: Иван Никитчук
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
На другой день Мокрицкий по секрету сообщил Сошенко:
– Сегодня в нашей мастерской появится еще одно прекрасное творение – портрет Василия Андреевича Жуковского, и если бы ты знал, какое разительное сходство с оригиналом! Какая чрезвычайная сила рельефа! Ты подумай, сеанс продолжался не больше двух часов, а голова кажется почти законченной.
Он не утерпел и повел друга в мастерскую. Брюллова не было дома. Перед портретом в кресле Карла Павловича сидел мальчик Липин.
Это был один из тех самоучек-художников, о которых Карл Павлович побеспокоился еще в Москве и добился обещания дать им отпускную на волю. Приехав в Петербург, Брюллов не забыл о них, особенно ему нравился младший Липин. «Пришлите мне моего сыночка», – написал Карл Павлович московским друзьям. Теперь Липин и жил у Брюллова.
Мальчик зачаровано смотрел на портрет и шептал:
– Как живой… совсем как живой.
– Кыш-ш, – шутя сурово сказал Мокрицкий, и Липин испуганно скатился с кресла и исчез.
– Посмотри, Иван, на эти прекрасные руки, – восхищенно вымолвил Аполлон, – какие нежные, задумчивые руки! Так и чувствуешь, что их оружием будет легкое перо. А глаза, уста! Только Брюллов может написать такие живые глаза человека.
По своей привычке, известной всем его товарищам и учителям, Аполлон вдохновенно продекламировал:
Воспоминание и я одно и то же,
Я образ, я мечта,
Чем старе становлюсь,
Тем я кажусь моложе.
Но ни Аполлон Мокрицкий, ни Иван Сошенко не знали точно; они только догадывались, зачем взялся Брюллов за этот портрет. Об этом договорились их старшие друзья – Брюллов, Жуковский, Виельгорский, Венецианов и Григорович.
Цена портрета должна была быть ценой выкупа Тараса.
Чего только не выгадывал Сошенко, чтоб хотя бы немного облегчить долю Тараса.
Уж никак нельзя было сказать, чтобы его как художника так уж интересовало сердитое рябое лицо Ширяева, тем не менее он взялся нарисовать его портрет с условием: пока не начался новый сезон, Тарас месяц будет жить у Сошенко.
Уже два года он, как заботливый воспитатель, смотрел за ним, ввел в «Общество поощрения художников», познакомил с кем только мог, наблюдал за его чтением и удивлялся, как быстро вбирает в себя этот юноша все знания, что урывками перепадают ему, с какой жадностью глотает книги и может уже разговаривать в кругу друзей Сошенко, как развитой, образованный человек. Но крепостное ярмо еще висело над ним, он был игрушкою в руках своего хозяина.
Хозяин, пан Энгельгардт, издеваясь, орал:
– Зачем мне эти художники? Захочу и продам его соседу помещику.
И все никак не давал официального согласия на выкуп.
Последние события заставили Сошенко снова просить своих старших друзей ускорить это дело. Опять-таки для облегчения положения Тараса Сошенко согласился нарисовать портрет жены управляющего Энгельгардта – Прехтеля.
Белокурая женщина в кудрях, фижмах и оборочках, манерно закатив глаза, сидела в кресле с застывшим, как у куклы, выражением лица, когда во дворе послышался какой-то крик.
Иван Сошенко выглянул в окно. Два лакея тащили Тараса, а краснорожий лысый Прехтель что-то кричал, размахивая руками.
– Амалия Густавовна, позовите, пожалуйста, своего мужа, – тихо, но твердо промолвил Сошенко и положил кисть на палитру.
Амалия Густавовна испуганно глянула на «пана художника», всегда такого тихого, скромного, и не узнала его.
– Сейчас, сейчас! – заспешила она и, подойдя к окну, закричала: – Мой милый! На минутку! Что случилось? – спросила она, когда разозленный муж зашел в комнату.
– Это черт знает, что такое! – кипел Прехтель, и аж слюна брызгала у него изо рта. – Этот холоп чувствует себя полным хозяином. Он приходит сюда и будоражит всех людей. Он начинает говорить им про их права, настраивает их против пана, против меня, и я заметил уже, как они начинают своевольничать. Я этого не потерплю. Мне все равно, что там болтают, что он художник. Он холоп, крепостной, и должен знать свое место. Я приказал схватить и отхлестать его на конюшне розгами. Я проучу его!
– Нет, вы этого не сделаете! – решительно сказал Сошенко, сам не ожидая от себя такого тона. – Стыдитесь, лучшие люди – поэты, художники – заботятся о его судьбе, а вы осмеливаетесь посылать его на конюшню? Что вы делаете? Опомнитесь!
– Ну и что с того? – не успокаивался Прехтель. – Пока что он – никто!
– Пани, – обратился Сошенко к своей кокетливой модели. – Я обращаюсь к вашему женскому чувствительному сердцу. Вы должны заступиться – иначе я не смогу бывать в вашем доме и не дотронусь больше к этому портрету.
Пани Амалии не было никакого дела до какого-то там Шевченко, и она не понимала, почему «пан художник» берет это так близко к сердцу, ее женское «чувствительное» сердце никак не реагировало, когда на конюшне наказывали кого-нибудь из челяди. Но ей совсем не хотелось портить отношения с милым, вежливым молодым человеком.
– Ну, мой дорогой, успокойся – игривой кошечкой прижалась она к мужу. – Для меня, понимаешь, для меня ты должен на этот раз простить этого холопа. Я и пан художник просим тебя. И зачем нам портить настроение перед обедом, когда к обеду я приготовила для тебя сюрприз, который ты очень любишь.
Прехтель еще поупирался немного, но не мог устоять перед чарами своей половины и ее обеденным сюрпризом. Он пошел распорядиться отпустить Тараса Шевченко.
Сошенко едва закончил сеанс. Руки его дрожали. Обедать он не остался, сославшись на то, что торопится на урок. Он бежал домой, к Тарасу.
Сошенко никогда не видел его таким.
– Я подожгу пана, – сказал он. – Я отомщу за себя и за всех. Я его зарежу.
– Что ты, Тарас, опомнись и успокойся! – уговаривал его друг, сам чрезвычайно взволнованный. – Ты только исковеркаешь свою жизнь…
– Она никому не нужна, никому! Зачем я встретился с вами? Зачем я учусь, если я не человек?
Он соскочил с кровати, схватил шляпу и бросился к дверям.
– Прощай, Иван Максимович, не вспоминай лихом!
– Тарас! Подожди, Тарас! – кричал ему Сошенко.
«Он близок на крайний поступок, он может наложить на себя руки», – подумал Сошенко и сам выбежал из дома.
Вечером он нашел Тараса у Невы. Тарас сидел на перевернутой лодке и смотрел на лед.
– Тарас, послушай меня! Вот тебе записка от Жуковского. Да, я видел сегодня Григоровича, я был у него после того, как ты убежал от меня, как сумасшедший. Он передал мне это для тебя… Ну, вот видишь, потерпи еще немного… Что пишет тебе Жуковский?
– Спасибо, тебе, Иван Максимович, – попробовал улыбнуться Тарас. Его как будто трусила лихорадка, и зуб на зуб не мог попасть. – Благодарю святого человека Жуковского. Он пишет, что еще совсем немного и все будет хорошо.
– Ну, вот видишь. Пойдем домой! – уговаривал Сошенко Тараса, как ребенка.
– Ширяев прислал Хтодота за мной, чтобы я возвращался к нему… И снова в его артели…
– Нет, ты еще пойдешь ко мне. Пойдем быстро!
Но Тарас едва добрел до комнаты Сошенко.
– Что с тобой? Да ты совсем больной! Надо немедленно врача! – заметался Иван Максимович.
– Какая красная комната… – уже в бреду вдруг улыбнулся Тарас.
«Он бредит брюлловской красной комнатой», – догадался Сошенко…
Утром, когда Тараса осмотрел доктор, пришлось отправить его в больницу на Литейном проспекте…
Сидя на широком канапе в своей любимой позе, подобрав ноги, Василий Андреевич Жуковский был похож на турецкого пашу. Еще к тому же попыхивал табаком из длинного чубука.
Сегодня заходил к нему Григорович и сказал, что Тарас близок к самоубийству. Молодой художник Сошенко, который берет горячее участие в его судьбе, просто боится за него.
И тогда Жуковский написал юноше коротенькую успокаивающую записку, а сам сейчас обдумывал, как на самом деле ускорить освобождение Тараса.
Великий Карл уже закончил портрет. Граф Виельгорский посоветовал устроить лотерею-аукцион, привлекши к этому особ Двора, к которым Жуковский, как учитель царских детей, был близок.
Жуковский не впервые использовал свое положение и свое влияние прославленного, любимого даже Двором поэта для того, чтобы улучшить чью-то судьбу, освободить из беды. Всем известно, как он всегда пытался заступиться перед царем за Пушкина. Но не только для Пушкина, своего близкого и любимого друга, мог выдумывать Жуковский разные способы заступничества, помощи, на каждое несчастье он откликался всей чувствительной душой, особенно когда речь шла о помощи таланту.
Этот «алмаз в кожухе», крепостной парень Тарас Шевченко взволновал его… Он непроизвольно перенесся в далекое прошлое, в свое детство…
Конечно, оно никак не было похожим на детство Тараса – но, но…
Во время войны с турками пан Бунин шутя сказал одному из своих крепостных, который шел на войну: «Привези мне турчанку!» И крепостной выполнил приказ барина. Он привез двух молоденьких, очень красивых турчанок – Сальху и Фатиму.
Фатима умерла, а Сальху сделали няней панночек.
Старый пан влюбился в нее, поселил отдельно от прислуги, хотел даже жениться на ней, но не смог разойтись с женой.
Через несколько лет у Сальхи родился мальчик. И неожиданно старая пани, всем на удивление, всей душой привязалась к этому мальчику. Его взяли в панские покои… Вот так он и рос в каком-то странном непонятном положении: и сын, и не сын. Фамилию ему дали Жуковский. Учился он не очень хорошо, но очень любил читать.
Кажется, все у него было, но на душе всегда была грусть и сочувствие к родной матери. Такое неопределенное положение и странные отношения в семье сделали его чувствительным, деликатным, немного сентиментальным.
Это отразилось и на его творчестве. В ней было столько лирики, столько души и сердца!
Потому-то он чутко относился и к другим… Сызмальства он старался говорить обо всем легко, шутя, спокойно. Но все близкие знали, что за шутливой формой его писем, его разговоров скрывается добрая душа, всегда готовая на благородный поступок.
Жуковский подошел к своему «старому другу» – так он называл свой любимый письменный стол.
Немного поразмыслив, взял перо и бумагу. Он должен написать письмо фрейлине Двора – Юлии Федоровне Барановой. Жуковский надеялся на ее помощь. Шуточный его тон часто обезоруживал многих людей, давал ему возможность говорить о важных вещах просто и непосредственно, а придворные женщины были всегда в восторге от его остроумия.
Он улыбнулся добродушно-хитроватой улыбкой – написал сначала название своего послания.
«Исторический обзор благотворительных поступков Юлии Федоровны и разных других обстоятельств, курьезных событий и особенных разных штучек.
Сочинения Матвея».
Матвеем он в шутку часто величал себя.
Только штрихами, как малый ребенок, он нарисовал человека, что метет комнату, а вверху, в тучах, женское лицо – и подписал: «Это Шевченко. Он говорит себе: „Хотелось бы мне написать картину, а пан приказывает мести комнату“. У него в одной руке кисть, а в другой метла, и он в очень сложном положении. Над ним в тучах Юлия Федоровна».
Далее шел в таком же стиле выполненный рисунок, надпись под которым объясняла его содержание: «Это Брюллов пишет портрет Жуковского. На обоих лавровые венки. Она думает про себя: „Какой этот Матвей красавец!“ А Василий Андреевич, чувствуя это, благодарит в душе Юлию Федоровну и говорит про себя: „Я, возможно, готов быть и Максимом, и Демьяном, и Трифоном, только бы нам выкупить Шевченко“. – „Не волнуйся, Матюша, – говорит с тучи Юлия Федоровна, – мы выкупим Шевченко“. А Шевченко знай себе метет комнату. Но это в последний раз».
В таких рисунках и подписях он пишет обо всем, что необходимо сделать. Юлия Федоровна должна ускорить сбор денег на лотерею.
«Юлия Федоровна потому так спешит собрать деньги, – пишет он в примечании, – что Матвей скоро поедет за границу и должен до отъезда закончить это дело.
Удивительная женщина эта Юлия Федоровна. Как ее не любить? Пусть будет счастлива она, ее дети, внуки и правнуки. Матвей обещает с одной из ее правнучек станцевать за ее здоровье качучу…»
В конце письма совсем чудной рисунок:
«Это Шевченко и Жуковский оба валяются от счастья. А Юлия Федоровна благословляет их с тучи».
Да, надо, чтобы Юлия Федоровна поторопилась. Жуковский знает, она прочитает записку и скажет: «Charmant! Этот несравненный Жуковский! Как мило, остроумно! Надо ему помочь в этом деле какого-то Шевченко».
Опустив руки на своего любимого «друга», Жуковский долго сидел молча и грустно смотрел в окно.
Нужны деньги, и как можно быстрее. Две тысячи пятьсот рублей. Цена портрета.
Цена человека, художника, таланта.
Жуковский, запечатав своей печатью конверт, позвонил. Вошел камердинер.
– Надо немедленно отнести это письмо госпоже Барановой во дворе. А мне – одеться. Я еду к Виельгорскому.
Дом графа Михаила Юрьевича на Михайловской площади недаром называли «маленьким храмом изящных искусств в России». Он действительно был своеобразной живой и многогранной Академией искусств, а хозяин ее – сам композитор и большой знаток музыки – другом самых образованных и самых интересных людей того времени.
О доме Виельгорского писали:
Всемирной ярмонкой и выставкой всесветной
Был кабинет его, открытый настежь всем.
Кто приносил туда залог мечты заветной,
Кто мысль, кто плод труда, кто приходил ни с чем…
Со всеми одинаково утонченно-вежливый в поведении, он старался помочь каждому. Сейчас он принимал горячее участие в судьбе украинского парня – крепостного Тараса Шевченко, потому что для него, как и для его друзей, судьба таланта не была безразличной.
Он встретил Жуковского по-домашнему в халате – высокий, красивый старик с седыми волосами до плеч.
– Карл Павлович уже ждет вас, Василий Андреевич, – сообщил он, радостно приветствуя гостя. – Пойдем, за ужином все обсудим.
С ним жила его любимая младшая дочь Анна, или Анолит, исключительно образованная на то время и талантливая девушка. Говорили, в нее, единственную женщину в своей жизни, был влюблен Николай Васильевич Гоголь, но у нее не было желания выходить замуж и жила она у отца.
Анолит приветливо пригласила гостей в столовую. На ужин подали картофель с жареным луком и ростбиф. Брюллов и Жуковский за этим скромным ужином чувствовали себя, как всегда, в приятной, дружественной, «своей» атмосфере.
– У вас счастливая рука, Михаил Юрьевич, – улыбаясь, промолвил Жуковский, – поэтому я предлагаю лотерею-аукцион провести у вас. Ведь к вам и высокие особы с охотой придут, у вас большой прекрасный зал. Можно будет устроить сначала концерт.
– Я и мой дом всегда к вашим услугам, вы это знаете, – склонил приветливо голову с волнистыми волосами граф Виельгорский. – Я рад буду прислужить этому делу.
– И надо как можно быстрее, как можно быстрее! – нервно заговорил Брюллов. – Портрет уже давно готовый, и наконец эта свинья, его хозяин, согласился, – он все время тянул, а теперь, когда узнал, что Василий Андреевич и вы причастны к этому, изменил политику. Надо быстрее вытащить человека с этого ярма.
– Желательно было бы, чтобы важные особы приняли участие в лотерее, – промолвил Виельгорский.
– Ну, на этот раз мне все равно в чьи руки попадет труд моих рук, – лишь бы быстрее деньги, – запальчиво сказал Брюллов.
Виельгорский и Жуковский переглянулись. Они знали, что Брюллов, несмотря на желание императора, все ж таки не начинает портрета ни с него, ни с его семьи и вообще держится независимо.
В середине апреля 1838 года в камер-фурьерском журнале дворца его величества, где велась запись всех событий и всего, что случалось за день, было записано:
«Время проводили концертом и аукционом».
И концерт, и аукцион состоялись в зале дома графа Виельгорского, на Михайловской площади.
На этом аукционе, в котором приняла участие семья царя, императрице достался портрет Василия Андреевича Жуковского работы прославленного художника Карла Брюллова.
– А вы знаете, черти б его взяли, – выругался Брюллов, – ведь императрица дала только 400 рублей, мне сказал ее секретарь. И выиграла! И теперь имеет такой портрет почти задаром.
– Вам жаль? – засмеялся Виельгорский.
– Что сделаешь! – махнул рукою Брюллов. – Я не из-за нее старался. Только пусть не записывает этих денег к своим христианским свершениям. А в конце концов важно, что деньги собраны и наконец мы освободим Шевченко.
– Это главное, – подтвердил Жуковский, – на то лотерея и аукцион. Кому как повезет.
– Все в нашей жизни, как в лотерее, – промолвил Брюллов, – да еще и аукцион. Но я рад, рад за нашего Тараса!..
Это великий день был – 22 апреля 1838 года. Накануне Сошенко получил от Жуковского записку: «Зайдите завтра в одиннадцать часов к Карлу Павловичу и ждите меня там обязательно, как бы поздно я не пришел.
В. Жуковский. Р.S. Приведите и его с собой».
Худого, побледневшего после тяжелой болезни Тараса Сошенко и Мокрицкий привели до Брюллова. Взволнованный, необычный был сегодня Великий Карл.
– Подождем Жуковского, обедать будем у меня! – сказал он.
Вскоре пришли Виельгорский, Григорович, Венецианов и Жуковский. Торжественный, необычный, как и его спутники, Жуковский поздоровался со всеми, вынул из кармана бумагу, сложенную вчетверо, и подал Тарасу.
Трясущимися руками развернул Тарас бумагу. На большом листе с печатью – двуглавым орлом – сбоку, ровным красивым канцелярским почерком было написано:
«Тысяча восемьсот тридцать восьмого года апреля двадцать второго дня, я, нижеподписавшийся, уволенный от службы гвардии полковник Павел Васильев сын Энгельгардт отпустил вечно на волю крепостного моего человека Тараса Григорьева сына Шевченко, доставшегося мне по наследству после покойного родителя моего действительного тайного советника Василия Васильевича Энгельгардта, записанного по ревизии Киевской губернии, Звенигородского уезда, в селе Кирилловке, до которого человека мне, Энгельгардту, и наследникам моим впредь дела нет и ни во что не вступаться, а волен он, Шевченко, избрать себе род жизни, какой пожелает».
После подписи Энгельгардта шли подтверждения и подписи свидетелей.
«Свидетельствую подпись руки и отпускную, данную полковником Энгельгардтом его крепостному человеку Тарасу Григорьеву сыну Шевченко, действительный статский советник и кавалер Василий Андреев сын Жуковский».
«В том же свидетельствую и подписываюсь профессор восьмого класса К. Брюллов».
«В том же свидетельствую и подписываюсь гофмейстер тайный советник Михаил Виельгорский».
Да, это была «Отпускная на волю»… «воля», подписанная такими дорогими свидетелями.
– Воля! Воля!.. – еле выговорил Тарас, набожно поцеловал бумагу и заплакал.
И кто из присутствующих мог сейчас сдержать слезы?..
Перед ним раскрылись двери его не раз видимой во сне и в мечтах Академии художеств. С чувством неимоверного счастья зашел он впервые как ученик Академии в круглый вестибюль. Словно в рай вели широкие ступени справа и слева, украшенные статуями античных богов. Он остановился на мгновение, ему не верилось. «Это же я, Тарас, – думал он и никак не мог понять, – бывший замарашка с грязного чердака как будто на крыльях перелетел в чарующие залы Академии».
Со всей энергией и молодым запалом взялся Тарас за работу. Он чувствовал столько силы в себе, столько желания учиться, догнать упущенное в панских передних, на ширяевском чердаке, на всех изгибах своей тяжелой жизни.
А от каждого взгляда, от каждой похвалы любимого учителя эти силы удваивались и утраивались.
Тарас учился не только в Академии. В свободное время он ходил на разные лекции в Военно-медицинскую академию, университет, изучал французский язык, увлекался театром, но главной наукой были книги и дружба с Карлом Брюлловым.
Чем только не интересовался их маэстро! В его библиотеке на столе лежало много книг, что указывало на многосторонние интересы хозяина библиотеки. Здесь были история древних и новых времен, о путешествиях, романы, книги из естествознания и книги о последних открытиях физики.
А в мастерской даже электрическая машина! Часто в перерывах Карл Павлович заставлял ребят крутить ее, чтоб с индуктора сыпались искры.
Он иногда, как студент, сидел и слушал лекцию в Университете. Увлекался астрономией и радовался, как ребенок, когда в обсерватории в Академии наук в телескоп увидел Сатурна с его кольцом.
Жаждой познания он увлекал и своих учеников.
Тарас любил своих друзей, и друзья любили его. В этом аккуратно одетом, веселом, жизнерадостном парне трудно было узнать бедолагу Тараса. Свобода опьянила парня. Через Брюллова он познакомился с лучшими петербургскими домами. Часто ездил на вечера. Одним словом, на некоторое время в него вселился великосветский бес.
Сошенко даже удивлялся такой разительной перемене и иногда укоряюще смотрел на Тараса, когда тот в новом плаще на дрожках ехал с Мокрицким в театр, или когда тот волновался, чтоб достать билеты на итальянскую царицу балета Тальони, или отправлялся со своим маэстро «на биржу» – так звали вечера у братьев Кукольников, где собирались литераторы, художники, где до утра слушали чудесную музыку Михаила Глинки.
Но не только «богемная» жизнь привлекала Тараса. Он очень ценил и спокойные вечера в «семейных» домах. Мог часами сидеть со старенькой матерью своего товарища по Академии – Петровского, слушать ее нехитрые рассказы, развлекать ее своими.
Он продолжал и настойчиво работать. В рисовании не только Брюллов, но и другие профессора Академии отмечали его индивидуальность в творчестве, несмотря на большое влияние романтичной школы Брюллова. Искренне влюбленный в Карла Великого, в свои рисунки он вносил и что-то свое, особенное, свойственное только ему, черты реализма, жизненной правды. Он начинал более критично относиться к взглядам старших товарищей. Например, Василий Андреевич Жуковский привез из Германии большой портфель эстампов Корнелиуса, Генриха Гесса, других живописцев мюнхенской школы. Жуковский начал увлекаться творениями этой школы и даже сказал:
– У тебя, Карл Павлович, слишком все земное, слишком материальное, а тут, посмотри, сколько божественного, идеального.
– Василий Андреевич! – не удержался Тарас. – Так это ж они как будто заморыши – и мадонны и херувимы, а какие длинные, как неживые.
Карл Павлович, довольный, подмигнул ученикам – ему нравилось, что Тарас смело критикует зарубежных мастеров.
– Так это же просто коллекция идеального убожества, – продолжал Тарас. – Вы извините, Василий Андреевич, разве можно сегодня, в наше время, так рисовать, какие-то мученики и мученицы! Это же шаг назад, к средневековым Гольбейну, Дюреру! А посмотрите сюда, – он показал рукой на полотна и этюды Брюллова. – Это искусство, что живет и улыбается до всего живого!
Жуковский не ожидал такого нападения.
– О, вы все просто испорченные ученики Карла Павловича, – замахал он руками.
– Которые, надеюсь, превзойдут своего учителя, – засмеялся Карл Павлович. – На Тараса я возлагаю большие надежды, у него есть что-то свое. Вот у меня в младшем классе начинает учиться один парень, Федотов, тоже интересный! Нет, Василий Андреевич, пусть они будут ближе к жизни, к земному.
Тарас был ближе к жизни, чем его учителя.
Разглядывая картину Тараса «Мальчик, который делится милостыней с собакой», зрители говорили: «Откуда в этом молодом художнике столько мудрости, столько глубокого понимания жизни?»
Но ведь не все знали, какой трудный и тяжелый путь прошел этот парень с серыми живыми, жадными к знаниям глазами. Недаром Брюллов выделял его из всех своих учеников, и теперь чуть ли не больше Аполлона Мокрицкого Тарас был своим человеком в «портике» Великого Карла.
Какие чудесные вечера проводили они там!
– Ну-с, молодые люди, – обращался к ним Карл Павлович. – Извольте доложить, как провели сегодня день?
– Необыкновенно, – отвечал увлеченно Мокрицкий. – Вдвоем с Тарасом мы ходили сегодня в Эрмитаж. Я никогда не имел такого удовольствия, как сегодня.
– Это хорошо, – похвалил маэстро. – Художникам надо ходить в Эрмитаж чаще, чем на почту. Необходимо всматриваться, надо привыкать к вещам первоклассных мастеров.
Молодые люди, подталкивая друг друга, садились довольные на краешек красного дивана, на который ложился в своей излюбленной позе маэстро. Они знали, что сейчас начнется интересная своеобразная лекция.
– Я выше всех ставлю Веласкеса, Корреджио, Рубенса, Ван Дейка. Обратили ли вы внимание у Веласкеса на невероятную лепку, правду колорита, мягкость тела и характера выражения? Его мастерство владения кистью несравненно. Его свежесть и сочность живописи исчезает при медленной, несмелой, кропотливой работе. Люблю я Веласкеса.
А Корреджио? Он чувствовал божественную гармонию в колорите и такую грацию движения и экспрессию, такую тонкость рисунка, что кажется, они написаны рукою ангела…
Как любили ученики эти неожиданные характеристики! Карл Павлович увлекался и говорил далее:
– Рубенс молодец, он не стремится нравиться и не старается обмануть зрителя правдоподобием, а просто доволен тем, что богатый, одевается пышно и красиво, потому что это ему к лицу. Не всегда он строгий к истине. В его картинах роскошный пир для глаз! Но у богача на пирах ешь-пей, только разум не пропей! Смотрите, у Рубенса пируйте, но с ним не тягайтесь и ему не следуйте… Вот Ван Дейк – попировал у Рубенса – и достаточно. Ограничив свои траты, жил разумно, честно, для потех и интереса других. Такую жизнь и вам, друзья, советую брать за образец. Спасибо ему, хорошему человеку!
Тарасу больше по душе был Рембрандт. И о нем немало говорил Брюллов.
Уже начиналась ночь, а молодые люди никак не могли покинуть своего маэстро, который был как раз в настроении.
– Вы не поверите, – делился он своими сокровенными мыслями, – как тяжело создать настоящую, хорошую вещь. Тяжело кораблю бороться в открытом море с волнами, но ему доверены жизни сотен живых людей. А после счастливого плавания встретят его выстрелами пушек, радостными криками и торжественно ведут в порт, где он будет отдыхать до следующего плавания. Так и художник с новой картиной.
Даже когда маэстро уже собрался лечь спать, он не отпустил учеников. Еще Тарас должен был почитать вслух перевод нового французского романа Гюго – потом Карл Павлович рассказывал о своем путешествии по Италии, Греции и, развеселившись воспоминаниями, начал перед Аполлоном и Тарасом показывать не только людей, но даже и животных. С необычайной живостью вскакивал он с дивана, скручивался на ковре и изображал щенка, который спит на соломе. Ученики смеялись так громко, что камердинер Лукьян вбежал в комнату, чтобы узнать, не случилось ли чего.
Вот из-за этой живости, непосредственности и был им мил их маэстро, а Тарасу особенно из-за его независимости и свободолюбия.
Тарас знал, что император Николай давно хочет иметь свой портрет кисти Брюллова. Брюллов долго это оттягивал. Наконец назначил сеанс, подождал несколько минут и уехал из дома, приказав домашним:
– Если придет царь, передайте ему, что я ждал его, но, зная его аккуратность, был уверен, что он не приедет.
Царь приехал через двадцать минут. Ему точно передали, как приказал Брюллов.
– Какой нетерпеливый человек! – процедил царь сквозь зубы и больше не приезжал и не напоминал о портрете.
Но даже Тарас и Мокрицкий, привычные к дурачествам своего маэстро, были озадачены, когда в Академию приехал цесаревич и зашел в «портик». Брюллов даже не вышел, а послал к нему своих учеников – Тараса Шевченка и Мокрицкого.
Молодые художники водили цесаревича по мастерской, показывая картины, немного волновались, что Брюллов может быть чем-то недовольным. Но все получилось хорошо. Брюллов был рад, что ребята выполнили все за него, а они давились от смеха, вспоминая этот пышный визит.
Тараса увлекала такая свободолюбивая независимость его Великого Карла. Брюллов демонстративно не носил жалованные ему награды, он не захотел возглавить официальное, руководимое Николаем Первым, направление в искусстве. Это место занял художник Бруни.
– Как он изменился, – говорил Карл Павлович, – ведь он был когда-то передовым художником, казалось – он будет ломать академические традиции, а теперь он очень далек от жизни, от натуры. Он хочет поддержать своими картинами самодержавие и церковь. Вы уже видели «Медного змея»?
– Конечно! – откликнулся Тарас. – Это просто толпа грубо подрисованных актеров и актрис. Хотя картина колоссальная, но впечатления никакого.
– Сухая, холодная картина, – подтвердил и Мокрицкий. – В ней чувствуется какая-то слепая вера в страшную божественную силу, без капли человеческого разума. Мистика и больше ничего!
– Разве можно ее сравнить с «Последним днем Помпеи»!.. – сказал Тарас уже наедине с товарищем. – А еще хотел нашего Карла затмить!
– Царю-то он, правда, больше угодил! – заметил Сошенко.
– Но не нам, не нам! – засмеялся Тарас, обнимая друзей.
– Вот еще приедет мой друг Вася Штернберг, – сказал Мокрицкий Тарасу, – тогда совсем нам с тобой будет хорошо.
– Быстрее бы приехал Вася Штернберг, – озабоченно сказал Сошенко. – Я тогда бы спокойно уехал из Петербурга.
Он собирался вернуться на Украину, стать учителем рисования. Но ему хотелось до отъезда устроить так, чтобы Тарас жил с его другом Васей Штернбергом.
О Штернберге Тарас слышал от Брюллова и от других художников. Он знал, что Штернберг поехал на Украину писать этюды, и ждал его с нетерпением. Сошенко писал и Штернбергу о Тарасе.
Неожиданно ночью кто-то постучал и зашел в комнату. Он еще не успел назвать себя, как Тарас спросил:
– Штернберг? Вася Штернберг?
– Он самый! – засмеялся парень с круглым, по-детски приветным лицом. И Тарас бросился ему на шею.
– Ты ж с Украины! Друг мой! Ну, говори, где ты там был, что привез с собой? Я ж не был там много-много лет…
Он помог парню сбросить тяжелую теплую шубу, размотать шарф.
– Я влюблен в Украину! – сказал Вася Штернберг. – Я не мог оторваться от ее мягких, нежных пейзажей.
Тарас сразу хотел напоить приезжего чаем, и посмотреть рисунки, и выслушать все о далекой Украине, но, как это обычно бывает при встрече друзей, начав разговор, они забыли и о чае, и об ужине.
Дружба, взаимная любовь родились с первых же минут.
– Ты не представляешь, какое чудесное было у меня путешествие, – рассказывал Вася Штернберг. – Почти все лето я провел с Михаилом Ивановичем Глинкой в Качанивке, у пана Тарновского. Ты же знаешь Михаила Ивановича?
– Да, я видел его несколько раз у Карла Павловича, у Кукольников. Карл Павлович его очень любит и уважает.
– Его нельзя не любить! А его музыка! Он гениальный! Это же первый российский композитор, который создал такую величественную вещь.
– Я очень люблю и эту оперу, и все его музыкальные вещи. Мы с Карлом Павловичем много раз слушали оперу в театре.
– А сейчас он работает над не менее прекрасной и выдающейся вещью – «Руслан и Людмила» Пушкина. Он говорил, что это была еще мечта Александра Сергеевича – написать либретто для оперы Глинки. Какая жалость, что он не успел! В Качанивке Николаю Маркевичу приходилось дописывать слова либретто. Сколько прекрасных арий, хоров родилось там на моих глазах. Это было божественно!