Текст книги "Няня из Москвы (сборник)"
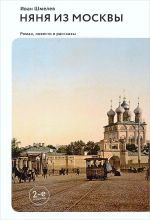
Автор книги: Иван Шмелев
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
XXXIX
Стращали-стращали, а что и взаправду вышло. В работу нас не взяли, а пустили на острова, под строгой глаз. Да сколько у берега качались-маялись. А войска наша, вот натерпелись, Васенька нам рассказывал! Сколько-то тыщ казаков к большевикам отправили, совесть потеряли… на муку смертную, хлебушка жалко стало. А ведь придет время, барыня, золотыми словами про все пропишут, от кого мы чего видали.
У берега и качались. У нас в яме троих закачало, померли. Чего не забуду, барыня… – офицерик тот, на костылях, неподалечку от нас на полу сидел, коленки так обхватил, лежать уж не мог, сердце не дозволяло. И говорит он другому офицерику-калеке: «вот пистолет, у немца отбил… сил нет, застрели меня». Отняли у него пистолет и батюшку позвали, разговорить. А у него рана была, под самое под сердце, с немецкой пули. Ну, подумайте: пуля у него такая, и такое случилось с нами, – у здорового сердце заболит. Дала я ему лепешечку, приласкала. А Катичка отлучилась, как на грех. На лепешечку смотрит, слезы на нее капают, да так вот – а-ах! – испугался будто, за сердце так, и повалился на спину, не дыхнул. Закрыли ему глаза, батюшка молитву прочитал, накрыли мы его шинелькой… доктор сразу пришел, руку пощупал, – матросы его и унесли. И все стали ужашаться. На что уж калмыки, вовсе степные-неправославные, а и те глоткой так все – ыи, ыи, – икали, будто заплакали. Которые говорили: и без флагу, чисто собаку потащили, а он с немцами воевал. Катичка прибегает, сама не своя, – видала сверху, как его на берег свозили. Вот тут мне страшно стало: не дай, Господи, в неподобный час помереть!.. Помощник пришел, велел щетками протереть. Катичка ему и отпела: чисто с собаками обходитесь, а еще союзники! Ни слова не сказал, только как свекла сделался, – у ж ему стыдно стало. Калмык-старик платьице у ней поцеловал, за правду что заступилась. Тоже человек, калмык-то.
Проветривали все нас, заразу. Все приели, стал народ голодать. А сверху сказывали: дух какой на кухнях, говядину все жарют, и котлеты-биштексы, а у матросов борщ – ложкой не промешать… и быков подвозят, и барашков, а сыр колесами прямо катят, – от духу не устоять. Старик-калмык, тощий-тощий, и говорит-икает: «бабушек, помирай моя, помирай твоя». Легли оба набочок, глаза завели – стали помирать. А у них сынки на военном корабле плыли, казаки. Ну, отходили мы старичков, помог Господь – прокормили.
Дозволило начальство подъезжать на лодках. Греки, турки, азияты – всего навезли: и хлеб белый, и колбаска, и… Хлебцем манят, сарди-нками, – «пиджак, бараслет давай!» А на них сверху глядят, голодные. Часы, порсигары, цепочки… – на веревочках опускали, а им хлебец-другой, – вытаскивай. Которые и смеялись, с горя: «во, рыбу-то заграничную как ловим!» Офицера все шинельки променяли, нечем покрыться стало. Женщины обручальные кольца опускали, со слезами. Плюют сверху на иродов, а им с гуся вода, давай только. В два дня весь наш корабль обчистили. Казак один сорвал с себя крест, – «на, – кричит, – иуда, продаю душу, давай пару папиросок!» Батюшка увидал, – «да что ты делаешь-то, дурной?! да ты ирода того хуже, Христа на папироску меняешь!» Снял обручальное кольцо, сменял на коробку папиросок, стал раздавать отчаянным.
Да разве всего расскажешь. А то слух дошел – войску нашу на голые камни вывезли, проволокой замотали, и хлеба не дают. Уж наше начальство устыдило: Бога побойтесь, все добро с пароходов себе забрали, и мы союзные вам были!..
А как нам вылезать, попечительши пришли, безначальных девушек в приют звать: все вам, только Евангелие читайте. Набрали пять барышень, увезли. И что же, барыня, потом узналось: паскуды оказались, фальшивую бумагу начальству показали, а сами барышнев… в такие дома! Хватились, а паскуды на корабле уплыли.
XL
Стали нас выпускать, на зорьке было. Глядим, а на море, чисто на облаках, башенки белые стоят, колоколенки словно наши, – Костинтинополь в тумане светится. А это мечети ихние, с месяцами все. Поглядела – заплакала.
На разные острова нас вывели. Нас на хороший определили, и церковка там была, грецкая. Отвели дом, сарай вроде, мангалы мы все грели, жаровенки, а то зима там лю-тая, не дай Бог. А как же, и досмотр был, ихний капитан доглядывал, мы его ежом звали, такой-то ненавистный. На общий котел давалось, жалости достойно. Месяц протомились, и приезжает вдруг к нам полковник, главный их левизор… трубку он все курил. Разговорился с Катичкой – очень расположился: «давно, – говорит, – про вас слышу, как вы моих офицерей отчитали… вы достойная барышня, как наша англичанская». Высокой-голенастый, лет уж за сорок, а такой молодец. К нам в комнатку зашел-посидел, будто знакомый. И велел в Костинтинополь ездить, купить чего. И вдруг нам цельную корзину привезли гостинцев, от полковника того, к Рождеству. А на Крещенье – получает Катичка золотую бумагу, пожаловать на бал: приедет адъютант, заберет. А она умная, – поеду, говорит, чего, может, и схлопочу. С букетом воротилась. Сам полковник, говорит, все танцы с ней танцевал. Она про Васеньку и закинула, где он. Недели не прошло, опять к нам, досматривать. И дает Катичке бумажку, про Васеньку. И спрашивает, – «как вам полковник Коров приходится?» – коровой его назвал. А она прикинула, – у-мная ведь она! – «это мой дяденька», – сказала. Обещал с острова нас спустить.
И влюбился он в Катичку. Отвезли нас на корабле, такой почет нам. А он холостой. Объяснил Катичке про себя, какое у него в Англии именье-дворец, – сразу она и поняла – влюбился и влюбился. А с Васенькой уж снеслась, и письмо от него пришло. Она и скажи полковнику: «не дяденька мне полковник, а знакомый». Так это посмотрел – сказал: «русские женщины самые коварные, но я всегда готов вам услужить». Благородней нельзя сказать. А его к ихнему королю позвали, руку целовать, – на два месяца он уехал, награды себе ждал. Она ему письмецо дала, мисе-Кислой. Адресок мы забыли, а он большой человек, все ходы ему известны, он и обещал дознаться. Такие нам чудеса были от него… с него слава-то наша и пошла.
XLI
В гостиничке комнатку мы сняли, лисий салоп продала я. Васенька и приходит, одни-то кости. Тиф у него был, а он с англичанами говорить мог, они его и приняли в больницу. Комнатку снял неподалечку, вместе гулять ходили. Вот он как-то и говорит: «Поеду в Париж, дядю разыщу и пришлю вам…» Без чего не пускают-то никуда? Вот-вот, визу пришлю. Она ему – «хорошо, пришлите… и приказ надо исполнить, письмо передать». Он стал говорить – адреса нет, а то бы по почте, а волю покойницы исполнить надо. Она ему – «да, надо приказания исполнять». Стал ее молить – «не мучайте меня, я много мучился, ближе вас у меня никого». Она его пожалела, он ей ручки целовать стал. Долго они шептались. Как она вско-чит!.. – «уходи, уходи!» – будто чего-то испугалась. Он ее прогулять хотел, а уж ночь глухая, она и не согласилась, – «уходи, уходи», так все. Пошел, она ему – «дай мне письмо!» Гляжу, – а я задремала-притаилась, – вынул он из бумажника письмо, с печатями. Вот она рассердилась!..
«А, всегда у сердца, драгоценность берегете?» Он да же за грудь схватился, – «что ты со мной, Катя, делаешь?!» – в голос крикнул. А она ему – «приди завтра, я тебе все скажу… можно оставить драгоценность?» Только он за дверь, она письмо на стол кинула и давай по клетке нашей ходить, пальцы крутить. Подойдет, поворочает письмо – бросит. Не стерпела я, и говорю: «а ты прочитай, и дело с концом». Она мне – «никогда я не распечатаю!» – «Так и будешь, – говорю, – себя дражнить? Лучше уж все узнать, Бог простит». – «Что – все?!» – она-то мне. И затрясла кулачками: «дура, ничего не понимаешь! он тогда в меня плюнет! гадина жизнь нашу отравила!..» – прокляла ее, покойницу. Всю ночь не спала. Подержит письмо – швырнет. Совсем схватила, вот разорвет… – за руки меня, исказилась:
«Спрячь, не давай мне… себя погублю!..» Чисто вот барыня-покойница. Стала я ее утишать, взяла письмо. И письмо какое-то нечистое, как свинец у меня в руках, злом полно. Сунула под тюфяк, она за руку меня – «дай, не могу я!..» Я ей два раза отдавала. Будто мы чумовые, с этим письмом крутились, до самого до его прихода. Ра-но пришел, лица на нем нет. Увидала его, как крикнет, – «а, боялся, все узнаю? Не спал?.. берите вашу святыню, целехонька!» Он так и ахнул. Бросился к ней, ножки целовать стал, меня не постеснялся. А она стоит, за голову схватилась. А я не пойму и не пойму, чего это они мудруют. Она и говорит-шепчет: «рад, что поверила тебе? или – что всего знать не буду?..» Он говорит – сейчас распечатай! Они и поцеловались. И порешили: Васенька в Париж поедет, визу нам выправить. Денег навязывал, она не взяла. Он мне и всучил, две бумажки аглиские, – сам безо всего поехал. Его в кочегары взяли на корабль, уголь швырять. Машинист за ихнего солдата его признал, по разговору. Сиротами и остались.
XLII
Неделя прошла – письмо от Васеньки: высадили его на остров. А вот, начальство стало глядеть бумаги, а он русский полковник, правов и нет на ихнюю землю ехать, его и высадили, – Корчики называется, остров-то. А место дикое, горы да леса. «Не тревожьтесь, говорит, я тут бревна с гор скатывать нанялся, два месяца прослужу – мне права выдадут, в Париж могу смело ехать». А нужда и нас стала донимать. Чем нам жить? Кто папиросками занялся, кто пирожки продает, военный один умных мышей показывал… и стала Катичка места искать, колечко продала. А из барака мы выбрались, – обокрала цыганка нас. А как же, из гостинички в барак мы опустились, а потом на чердачке сняли. Старик-турка за дворника был, на порожке все туфли шил. По-нашему сказать мог, старинный солдат был. К нам немка и приценилась. Бесихой такой рассыпалась, – генеральшей в Москве, говорит, была, а тут кофейную держит. Стала говорить – жалко мне вас, идите ко мне песни петь, у меня грек-богач делом орудует, он вас золотом засыпит. Затащила и затащила, поглядеть. Страшенный грек, грязный, морда – пузырь живой, а пальцев и не видать, в брилиянтах все. Заугощали нас, грек деньги Катичке за ворот совал, в хор все упрашивал. Пришли домой, а наш турка и говорит: «бабушек, береги барышню, плохой немка!» А знакомый офицер справки навел, – это, говорит, притон развратный. Армянин тоже звал, а у него чумный табак курили. Куда ни подайся – яма. А тут и Пасха наша. А какая нам Пасха – в турецком месте да еще на ветру. Страстная подошла, пошли в нашу церковь, в казенный дом. А Васенька все на горе сидит, бревна скатывает. Выходим со двора – автомобиль, а в нем барин, спрашивает у турка, турок на нас и показал. Он к нам: «вы не миса-Катя?» Назвали мы себя. Он и дает письмо, и покатил. Распечатали, а никакого письма, – аглицкие деньги, две бумажки. Ничего мы не поняли, откуда нам сто рублей. Пришли из церквы, а мальчишка и подает письмо, от мисы-Кислой, – дилехтор послал из банка. Тут и узнали, – от нее деньги. Она у графов живет, и у них все банки знакомы, она и написала дилехтору, господа сказали. Сам дилехтор нас разыскал, вот какие господа-то ее были. У них несметные милиены по всему свету… А погодите, что вышло-то… нам эти милиены сами в руки давались, только Господь отвел.
Поговели мы, пасочку я купила, и куличик, греки торговали: нашей тоже они веры, греки-то. И опостылил нам Костинтинополь этот. Катичка вся издергалась, – Васенька на горе сидит, бревна катает, скорей ехать-вызволять… а мы чисто как в мышеловке. А город тот греки отвоевали, а у них англичаны отобрали, себе под флаг. Они и шумели, греки-то. Ватагами ходят, с протуваров сшибают, и туркам житья не стало. Греково войско за море погнало турков, в самую эту… насупротив была? Вот-вот, Азия самая. А их оттеда турки назад погнали. Греки и зашумели. На самый на первый день Пасхи и случилось, расскажу вам.
Там лестница широкая-каменная, конца не видно. На лестнице нам старичок-полковничек попался, на нашу церкву сбирал. Это раньше он нам попался, с картоночкой на ветру стоял, один глаз выбит. Ну, пошли мы главный собор глядеть, а он по-ихнему уж зовется, – ме-четь. Нас турки и не допустили: сами обедню служим, после приходите. Стоим-глядим, а на кумполе креста уж нету, а месяц золотой, месяцу они молятся. И старичок тут, на церкву-то сбирал, и картоночка на груди – Николе-Угоднику на храм. Положила я ихнюю копеечку, он меня и признал. А я в тальме этой, стекляруском обшита, и в шали шерстяной… – он и признал меня:
«И ты, горевая, с нами! И тебя закрутило, горевая! – и заплакал. – Все потеряли, – говорит, – пропала наша Россия-матушка. Кончили бы войну, наш бы собор был, и крест бы на нем сиял, и гордовые бы наши тут стояли, не было бы такого безобразия».
И еще наши тут, на собор глядели. А греки шумят: ихний это собор будет! А старичок и крикни: «время придет – наш будет!» А греки на него: «наш! всех победим, со всех денежки стребуем!» И казаки наши тут подошли. А старичок все кричит: «не быть тут грекам, придет наша Пасха!» Чумазый за ворот его и схвати, и поволок от собора, – не смей на церкву сбирать. Казаки как по-чали их лупить, по-гнали. А тут аглицкие жандармы наскакали, плетками разгонять. Казак одного за ногу и стащил, всех и поволокли в участок, и нас с Катичкой, за свидетелей. А казаки маленько выпимши, и смеются: «вот-дак увидали турецкую пасху, спра-вили!»
XLIII
И поглядите, барыня, чего вышло! Казак с нами за свидетеля сидел, приятный такой лицом. И говорит Катичке: «ах, барышня… на Лушу мою похожи как! Такая же барышня и у меня росла, дочка». С офицером-казачонком сбежала, и где теперь – неизвестно. Разыскивал ее все. И присоветовал нам в «Золотую Клетку» поступить: самый, говорит, благородный ресторан, графыни да княгини чашечки подают, а он сашлыки на ноже подносит. Катичку и устроил. А меня к туркам, говорила-то я вам. И Катичку от пьяных оберегал, одного чуть не запорол, ножом тем. Кутящие, известно, – всего наслушаешься. И все богачи, товарами торговали, ну и ломались, выражались. А Катичка строгая, поглядит – каждый пьяница отлетит. Все ее недотрогой звали. А хозяин грек был. Вот и говорит ей грек: «один человек про вас дознается, сыщик… вы худого чего не сделали?» Затревожилась она. А он две недели все дознавался. Сел раз за ее столик и неволит – пригубьте со мной. Она отказалась – непьющая. Ушел, а на столике бралиянтовое кольцо! Она его и окликнула, взял кольцо. Выходит – пытал ее. И турка наш говорил ей: какой-то все про вас справляется, какого поведения. И пропал, сыщик-то. И приходит вскорости в ресторан важный такой старик, с золотой набалдашиной, англичанин, вроде как граф. Ничего не заказывает, сидит – глядит. А им известно: несметный богач, на своем корабле приехал. Опять приходит, за Катичкин столик сел, содовой воды потребовал. Сидит-попивает, на Катичку глядит-наблюдает, и спрашивает: кто вы такая, да как сюды попали? Она ему докладывает по ихнему языку, лучше сказать нельзя. Красавица, а он старый старик, ему и приятно разговаривать. Завтра опять приходит, опять – содовой воды. Богатый-разбогатый, а не расходуется. Грек и говорит Катичке: «растревожьте старичка на расход, вам от меня хорошая польза будет».
Заявляется опять – обед заказал, лучше нельзя. Рюмочку дорогого вина выпил, и Катичке: поддержите конпанию. Сразу ей тут вдомек, чего добивается, – короткой ноги. А грек ей мигает – растревожьте! А она – извините, я… – сказать сумела. Он и говорит вдруг:
«Простите меня, графыня…» – по фамилии назвал! Она ему – «извините, я не графыня…» – а он свое: – «не укрывайтесь, я досконально знаю, что вы высокого роду графыня… и вот вам письмецо».
И подает из бумажника хорошее письмо. Отошла почитать, видит – мисино письмо, от Кислой нашей. Воротилась, а старика и нет, на стол белую бумажку выклал, – сразу ей капитал очистился. Все барышни – «ах, счастье какое, влюбился в вас, свой у него корабль!» – то-се. И грек прибежал, – «ловите счастье, растрясите старичка и меня не забудьте!» А у них случаи бывали: за богачей и замуж вылетали, и так, в беззаконный брак, на подержание, карактер как дозволяет. Жизнь душу-то запутала. А он несметный богач, и автомобиль свой, с корабля спущен, вон какой. Показала им письмо, а они – «это он глаза отводит, смотрите, не промахнитесь». А миса у этого старика жила, у графа, с дочкой для конпании, а она померла, они с супругой и поехали горе размыкать, вот и приехали. А она старику все про нас… и в какой мы нужде, и бо-знать чего наплела, чуть мы не выше графов. А Катичка графова тоже роду, по мамочке… Ну, может, и маленькие графы, вы-то как говорите, а в коронах ходили… у них и носовые платки в коронах вышиты… Ну, известно, верно вы говорите, каждый может себе корону вышить, да… у них гусь в коронах летел, грамотка-то была, и в золотых книгах писаны, – этого простой какой человек не может. И такие, говорит, лю-ди… ежели пондравитесь, они вас, прямо, озолотят.
На другой день опять заходит. Покушал, – «хочу, – говорит, – на автомобиле вас покатать». Понятно, заопасалась: ну, завезет куда? старик-старик, а другой старик молодого хуже. Сразу понял, и говорит: «не опасайтесь, я вам в дедушку гожусь, и мне надо с вами говорить сурьезно». Поглядел грустно… – «на дочку, – говорит, – вы на мою похожи!» Ну, согласилась. А барышни ей строчат: «у него дворцы по всему свету!» А то завистовали – стращали: «он женатый, старуха у него на корабле безногая, требуйте обеспеченье зараньше». А грек свое: «не слушайте никого, ловите счастье, мы с вами тогда еще ресторан откроем».
Ну, по городу ее покатал, поговорили. Вынул бумажник, тыщу рублей бумажку и подает: «бедным вашим раздайте!» И еще: «моя супруга желает вас самолично видеть, поедемте сейчас на корабль». Она перепугалась: завезет на воду – уж не вырвешься, гордового не крикнешь. Она и говорит: никуда без няни не хожу. Похвалил: скромная вы, дайте мне ваш партрет, супруге показать. Завез ее домой, дала ему партрет. И уговорились завтра на корабль ехать, меня прихватить.
Ну, приоделись мы. Она черное платьице надела, – сиротка и сиротка. Взяла меня от турков на часок, и я прибралась, парадную шаль надела, и наколочку она мне, кружевную, прилично так. Познакомила нас со стариком. Старик – лучше и не сыскать: фасонистый такой, сразу видать – старинного роду граф. Он за нами в ресторан автомобиль подал. Уж так все завистовали!.. Грек старика под ручку подсаживает, а по морде-то видно, будто нас продает. А я молилась все. Ну, чисто в сказках…
Уж и не помню, как мы на белый корабль взошли.
Лакеи нас встречают, в чулка-ax, в синих куртках, пуговицы золотые. Кланяются нам низко-низко, подручку меня прихватили, а ее сам граф выводил, такая нам честь была. И все цветы-букеты, и повели по коврам в парадные покои. Гляжу – сидит на креслах барыня, зубастая, в шелку вся, седая-завитая, и с костылем… румяная, важная, и так вот… в золотое стеклышко на нас, стро-го!.. Катичка ей присела, ручку поцеловала, – ну, самая что ни есть хорошо воспитанная. А я, издали, ни-з-ко ей поклонилась… – стеклышком мне махнула, на кресла велела сесть. Страху я набралась, будто царица на меня смотрит. Ну, по-ихнему они поговорили, хорошо так. Катичка ни разочка не запнулась. Шикалат с пряниками пили, а потом нам корабль показывали, – ума решишься, какое же богатство. А барыня то на партретик поглядит, – дочкин, на столике у ней, хорошенькая такая, зубастенькая только, – то на Катичку на мою. И все ее так – «дитя моя», – Катичка говорила. Будто это у нас смотрины. А на другой день граф, его сиятельство, в ресторан приходит и говорит: «желаем мы с супругой в дочки принять достойную барышню-сироту, и вы нам по сердцу, поедемте с нами по морям, и потом вы скажете, можете стать нам за дочку?» Как с неба на нас упало. А она к Васеньке все рвалась, – ну, как ей ехать! Поблагодарила, – дозвольте, говорит, подумать. Ну, старик ей – «мы через месяц воротимся, и будем на дачах жить тут, вы нас узнаете досконально».
Уехали они. Стали мы гадать, как нам быть. И счастье такое выпадает, и страшно-то: от себя, будто надо отказаться, по их писаться, веру ихнюю принимать! А в ресторане так все и ахнули. Одни советуют – нипочем не отказывайтесь, милиены в руки сами даются, а другие завистуют – «разные бывают дочки!» А грек меня от турков сразу забрал и к посуде поставил, хорошее жалованье положил. А тут от Васеньки письмо: к Парижу подъезжает, скоро нас выпишет. А тыщу рублей, граф-то дал, Катичка нашим бедным всю раздала: святые деньги-то. Ждем – вот воротятся, решать надо. А они и не воротились… сном пришло – сном и вышло. А вот…
Двух недель не прошло, бежит грек, весь перекосился, как сатана, газетку сует – визжит: «а, шайтан… пропало наше счастье!» И что же, барыня, думаете… ихний корабль на мину наскочил! с войны на цепи сидела-плавала… сорвалась! Порохом его и разорвало. С другого корабля видали, – сразу они потопли, как камушек. Только скамейка выплыла. И уж плакала Катичка!.. Да не капиталов жалко, а люди-то какие… так нас и осветили в Костинтинополе этом страшном, будто они самые родные. Добрые-то все, родные… А было нам это в искушение. Ну, согласись мы тогда поехать!.. Будто заман: от себя словно отказаться, а это грех. Вон, приписываются теперь, из корысти, – разве годится так? Все одно, что от бедной матери отказаться, на чужую-богатую променять. Грек тут же меня в судомойки, и на Катичку стал кричать. А тут самое страшное и началось.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





































