Текст книги "Няня из Москвы (сборник)"
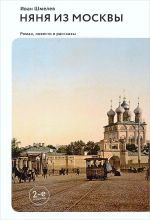
Автор книги: Иван Шмелев
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
XXXIV
К соседям я, а барыня бегает по даче с детской рубашечкой, к груди прижимает. Хавос у них, чемоданы, корзинки, девочки с куклами бегают, она кричит – «скорей, наши на пароход садятся, большевики подходят!» А девочка варенья банку в чемодане раздавила, текет варенье, барыня руки порезала, девочки ревут… – ну, какой тут совет спросить. Бегу домой, а на костылях офицерик наш, задохнулся, кричит – «Катерину Костинтиновну спасать!» Обрадовалась ему, повела к Катичке. Стал ее умолять. Она ему: «где полковник Ковров?» А он не знает. Идут, говорит, войска, на корабли. Он ее умолял!.. – «Вы не знаете, что в Ростове было, умоляю вас!» Она – никак! Он опять: доктора послали, велели вывезти, всем место будет, – она хоть бы словечко. Заковылял вниз, задохнулся, костылями машет. А с дороги уж слышно – автомобили гудят, подводы стучат, – у нас с заднего балкона сошу видно, – и пеши, и верхом, и на повозках, с узлами бегут, волы тянут, скрип-гам, конца не видно, чисто весь Крым поднялся. И не обедали мы, кусок в глотку не лезет. А садовничиха, гляжу, наши дрова к себе волокет. А я ей – «наши дрова, как ты так?!.» – а она себе тащит, скалится. И Агашка уж сундук с паликмахером наверх волокут, да Катичкину блузку под мышку себе поддела, – живой разбой. Заплакала я, – дожили до чего, среди бела дня грабят. Соседи, смотрю, на подводу поклались, поехали вниз, и солдатик хромой при них, и ихняя кошка с ними. Сердце во мне упало, – ой, страсти, идут на нас, бегут все, мы чего ж дожидаемся? Стала Катичку тормошить: приди в себя, Якубенку вспомни! Глядь, – вот я перепугалась! – верхом кто-то, через палисадник перестегнул, по кустам, по клунбам, на терасы чуть не вскочил, лошадь так на дыбы! А это татарин, деньги-то мне всучил. Зубами щелкает, коня лупцует, как демон страшный. Кричит, плеткой грозит – «барышню зови!» – выругал черным словом. И Катичка выбежала на шум… «Что вам нужно?» – кричит татарину.
«Начальник приказал на пароход вам сажаться, живо! – кричит на нее, плеткой машет. – За офицерями ходили, записаны у красных, плохо вам! Сейчас уезжайте, я слово дал!»
Она ему свое: «где полковник Ковров?» А он не знает. Воюет, говорит. Коня поднял, пуще закричал:
«Силой вас заберу, приказ мне, головой отвечаю… я слово дал!»
Стала и она кричать:
«Кто мог приказать? Нет у меня начальников!»
«Полковник Ковров велел! Я ему слово дал!»
«Где он?» – опять все свое. А тот свое:
«Этого не могу знать. Прорвались большевики, комендант депешу получил. Я слово дал, к ночи подводу пригоню, будьте готовы! – и пакет вынул. – Вам денег велено передать на дорогу, я слово дал!..»
Она не берет. Он тогда на ступеньку бросил. Глядь – садовничиха вертится, на деньги зарится. Не успела поднять, как он ее по спине плеткой щелкнул, она в голос. Мигнул мне – возьми. Подобрала я пакет. А Катичка – «где полковник Ковров?»
«Бог знает! – крикнул, как сумашедчий, – уцелел – уедет!»
Катичка закрылась ручками и пошла к себе. А татарин опять свое: «подводу пригоню, я слово дал!» – и через забор сиганул.
Пошла к Катичке, – она лежит, в потолок глядит. Спрашиваю – сбираться будем? Ни слова. А тут паликмахер прибежал, чего-то посушукался. Садовничиха ко мне. Ласковая такая, выспрашивает, едем ай не едем. Сказала: приказ писан, кто останется – тому место хорошее дадут, а кто поедет, корабли порохом взорвут. Пошла – под кофту себе Катичкин пуховой платок сунула. Догнала я ее, отбила. А паликмахер уселся в саду, – похоже, караулит. Стало темнеть – подвода заскрипела, и татарин тот, с ружьем, на коне. Гляжу – паликмахер в кусты шмыгнул, а татарин за ним, с гиком: «я тебя найду, черта!» И говорит мне: «этот сволочь самый вредный, зачем к вам в сады ходит?» Сказала – Агашкин сожитель это. Он и говорит: «уезжайте, уйдут добровольцы – вам не жить». Сказала Катичке, она мне: спроси, где полковник Ковров. А он все не знает. Так мы и не поехали. Уж татарин кричал-кричал, ругался, – никак. Щелкнул коня, взвил на дыбы, – «ну, Бог судит… я слово дал – ваша воля!» – умчал.
XXXV
Ну, думаю, на погибель остаемся. Взмолилась я Николе-Угоднику: вразуми-укрой, батюшка, проведи невредимо! Уж так я плакала, барыня, никогда так не плакала. Темный образок мой, а тут будто как ясный стал, будто живого сквозь слезы увидала. И как-то слободно на сердце стало. Ну, спокойна, нельзя спокойней. Буди Его святая воля.
А ночь све-этлая, месяц вышел. И тихо так, – то ветры были, а тут и листика не слыхать. И видно с дачи, как по морю огоньки идут, далеко уж. И гомон с городу слышно, и уж стреляют где-то. А по соше подводы за подводами, всю ночь гремели. С Катичкой я легла, не раздевалась. Бредила она все, душу мне истомила. Забылась я маленько… и сон я какой видала!.. Обязательно сказать надо… светать уж стало, чуть засинело, – Катичка за плечо меня: «нянь, убили его…» Вскочила я, не разобрала, – здесь кого-то убили? Ка-ак в стеклянную дверь с терасов стукнуть!.. – руки-ноги похолодели. Раз-раз! Катичка на постели села, за грудь схватилась, сердечко у ней – тук-тук… слышно даже. Опять – бац! Кинулась я к терасам, – Мать-Пресвятая-Богородица… страшный кто-то с ружьем стоит, мохнатый, и дверь трясет: «да отпирайте же, черрт!..» – черным словом, грозно так выругался, и стекла вылетели. Я – ай-ай, а это Васенька! Не узнала и голосу его. А он в этой, в мохнатой… да, в бурке, окликнул меня – «это я, няня!» Вбежал с пистолетом, за спиной ружье, под буркой, торчком. Лампу засветила, Катичка – ай! А он – как чужой, глазища страшные, пыльный, лика не видать. Катичка стоит в халатике, за двери ухватилась, а он – кричать:
«Почему не уехали? Последние мы проходим, завтра красные войдут, я своих бросил! сейчас же собирайтесь!..»
Катичка глазам не верит, не может вымолвить. А он ей:
«Что вы делаете, зачем? Осман мне навстречу выскакал, на дорогах искал меня! почему не уезжаете?!»
А она – как окаменела. Стукнул ружьем, с плеча у него упало, за руку ее схватил:
«Остаетесь? Знайте, вас я им не оставлю! Живым не дамся, и вас им живую не отдам!»
Она к нему ручки протянула.
«Нет, не останусь…» – только и сказала. Он ее подхватил, шибко она ослабла.
«Няня, – кричит, – самое нужное возьмите, сейчас подвода с Османом, посадит вас на пароход, бумаги у него. А я на Севастополь, к своим… – и опять, к Катичке: – Умоляю вас, дайте мне слово, я буду спокоен… найду вас, дайте слово, умоляю!..»
Она ему чуть слышно – «даю». И ручку протянула, и поцеловал он ручку. И поскакал, конь в саду у него стоял. Выбегла она на терасы, поглядела, как он помчал, и покрестила его. Вбежала, упала на коленки, молиться стала, заплакала. Обхватила меня, зацеловала, схватила Евангелие, – Анны Ивановны, папочка с ним скончался, – к грудке себе прижала … – «скорей, няничка, ничего не надо, только скорей, скорей…» Как так, ничего не надо, Агашке-то оставлять? Силы Господь дал, я в укладку свою да в два чемодана всего поклала… докторовы сапоги даже забрала – встретим и отдадим. И все ее патреты уложила, и яичек сварила, и маслица постного две бутылки забрала, и мучки с пудик отсыпала. Больше пуда пришлось оставить, вот я жалела как. Барыня, милая… да как же я не догадалась-то?! да мне бы все татарину тому подарить! Месяцу молится, а верный-то какой. Ведь он в рай попадет, в ра-ай… и спрашивать не будут, какой веры. Голову свою за нас клал. Да без него бы, может, и в живых-то нас не было. Ну, вот, возьмите… татарин, а и у него совесть есть. Только до месяца мог понять, а если бы он да Христа-то знал, в святые бы попал. Сколько я того татарина поминала, всегда за него молюсь. Просвирку, понятно, не вынешь за него, святого имя такого нет, Осман-то, – больше собак так кличут, – а за его здоровье, если жив, ем – поминаю. Все забрала, и весь ее гардероб, и белье все грязное забрала, а она все по даче тормошилась. Дров как мне было жалко, хорошие такие, сухие-дубовые… материю какую выменяла – не поносила. Уж Агашка-змея вертелась-завиствовала, и садовничиха-ехида, упрашивали подарить то-се, – ничего им не подарила, окромя дров, да мучки, да сушеных груш у меня было с пудик, да камсы оставила фунта три соленой. Вот, говорю, дача остается, грызите ее, у вас зубы жадные, грызите. А они лаются на меня: «грабители, все от нас забираете, для чужих!» – из рук рвут-выхватывают, я уж татарином пригрозила. Только успела увязать, – татарин и подкатил с подводой. Ни слова не сказал, забрал с парнишкой наше добро, нас усадил, – покатили мы с горы. А внизу уж к ранней благовестят. И на башенке на белой ихний татарин молитвы свои кричит, звонко так, и петушки поют… – будто и страху нет. Господне дело, страху оно не знает. И как же мне захотелось в церкву зайти, в последний разок помолиться. Думалось, – и церквы там нашей нет, куда завезут, – не знала ничего.
А сон я видала, барыня… как ехали мы с горы, я и вспомнила про сон-то, про раков этих страшенных. А вот.
XXXVI
Поехали мы с горы, а там кусты, глухое место, – кто-то по нам и выстрелил! Лошади-то шарахнулись, в канаву и свалили. Татарин наш скок в кусты – бац, бац! – пальба пошла. Сидим в канаве, лошадь одна храпит, из шеи у ней кровь. Садовничиха бежит с Агашкой, как воронье, – кричит: «я вам говорила, Бог вас и наказал!» Из проулка выбегли каки-то старики, ахают. А тут татарин наш, из кустов, кричит старикам: «большевик коня убил, нас хотел, а теперь сам падал!» А это паликмахера он ухлопал. Кричит еще: «закона теперь нет, сами будем закон делать!» А садовничиха с Агашкой вой подняли: «зятя нашего убил татарин!» А тут с палками бегут, дела не разобрали, кричат – «татарин русских убил!» Татарин ружьем пригрозил, зубами заскрипел, – так и шарахнулись. Что нам делать! Татарин кричит – «коней нет, бросайте добро, за мной, на пароход!» Садовничиха за чемодан схватилась, а нам только бы ноги унести. Бросили добро, только чуть отошли… и глаза не верят! – офицерик на костылях к нам, и ружье с ним, задохнулся, и еще два мальчишки, тележку катят. И кричит он: «от Красного Креста велено Катерину Костинтиновну вывезти!» Ну, Бог послал. Лазарет вчера еще уехал, а офицерик отписался и схлопотал. «Я, – говорит, – клятву дал, все раненые просили барышню Вышгородскую вывезти!» Поклали все на тележку, покатили с горы, пеши мы пошли, а татарин нас охранял, сбоку ехал. Так из-под смерти и ушли. А сон мне такой привиделся.
Иду будто я по полю. А поле – глина одна, склизкая-склизкая, и будто там топь, под глиной, дрожит земля. Гляжу – все кругом ямки, как вот пролуби пробивают, полны водой черной, вот через край плеснет, и что-то возится там, вылазит. Пригляделась, – в каждой пролуби огромадные, черные, головастые, чисто раки каки страшенные, пучеглазые, лапами выгребаются на глину, усищами водят, ищут. Бегу – себя не помню, вот меня за ноги ухватят. Куда ни гляжу – все раки эти страшенные, стерегут. Сигаю через ямки, чуть тропочку видать, и под ней будто колупаются, чисто вот наклевушек, цыпленок в яичко тюкает. И будто впереди церковь наша, Козьмодемьянская. И Катичка со мной, и голосок ее слышу – «няничка, выведи, спаси!» А я будто не я, а девчонка Дашка, гуси у меня за реку в огороды ушли, бегу за ними… схватила за руку Катичку, будто моя подружка, а тут овраг. А наши мужики, в новых полушубках, через овраг мост мостят, хорошие такие бревна, свежие, – кричат нам – «переходи, не бойся!» Катичка меня тут и разбудила, закричала. Вы, может, не верите, барыня, а я верю: намостят, барыня, мужики! Мне-то не дожить, Дашкой-то видала себя… душенька это моя увидит, – овраг перейдет по мосту, намостят мужики дорожку.
Небось, барыня, видали все, как от большевиков на пароходы убегали. Не видали. И хорошо, что не видали. Да, загодя вы уехали, вон как… по билету даже. А, с Батума ехали, вон как вы хорошо. Господь дал. В ка-ю-те ехали… ишь как хорошо, с удобствами. Да-да-да, причувствие имели… ишь ты, как хорошо. Катичка знакомых встретила здесь, так они когда еще перебежали, мы, говорят, зараньше причувствовали. И хороший у них дом тут, совсем к загранице приписались. Есть – и без горя обошлись, как кому тоже повезет. Да я не осужаю, барыня, и хорошие люди есть… вы вон скромно живете, барин в лавочке трудится. А я по своему глупому уму чего думала… Приедут на чужую сторону, и сирот подберут, и старых, и калек, в одно все и соберутся… да и со всего свету нам помогут. А тут вон работать уж не дозволяют, прогоняют. Повидала, всего я повидала.
XXXVII
Пришли мы вниз. На-ро-ду!.. вся набережная завалена, узлы, корзины, горой навалено, детишки сверху сидят, напужены. Все с бумажками тычутся, офицера с ног сбились, раненые больше, бумаги смотрят, куда-то посылают. А им кричат: «выехали все, не оставьте нас на погибель!» Офицера уговаривают-кричат: «всех заберут, еще пароход будет!» А публика не верит, друг дружку давят, офицерики все кричат, в растяжечку так, успокоить бы: «спокойствие! спокой-ствие! все уедут, войска не помешает, она на Севастополе садится». Бабочка одна как убивалась, чернобровенькая, с ребеночком… – «ох, мамочки мои, да иде ж мой-то, мой-то иде ж?» Казака своего разыскивала, а его вчера еще с лазаретом погрузили, а она в городе не была. Ну, взяли. Да много так, растерялись – не сыщутся. А то стали кричать:
«Заграничные пароходов не дают, министры приказали никого не увозить!»
Вот крик поднялся, министры-то не слыхали. И правда, барыня, хотели нас большевикам оставить. А морской генерал ихний, как получил такую бумагу, стукнул кулаком и по всем местам приказал – все корабли на Крым гнать! «Я, – говорит, – последний человек буду, ежели послушаюсь, а я совесть еще не потерял». И пригнал корабли. А то бы мы все погибли. Молюсь за него, имя только его не знаю, да Господь уж знает: «о здравии морского генерала, пошли ему, Господи, здоровья, в делах успеха!» А его за то министры со службы выгнали. Как узнали – оставят нас, – такое пошло, вспомнить страшно. Стали кричать – «убийцы, людоеды!.. христопродавцы!..» Офицера вскочили на ящики, и капитан в трубу закричал, всему городу было слышно: «спокойствие! все уедут! корабли идут!» Значит, все велел корабли давать. А народу все больше, на волах скарб везут, а им кричат: «бросайте добро, людей не поместим!» Женщины на узлы упали, умоляют: «дозвольте взять, с голоду помрем… знаем мы заграничных, как они обирали нас…» Татарин наш с бумагой прискакал, а к нему не пройти, давка, а он нам бумагой машет. Ну, добились до него. Офицерик и говорит, на костылях-то: «садитесь, вам пропуск от Красного Креста, вам в первую голову, больная вы сестра с бабушкой». А она – ни за что, пусть детишек наперед сажают. До темной ночи все мы на берегу, в давке, с раннего утра. Подходит наш татарин:
«Говорите правду, уедете на корабле?» Все он ждал-сторожил. Говорим – уедем беспременно. Стал прощаться, – «мне, говорит, по своему делу надо». Сказала Катичка только: «милый, Осман…» – и заплакала. Он ее по плечику погладил – «уезжай, барышня, живи… полковнику нашему скажи – в горы Осман ушел, помнить будет». И мне сказал: «и ты, бабушка хороший, прощай». Заплакала на него. Ружье при нем, пошел-зашагал, пропал. Ах, какой верный человек, до месяца дошел только, а лучше другого православного. Старушка на глазах закачалась – померла, от сердца. Внучек все кричал: «бабушка, подыми-ись!» Чего только не видали… Уж темно стало, с парохода свет на нас иликтрический пустили, сверху, из фонаря, – так по глазам и стегануло. И еще дальше корабль стоял, и с него пустили, по городу стегануло, на горы, как усы, туда-сюда. А это, говорили, сторожат, оглядывают вокруг, нет ли большевиков. И вдруг церкву нашу и осветили, крестики заблистали, ну, чисто днем. Я и заплакала, заплакала-зарыдала… – прощай, моя матушка-Россия! прощайте, святые наши угоднички!.. И нет ее, в темноте сокрылась, – на горы свет ушел.
Уж садиться, бес откуда ни есть взялся! Да как же вы уезжаете, на погибель, родину покидаете… мину, говорит, большевики пустили, взорвать хотят. Катичка ему при всех и крикнула: «ступайте дачу покойного Коврова грабить с вашими друзьями!» – так и отлетел, чисто скрозь землю провалился. Османа-то не было, а то бы в море его закинул, кривую душу.
К ночи еще корабль подошел, военный. А нас на такой погрузили, большой тоже. В яму нас опустили, каюты уж все позаняли. Вот-вот, в трюм. Темнота, духота, чуть лампочка светит, а в темноте крик, плач, кого уж тошнить стало, кто до ветру просится, а выйти никак нельзя, беспорядку чтобы не было. Наверху по бумагам пропускают, считают, сколько, ходу-то назад и нет. Как поднялись мы на пароход, глянула я на горы… – темные стоят, жуть, и огонечки кой-где по дачкам, сиротки будто. И свет все ползает, сторожит. Пождала я, вот, может, церкву опять увижу? Нет, так и не показалась. А под фонарями, на берегу, на-ро-ду… черным-черно. И не разобрать, что кричат, – гул и гул. Покрестилась я на небо, заплакала.
Забыла я вам, барыня, сказать… Это еще не сажались мы, пожилой человек прощенья у всех просил. Он учитель был, не то попечитель… с проседью, худой, длинная борода, на мученика похож, в очках только. И будто он за странника: котомочка за спиной, клюшка белая, панталоны в заплатках, сам босой. На ящике стоял, все кричал:
«Православные, прости-те меня! Дети мои, простите меня!.. – так все. – Погубил я вас, окаянный… попечитель был вам, всему народу учитель, и все мы были попечи-тели-учи-тели!.. А чему мы вас обучили? И все мы погубили… и все потли-или-и… – будто стонул, – на пустую дорогу вас пустили-и…»
А под ним офицера стояли, измучились, ранены, молоденькие все мальчишки, небритые-немытые, и с ружьями. А он плачет на них – «дети мои, простите меня, попечитель я был…»
Уж он свихнулся, с горя. Его офицер и прогнал с ящика, а то в море еще свалится. А раньше он образованный был, газеты все печатал, а тут другой месяц блаженный стал, – сказывали знающие. Как его один офицер, высокой, худой, поперек лица рубец темный… как его сдернет с ящика, – «поздно теперь болтать, как все сгорело… ступай, с большевиками болтай!» Никто и не пожалел. Да и правда, не время уж, какой же разговор тут, как всем могила готовится. А мне его жалко стало, все-таки он покаялся.
Говорили знающие – тоже, как покойник-барин наш, слободного правления хотел, а вот и оборвался, в странники пошел.
Ночью уж мы поплыли. На самом мы дне сидели, где товар вот возят, в могиле будто, и не видали, как Россия наша пропадала. Как загреми-ит, застучи-ит… – все мы креститься стали: отходим, говорят. «Царю Небесный» запели, «спаси души наши». И пошло тарахтеть, поплыли. Катичка, слышу, плачет. А рядом с нами старичок-повар ехал… у него сынок офицер тоже был… наказал уезжать с собой, а то убьют: у великих князей был поваром, старичок-то… – вот он и говорит, через силу уж:
«Господи… то все в России нашей жили, на солнышке… а вот, в черную яму опустили… довертели!..»
И в мешок головой уткнулся. И я ничего не вижу, застлало все… что уж и вспоминать.
XXXVIII
Да как же не горевать-то, барыня… собака – и та к дому привыкает, на чужом месте скучит, а человеку?.. Перво пришибло словно, а как очухалась, сразу и поняла, – не видать мне родной землицы! А вот… Старичок-повар в мешочках стал разбираться. В дыре-то у нас темно, он и шарит-елозит, охает. – «Что вы, – говорю, – батюшка, ай чего потеряли?» А он – «слава те, Господи, как же я напугался!» – и показывает кожаный кошель. Подумала – золото-серебро, пожалуй. А это землица, с собой везет! – «Помру на чужой стороне, меня и посыпют родной землицей, а своей будто и схоронюсь». Как сказал про землицу, так меня в сердце вот… – не видать мне родимой нашей! Гляжу на Катичку – платочек она кусает. Да нет, барыня… сердцем чую, – не достучит. Строгие капли пью. Доктор в Америке мне: «тихо, – говорит, – стучится».
Ну, ехали мы… У каждого горе, а надо всеми одна беда. Из вышних какие, – им и каютки… а кто пониже – тому полише. Да там не один был, этот вот… яма-то наша? да, трюм… а под нами еще была дыра, самая преисподня. И детишки кричат оттуда, и духотищей… – с души воротит. Ше-эсть тыщ народу корабль забрал, сказать немыслимо. Проповедь какую батюшка говорил… – «глядите, говорит, куда попали… в самую преисподню! и нету у нас звания – дукумента, а есть один дукумент – грехописание!..» И казаки были, и калмыки… два ихних старика-калмыка, рядом с нами валялись, икали все… и офицера больные, и хохлы были, хлебороды… всякого было звания. И всенощную под нами пели, вот я плакала! «Вышних Богу» запели, барышнев голоски слышно, из теми-то оттуда, из дыры, будто ангелы жалются: «Го-споди, Боже наш… Го-споди, Царь Небесный…» – до слез.
И всех позаписали. Стали говорить: про занятие дознаются – это уж чего-нибудь с нами сделают, – к арапам, может, отправят, золото копать. Они все так, с людоедами своими, кнутьями даже бьют! – знающие говорили: и нас за людоедов посчитают. Сироты, некому за нас вступиться: небо над нами, вода под нами, – только и всего. Правда, не все заграничные такие. Сербушки вон пенсию нашим калекам положили, ихний царь так и указал: «всех под крыло соберу-угрею». Помощник ходил-записывал, Катичке и посмейся: завезем вас на пустые земли к людоедам. Она и сказала: не до шуток нам. Очень на нее антересовался, бутенброты присылал, и шиколату, в каюту все предлагал, да она забоялась: меня он не пригласил.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





































