Текст книги "Няня из Москвы (сборник)"
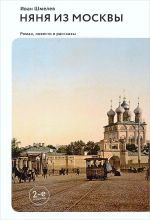
Автор книги: Иван Шмелев
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
XV
Ну – улитка и улитка. А то – «выметайся-выметайся», – чисто я пыль какая. Да любит она меня, а к тому говорю, чему ее научили, как с человеком обходиться. Не понимают, барыня… сущую правду говорю. Вот, барыня говорила-то: «для бедного сословия хлопочем!..» – а вон как схлопотали, себя не сыщешь. Умные будто хлопотали, а… с кого спросишь-то! Они из книжек все, жизни нашей не понимают, а книжки плохой, может, человек писал. А ведь я им верила, господам. Из заграницы приедут – вот нахваливают: чи-стый рай там, никого не обижают, все друг дружке вы-кают… и жалованье всем какое, и умные все, и благородные… у нас бы так! Раздумаешься, – несчастные мы какие, а там и бедных нет, нас-то за что обошел Господь!
Повида-ла теперь… в Крыму еще повидала заграничных. Все понятие повидали с Катичкой. Ни в жисть бы не поверила, расскажу вот. Барыня померла, не повидала, как меня, старуху, за ворот… да щеголи-то какие, на острова как нас вывезли из Крыма. Катичка так и ахнула, что они говорят про нас.
Стали нас выпускать… Это уж как мы сколько ден у берега качались, на корабле нас держали, от заразы будто. А которые говорили, – пускать нас не хотят, большевикам сдать чтобы. Ну, решили допустить… исхлопотал нас кто-то. А сколько-то тыщ казаков наших, потом уж это мы узнали, они к большевикам отослали, на муку-мученьскую. Хлебца им пожалели… А нас-то барыня… дочиста ведь ограбили! Мы сколько без хлебушка сидели на корабле, а округ нас на лодках ихние торгаши, хлебцем машут, выманивают!.. «Давай ба-ра-слет… кольцо давай, дипломат давай!..» – с голоду все отдашь. До ниточки раздели, у кого не было запасца. Повидали… Ну, стали выпускать. А мы все напужены, разорены, больные, лица на нас нет, немытые, семьи все поразбились… у того девочка померла, та мужа не найдет, у того мать-старушка кончается… – ну, самые мы несчастные. Да все тошнились, страшные мы расстрашные. Говорили нам – в рай сейчас попадем, так-то нас обласкают, все тут самые образованные. А я-то уж их знала, все пороги у нас обили, в Крыму, из Катички. А на берегу они и стоят, такие молодчики, хлыстами по сапогу бьют. И при них стража с ружьями, – для почета, говорили. Катичка и слышит, понимает ихний разговор… а они думают – все мы неучены, каки-нибудь арапы, не понимаем: «и чего к нам везут сброд этот… корми еще их, изменщиков!» Так Катичка и обомлела. А она огонь-порох, сердца не удержала, и крикни им… истинный вот Господь, она мне потом сказала:
«А вы утопите весь этот сброд, и не придется кормить! С младенчика и начните, с грудного вот!.. – на младенчика, правда, показала, – а потом вот старушку эту…» – и за руку меня к нему дернула, к молодчику-то с хлыстом. А тут мурластый один, в золотых тесемках, кулаком меня отпихнул, а другой за ворот дернул, к Катичке я рвалась. Стала она кричать: «Топите нас всех!.. утопите, утопите!..»
Напугалась я, ну-ка она упадет без памяти, бывало с ней. Те – от нее, картузы посняли, бормочут что-то, а она пуще пушит!
«Или рано еще топить?.. Не все карманы вывернули, пользы мало?! Лучше зарежьте, съешьте!..»
А потому… все ведь, барыня, знать надо, в Крыму что они разделывали. Показали они нам себя, как всякое добро на корабли волокли, за грош. Потом молодчики эти в гости к нам приходили, такие вежливые… ну, вот подите, лукавые какие.
Ну, хорошо… улитка и улитка. Ушел Васенька, накричала на меня – и давай по зале танцевать-напевать. А на сердце кошки скребут, по голоску уж слышу. Уж так я ее знаю, лучше себя. Попрыгала и ушла к себе, притихла. Послушала за дверью, – в поду шк и икает-плачет. Я так и знаю – примется меня звать. С детства у ней уж так: чуть что, и – ня-ня! Слышу – ну, как маленькая когда была: – «ня-ань… подии…»
Вошла, села к ней на постельку. Она одним глазком выглянула, – глазки-то у ней сухие.
«Скажи, не застрелится он от меня?» – в подушку, стыдно уж ей меня.
«Есть с чего стреляться! – говорю, – завтра за него первая графиня выскочит, не тебе чета… мигнет только».
Ну, чисто я нагадала! А вот, послушайте. Поулыбалась она как-то так, завела глазками… – «Завтра же прибежит».
И просчиталась, больше и не пришел. А она все окошки проглядела, два дни никуда не отлучалась. В телефон зазвонят, – так и бежит. А барин и прочитал в ведмостях, – на раненых брилиянтовый кулон пожертвовали, и пропечатано так – «от русской девушки», а по фамилии не сказано. Сразу и догадались. И всем пондравилось, благородно как поступил. И Катичке пондравилось. Поджала губки – и говорит:
«Как это красиво… я его уважа-ю…»
Я еще ей сказала:
«Не красиво, а доброе дело сделал… а красива-то лошадка сива. Нужно ему твое уважение, как же. И сиди без кулона, за тебя кто поносит. А это уж он, выходит, будто похоронил тебя».
«Как так похоронил?!»
«А так. После покойников все так, либо на церкву подают, либо на помин души бедным раздают. Вот он кулон за тебя на солдатиков и подал. А бес тот твой разве бы подал, – сам бы и прогулял. Какой-такой… а на стенке пришпилен, молишься на него».
Маленько поскучала. А барин очень хотели. Партия такая, и приданого не спрашивал, и человек хороший… А у барина долгов… сразу бы и покрыл. Он уж и проговаривался, с барыней когда. А Глафира Алексеевна еще и похвалила: умеешь, дескать, себя ценить. Королевича, что ли, ей, – ценить-то! Набили ей в головку… А я, про себя сказать, чего ждала… Богатства ихнего мне не надо. А так, думалось по-человечески… – вот, гнездо завьют, к Катичке перейду, за хозяйством поприсмотрю, детки пойдут… Да и на безалаберь ихнюю смотреть уж надоело, и к Катичке я привыкла. Она все мне, бывало, сулилась:
«Вот, нянь, погоди, выйду я замуж… я тебя успокою, не покину, в богадельню не отдам…» Это еще когда ей годков двенадцать было, вон когда, рассудительная была какая. «Я тебе сама глазки закрою, похороню тебя честь-честью, как Иван-Царевич серого волка хоронил…»
Что уж теперь, честь-честью… Свалят куда-нибудь, и лежи с чужими, никто и не придет. И земля тут словно какая-то ненастоящая, не наша. Ни вербочки не видать, ни березки… и цветочки не наши, и травка на нашу не похожа, и снежком не укроет на зиму, а все грязь… и не потает, бугорочков-могилок не покажет… Господи-Господи!.. Придешь, бывало, на Фоминой, на Даниловское… с Авдотьей Васильевной мы все хаживали, закусить с собой брали яичек крашеных, пирожков с яичками, кваску бутылошного. Весь день проведем, бывало, на могилках, родные у ней там схоронены, маргариточек мы сажали с ней. Че-ремухи, рябинки, бузина-а… и вербочки уж, зеленые-зеленые… и куриная слепота, и одуванчики желтые, и крапивка молоденькая, к заборчикам… на щи зеленые наберем дорогой… Весной пахнет, и грачи кричат, гнезда все по березам… весело так, и помирать-то не страшно. И крестики родные, и лампадочки где горят… тишь такая. А к вечерку как пойдем, у прудов заросли такие… Пасха ежели поздняя, соловушки поют! Ну, что ж это такое только!.. И везде народ, родное все, барыня… и на пьяненьких не обижаешься, весне-то рады. А тут… что уж и говорить. В церкви вон читают, придет день Страшного Суда, все воскреснем… – и очутишься бо-знать с кем, не в своей стае-то. Там, барыня, неизвестно, как очутишься, а думается так, по-живому…
Да-а, сама тебе глазки закрою… Одна осталась. А в богадельню, правда, идти мне не желалось. Барин меня все в богадельню обрекали, а там тоже не сладко, в какую попадешь, а в иной и наплачешься… карактерные старушки тоже бывают, с утра до ночи друг дружку поедом едят, сказывали бывалые, – вот и живи из милости. А я уж обыкла сама по себе, на полной воле, захочу, – к утрене пойду, захочу – самоварчик поставлю, чайку попью с теплым калачиком… Ну, так все и расклеилось.
XVI
Да как загостилась-то я у вас, барыня, разговорами занялась, а уж и темно скоро. Да как же так, ночевать… вас-то, боюсь, обеспокою? А барин не осердятся? Ну, дай им Господь здоровья. Уж такая голова, народу что кормили, на фабриках. Сорок тыщ?! Подумать страшно. И на всех хватало, каждого-то обдумать надо, на каждого припасти. Меня-то уж им где ж упомнить. Пройдут они, сурьезный-то-сурьезный, а мы так и затрепетаем, – как царь прошел. И граф Комаров вот тоже, какой неприступный был, расшитый весь, золотой, чисто икона в ризе, а теперь куколки вон красит. Ну, что ж, если не скучно, доскажу вам.
Сколько-то прошло, барин и узнал, – Васенька на войну охотой своей пошел. Катичка и говорит – это через нее он, отказала-то ему, – и словно приятно ей, глазки так заблестели. А барин все что-то уставать стал, и раздражительный, не дай Бог. Зачем-то его в в Петербург потребовали. Барыня мне шепнула – на казенное взаседание его позвали, царя сместить. Министры, говорит, все сгнили, а царь делом не занимается, с монахом с распутным все, – все вот и развалилось, барина и позвали дело поправлять. И на дворе стали говорить, – монах царицу заколдовал, немцам нас продают. А жили хорошо. Солдаткам от казны паек шел, и на детей выдавали. С нашего двора одна в кондукторши поступила на транвай, – видано ли когда! – и на заводы баб стали принимать – в бонбы пороху насыпали, по три рубли на день получали. А уж рядиться стали!.. – прямо все бабы посбесились. Кругом лазареты, писаря, шоферы… ну, и пошли крутить. В Кудрине у нас что только к вечеру на «пупке» творилось! А такой бульварчик круглый, «пупком» прозвали. Так и кружатся, как собаки, чистая срамота. Солдатики из лазаретов бегали, горничные, солдатки… уж наряд стали посылать, с ружьями, разгонять. Придешь к Авдотье Васильевне, желанной моей, чайку попить… дверь в магазин открыта, все и слыхать, какие все стали смелые: про царя говорят – слушать страшно. А Головков очень приверженный, хироносец был, и за царя стоял, за закон. Спориться начнут, а он горячий… – Авдотья Васильевна так и затрясется вся.
Барин приехал из Петербурга – все руки потирал, – «скоро, говорит, все перевернется!» Уж ему главное место обещали, докторово. А я, правду сказать, не верила, что хорошо-то будет. Ужли, думаю, и нашему барину власть дадут? И своих-то денег не усчитает, а с казенными и совсем пропадет. А к нам професыр ходил, в очках ничего не видел, и ему высокое место обещали, суды судить. Все, бывало, шутил со мной:
«Ну, няня, Богу за нас молись, всех твоих внуков обеспечим, все у нас по закону будет: и зевать, и чихать, и щи лаптем хлебать!»
И я ему, шуткой тоже:
«Да много законов писать придется, на нужное не хватит, батюшка».
На Катичкины именины представление у нас было, парадные гости были. Из Петербурга князь был, умный такой с лица, только все молчал, а все к нему с уважением. Барыня мне шепнула: «ндравится тебе, вот бы царя такого?» А я еще ей сказала – да как же так, царя… на всех похож, и страха никакого, ногу на ногу кладет, и Катичка ему глазками все смеется? Им, может, и хотелось царя такого, знакомого, а на царя-то он непохож. Так вот и остались безо всего. А Катичка чужую царицу представляла: вся спина голая, и перья на голове. И бес тот был, морда обсосана, представлять учил. Гляжу – все-то он за ней да за ней. А колидор у нас темный. Слышу – Катичка бежит. А я… за шубы я схоронилась, гляжу, – за плечики ухватил и в голую спинку целовать, взасос! А она только ежится. Я тут и не утерпела: «вы что ж, говорю, охальничаете, в хорошем доме?!» Катичка – ах! – кошкой от меня, а бес на меня, скоком:
«А, – говорит, – Агафья Матре-новна, – насмех так, – хорошо мы представляем, ндравится вам?»
Фукнул через губу, – все, с бесстыжего чего взять. Уж чем бы все это кончилось, если бы не Господь! А вот.
Дня три прошло, прибежала Катичка, сама не своя: шубка растерзана, в снегу вся, ботик потеряла, и плачет, и хохочет, ничего не понять. А к полночи уж, я с постели, помню, соскочила. На тройках с актерщиками, говорит, каталась и человека задавили, у Трухмальных Ворот, со страху с саней спрыгнула, ботик потеряла, и все. А барин опять чтой-то прихворнул. Звонок в телефон: из участка, барина требуют, в протоколы пишут. За голову схватился, покатил. А мы за Катичку принялись. Она и призналась. Значит, бес ее за заставу повез кататься, в Парки, и задавили человека, а она со страху убежала. Ну, хорошо. Воротился барин, лица нет. Шварк ей ботик и сумочку, и давай пу-ши-ить, никогда не ругался так. Что же оказывается! Троечник показал в участке. Значит, велел бес гнать, что есть духу, а сам – Катичку щекотать! Она с испугу-то завизжала, троечник и оглянулся, чего это барин барышню забижает… солдат и подвернись тут под лошадей, – в голову ему оглоблей, волосья и сорвало с полголовы. Лошади понесли, да городовой под коренника кинулся и повис, а то бы ускакали. Ну, в свистки, дворники набежали, а Катичка испугалась, выскочила, и ботик потеряла, и сумочку. Городовой сказал – с гулящих барышнев не взыскиваем, с кавалера взыщем. А в сумочке письмо было с нашим адреском, в участке и разыскали нас. Вот барин горячился!..
«За гулящую уж принимают! Я и без того болен, – за бок себя схватил, – я, – кричит, – этому… – слово сказал про беса, не слыхано от него! – он известный на всю Москву!.. – опять то слово, по женской части, – я ему всю морду исполосую!..»
Катичка на коленки… – «Папочка, ради Бога не страми… он знаменитый…»
А барин разошелся, глаза не смотрят. Вот, кто он… знаменитый! – и опять то слово. Со стыда я сгорела. И барыня на него – не желаю слов! Барыню пихнул, убежал в кабинет. Какой уж сон, к ранней заблаговестили. Гляжу – барина шубы нет. Приезжает в десять часов – краше в гроб кладут. Выбежали к нему, а он и показывает перчатку, хорошая, замшевая, как рукавица, – рука у него огромная была:
«Нюхай, Катерина!.. – первый раз Катичку так, – по его похабной роже щелкнул!»
«С ума ты сошел!.. – так и взвизгнули, – такую знаменитость!..»
Он в них и швырнул перчатку:
«Лижите, дуры! теперь эта перчатка знаменитая!..»
Цельную неделю вздорились. А я так и подумала: Господь это Катичку уберег, через солдатика. Посмирней она стала, и гад тот от нее отступился, барин-то постращал. Одну беду отвело – другая. И тут все беды и пошли, до самого конца.
XVII
Под Николин день было. Наши в теятры поехали, а я с Авдотьей Васильевной в Донской монастырь, ко всенощной. В одиннадцать воротились, и наши подъезжают, – рано что-то. Катичка – шубку шварк, побежала в зал, в темноте на роялях барабанить. А барин прилегли, устали. А она барабанит, она звонит!.. Сказала ей – ну, чего барабанишь, дала бы папочке отдохнуть. Как крышкой! – хлоп! – Мать-Пресвятая– Богородица!.. Барин вышли – «уймись, прошу тебя…» – будто застонул. А она, на весь-то дом… – «ах, надоели вы мне все!» – и убежала к себе. Барин с барыней стоят в столовой, барин бок потирает-морщится, и друг дружку упрашивают: «поди, успокой ее, узнай». А она заперлась. Ну, тихо стало. Пойду, думаю, послушаю, как она. Заскрипела полом, а она – «нянь, поди-и…» А дверь уж отперта. Села я к ней, а она зацапала меня, как маленькая, бывало, и затряслась. А я уж ее знаю – отплакаться ей надо, не тревожу. Отплакалась, оттряслась… слезки, как градинки, кру-упные, покатушки, – и глядит мне в глаза, спрашивает губками, а я все понимаю, чего спрашивает. Как горе у нас какое, маленькая когда была, мы все так играли. Я ей и пошептала бауточку: «дожжик в тучки, солнышко нам в ручки!» Она и улыбнулась, горе свое поведала: Васеньку в теятрах увидала! Офицер он, и медаль у него золотая, и он с палочкой, а под ручку с ним красавица такая… милосердая сестрица. И не поклонился даже. А барин ей и сказали: это, мол, известная графиня, из алистократов. Она расстроилась, и уехали из теятров. Не стала я ее старым корить, сама сокола проморгала. А она и говорит: «это они мне насмех, хоро-шо-о!..»
Ну, вот. Хочу и хочу сестрой милосердой. Обучилась скоро, в нашем лазарете занималась. В первый ее лазарет приняли, и графиня там служила. Недельку походила – бросила. Гордячки там, графини да княгини, а я, мол, простая-смертная, докторова дочка только. Барин и узнал правду. Приезжает, да, шубы не сняв, по столу кулаком!..
«Теперь вижу, какая ты дрянь ничтожная!» – в голос закричал.
Барыня на него – «сам ты мразь ничтожный!» Барин на них с кулаками, исказился весь:
«В гроб вогнали! печенки от вас болят, подохну скоро!..» – и на диван повалился, застонул.
И головой закопался. Шуба на нем завернулась, нога из брюки высунулась, – как сейчас вижу. Раздели мы его. Первый раз тогда горячий пузырь ему к боку приложили, сил нет терпеть, боль очень. Барыня напугалась, стала его целовать, урковать, – нельзя так запускать… Приехали доктора – печень, говорят, опухши, вина много выпивал, воду велели пить.
А правда вот какая оказалась. В лазарете графиня та служила, за старшую. Обучала, понятно, как-то: принесите то, подайте это, – дело сурьезное. А Катичка балована, забрала в голову: графиня, мол, хорохорится над ней. А тут пришла бумага – графине на войну ехать. Катичка и скажи, на людях: «женихов ловить ездят туда!» А графиня только и сказала: «жаль мне вас, как плохо вы воспитаны». Это барину пуще ножа было. Катичка градусником тогда в нее швырнула и в обморок упала. Ну, ее и уволили. Разве приятно барину! Тут на нас самая беда и навалилась.
XVIII
Сретенье, никак, было. Была барыня на балу, для раненых старались, и много мороженого съела, и стало у ней воспаление, оба бока гнилой водой налило, в трубочки выпускали доктора. И уж ребрушки стали гнить, два ребрушка вынули, на волосочке от смерти была. Уж ей кисловод дыхать давали. Стала смерть приходить, она уж ее зачуяла. Зачуяла она смерть, стала причитать: «ничего я не видала, ничего не вкушала, а самое хорошее начинается». А уж царя сместили, самый-то хавос начался, жить бы да жить, а она помирает. Кисловодом-то надышалась – такая блажная стала, страху на меня нагнала: так нечистый возля ее и ходит, слова непотребные велит. Другой помирает – покоряется, а она из себя выходит, проклинает. Ну, что мне делать, одна я при ней, уговариваю-утишаю. А уж все кверх ногами стало, все с лентами красными пошли по Москве ходить, песни поют… барина дома никогда нет, все взаседания казенные, правителями-то стали. И он тоже вот какой бант себе приколол красный, дострасти рад. А домой приедет – на бок горячий пузырь все клал. Радость пришла, а у него болезнь злая. Все телеграмму из Петербурга ждал – управлять его позовут, – а его не зовут и не зовут. И операцию стали ему советовать. Да барыня-то чуть жива, хочется все глядеть, по их все вышло, а и дыхать не может. Барин ей тоже бантик на кофточку приколол, а она лежит и плачет. Газету ей читал барин – какая счастливая жизнь открылась, все она так: «ах, хорошо! ах, замечательно-антересно!» – а поднять голову не может. А тут братец ее к нам пришел, Аполит, маленько выпимши, и супругу привел, портниху. И тоже с лентами. Дожили, говорит, до праздника, теперь все одинаки… давайте мириться, и вот моя супруга. Ну, раз такое дело, барин велел им чай пить остаться. Так при лентах и сели за самовар. А он уж высокую должность получил, все паровозы у него.
«Без меня, – говорит, – теперь никто ничего не может, все могу остановить сразу. И по всем дорогам могу ездить и вам могу билеты выправлять задаром, куда угодно».
И бумагу показал. Даже головой барин покачали. А доктора велели барыню в Крым везти. Аполит и пообещал в царском вагоне ее отправить, такая у него власть стала. А мне к Троице билет сулил. А портниха скромная такая, шепнула мне: «уж не знаю, куда нас вознесет, очень мы высоко поднялись, и Аполит Алексеич в министра хочет, очень я боюсь». Плакала даже. Это уж какой у кого карахтер. Аксюшка вон наша – «губернаторшей хочу быть!» – писарь ее смутил.
Ну, хорошо. А барыне совсем плохо. Сердце у меня изболелось за нее: ну, как мне ее приготовить? Пошла с Авдотьей Васильевной посоветоваться.
Прихожу в магазин, а она плачет – разливается. А у нас полицию все ловили. Всех жуликов-то повыпускали, они на полицию ножи и точили, натравливали охальников. Иду к Авдотье Васильевне, три дома от нас, а на моих глазах нашего городового и узнали! Он заслуженный был, весь в крестах, Бузаков фамилия. Храбрый такой, душегубов не боялся, а тут своих испугался. То хоронился, а стало потише – он и вышел поглядеть, знакомые шубу ему дали надеть, с барашковым воротником, – как всякий человек стал. Он высокий, шуба ему по колена, штаны гордовые и видать, синие. Его по штанам-то и схватали. Схватали – пистолет вот сюда приставили, трое бунтарей. Он на коленки встал, заплакал, стал на небо креститься: «братцы не губите душу, я такой же человек, русской, подначальный солдат!» Крикнула я на них – «к мировому вас, живодеров!» – они меня за ворот. А у нас судебный помощник жил, жуликов оправлял по суду, а тут за пристава стал, печатками все стучал. Он и отнял у живодеров: надо, говорит, щук ловить, а вы карася схватали. Отпустили, ничего. А барин в окошко видал, побоялся вступиться. А, бывало, за лошадь заступались, выбегали.
Прихожу, Авдотья Васильевна плачет, за мужа опасается. А сам Головков к Троице укрылся. Трое молодцов, воруют, говорит, почем-зря, так вот и разоряют помаленьку. А пристав новый, помощник-поверенный, что ни вечер, за закусками посылает, в долг все, а не дать нельзя, – власть, какая ни есть… да все дорогое требует: икры, мадеры, сыру ему швицарского, сарди-нков… И еще бездомный приют открыл, а денег у него нет. Он сразу три приюта открыл. И развел он у нас во-ров!.. Как ночь – так и разденут в переулке. Даже и его самого раздели, и пистолет отняли.
Спросила ее, как бы барыню поисправить, кончается. Она мне просвирку дала успенскую, телесные узы отверзает, на исход души, – в супец завместо сухарика покрошить. И растревожила она меня, не сказать: уж она все зараньше знала! А что вот останемся ни при чем. Каждый год в Оптину они ездили и в прошедчем году поехали. А старцев там не осталось уж, вывелись, один только пришлый старичок в овражке спасался. А как идти к нему, сон она видала. Лавка будто ихняя в дырьях вся, и без кры-ши… и полным-то-полна мукой, и мука в дырья текет, и все растаскивают. И приходит в большой сарай. А там вроде как престол, а на престоле наш царь сидит, словно в ризе, а округ головы лампадки все, и лик у него темный… От страху и проснулась. Пошла к старичку, а он от нее отворотился, – «в дорогу, говорит, сбирайся, все пусто будет, и снаружи, и снутри». И все. Ну, она и знала. Так мы и положили – в последнюю дорогу, помирать. Стали мы с ней плакать, она и говорит:
«А может, не про последнюю дорогу намекнул? У меня старинная книга есть, про судьбу, и вон что мне вычиталось, закладочкой я заложила».
И прочитала мне: «ноги твои спасут тебя». Вон как: ноги, значит, спасут, бе-ги. И я поантересовалась, мне-то чего выходит. А у нас недалеко гадальщик жил, и к нему публика ездила. Только он повесился. А у него по ночам в азартные карты играли. Забрали гадальные книги в участок, пристав одну и продал Головкову. Старая-престарая, и черепа там, и гроб со свечами, – страшная очень книга, колдунская. А она хорошо грамоте умела, Авдотья-то Васильевна, – она и разобралась. Сказала я ей, какой я масти, и годов мне сколько, – она и отыскала про меня. И что же, барыня… выгадалось, как вылилось! А вот, значит… «пройдешь многие земли и царства… и на кораблях плыть будешь, и…» – чего только не насказано! И огонь грозить будет, и пагуба, и свирепство, и же-ле-зо… а Господь сохранит. А ей – ноги твои спасут тебя. И что же, барыня… и ей ведь бежать пришлось! Ну, чисто вот мы в жмурки играем по белу-свету. Встретила ведь ее. Да только и поздороваться не пришлось, будто ветром нас разнесло.
Где это мы с Катичкой ехали? Мы в Париж поехали из Костинтинополя, скрозь все земли, Катичка мудровала все. Нас венгерский цыган провожал. Мы в ресторане кушали, а он в Катичку и влюбись. Пошел нас на поезд проводить, чемоданчик понес, да с нами и увязался, покуда его бумаги уж не годились, на гитаре все нам играл. Где вот Дунай-то река… с красным перцем там все готовят, паприка называется. Едем мы в вагоне, станция. Глянула я в окошечко, кваску не продают ли лимонадного, изжога с паприки этой поднялась, пить до смерти хочу… А насупротив другой поезд стоит. Тронулся он, и наши вагоны застукали. Ma-тушки! В окошечке-то, гляжу, – Авдотья Васильевна моя! Так я и обмерла. «Ма-тушки-и, Авдоть-Ва…» – И она увидала, ручками так всплеснула… – «Ма-тушки-и… Дарь Сте…» – и нет ее, увез поезд.
Высунулись мы, друг дружке помотали… – кэ-эк меня за ворот ктой-то сзади! А это цыган венгерской, а то бы мне голову разбило, об столб об железный, шурхнуло по платочку даже. Ну, верно-то как, – желе-зо грозить будет! – выгадалось-то мне. Не прицепись к нам венгерской-то, жива бы не была, все Господь. Так и разъехались, скоро три года вот. И в черном вся, и худая-худая… уж не помер ли у ней кто? Советовали в газетах напечатать, разыскиваю, мол… а Катичка – нонче-завтра, так и не пропечатала. Да что вы, барыня! как же я вам буду благодарна, и заплатить у меня найдется. Значит, Дарья Степановна, Синицына по фамилии, я-то. А ее – Авдоть-Васильевна Головкова. На лавочку баринову, вот спасибо. Уж такая желанная, такая… сразу и разговорит…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





































