Читать книгу "Солнце мертвых (сборник)"
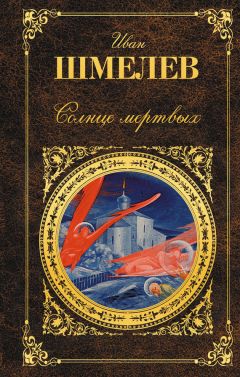
Автор книги: Иван Шмелев
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Нянины сказки
Когда же наконец солнце потонет за Бабуганом?! Скорей бы… Упадет ночь, звезды стрелками будут плавать в море. Только оно и будет. Ни дач, ни холмов, ни балок – темный порог за моим садом, а за порогом темное море в стрелках. Поверить можно, что где-то на океане, как Робинзоны. Только бы забыться – и поверишь. Никто не придет, не будет давить душу. Кончились люди, только кроткие курочки, павлин – райская птица. Серенькие «волчки», пичуги, будут деловито порхать, прятаться в кипарисах, утрами будут стрекотать сойки…
Как ни старайся – не отмахнешься. Вон за изгородью шаги, опять кто-то… Плохо начался день сегодня.
– Добрый день, барин!
Насмешка теперь это слово – барин! У ней не насмешка, а привычка. Это плетется из городка соседка-няня, идет – мотается. Одета оборванкой, на ногах дощечки. В руках охапка чубука и палок, которые она набрала дорогой, – все годится. Лицо испитое, желтое, глаза ввалились. С такими лицами выходят из больницы, после тяжкой болезни.
Я знаю, что она станет жаловаться, облегчать душу, и я не могу не слушать: ведь она – от народа, и ее слово – от народа.
– Что же это теперь будет?.. Хлеб-то сегодня… двенадцать тысяч! да и его-то нету! На базаре ни к чему не приступишься, чисто все облютели!..
Она пытает меня округлившимися от тревоги глазами, но… что тут скажешь?
– Иду-гляжу… сидит у Ялы народ, у пустых возов… убиваются – плачут! Чего такое?.. Вон что! На перевале остановили-обобрали… все-то все отняли, кто чего в степи выменял на последнее! Открытый разбой пошел… И на степи-то, сказывают, го-лод! Куда ж это все подевалось-то? Да степь-то наша валом завалена была, на годы прямо! Тить-ти какие дела пошли… а! Что уж рыбаки наши… вольный прямо народ… а и те заслабли! А какая теперь рыба! Камсы-то ждать… на весну ей ловиться, эн когда!..
Шура Сокол объехал горку, нагляделся на горы-море, вынул серебряный портсигар, закурил папироску – душистый табак ламбатский. Шажком прогуливает. Нянька поджала тонкие губы – выжидает, когда проедет, так и прощупывает глазами.
– Налился-то как… через хлещет! По три кружки одного молока дует! Вот ты и погляди-и… И курочки, и яички, и… И откудова что берется! А ты хоть тут подохни!.. Копеечки негде заработать. А бывало-то, бархатный-то сезон… Стиркой, бывало, да больше двух рублей заработаешь! А на базар-то придешь… горы! И сала тебе, и барашка, и яички… и красненькие-то, и синенькие, и… А хлеб-то какой был, пу-ух пухом!..
Скучно слушать, а она ищет у меня утешения, какого-то «слова верного». Нет у меня никакого слова. Я хочу оборвать последнее, что меня вяжет с жизнью, – слова людские.
– Ходила в этих вот… в советских садах работать… – полфунта хлеба! да какого! – одна мякина. Еще вина полбутылки. А денег нет, не отпечатали! Как, говорит, отпечатаем, тогда… А говори-ли-то-о!.. Озолотим на всю поколению! Вот и колей, поколение-то оно какое! А мне чего с детями полфунта? А по садам кто работает, с полбутылки валются… голодные! Ребятишкам вино дают, мальчишки пьяне-ошеньки… Всем, значит, помирать скоро?..
И я говорю ей «слово»:
– Что ж, и помирать придется.
Она даже бросает хворост.
– Да ведь обидно! Ни во что ведь вышло-то все! Насулили-намурили – берись теперь! Я про себя не говорю – детей жалко. Старшие у меня на ноги хоть стали, а эти!.. Барыня уже все распроменяла, вот-вот сама-то завалится… А что я вам скажу… – шепотком говорит нянька и все оглядывается, – комиссара вчерась убили, на перевале! Леня вчера в Ялтах был, слыхал. Продовольственный комиссар наш, на машине ехал… хотел с деньгами на родину тикать. Сичас из лесу выходют с ружьями… отчанные, не боятся! Ну, конечно, зеленые. Рангелевцы, не признают которые… Стой! Ершов фамилия? Все им известно! Долой слазь! Жену с детьми не тронули, отойти велели. А того сейчас цепями к машине прикрутили, горючкой полили и зажгли. Сгорел! Мы, говорят, за народное право, у нас, говорят, до всего досмотр!.. А?!
Она пытает меня жадными глазами, все «верного слова» ждет.
– А сейчас иду по бугорочку, у пристава дачи, лошадь-то зимой пала… гляжу – мальчишки… Чего такое с костями делают? Гляжу… лежат на брюхе, копыто гложут! грызут-урчат. Жуть взяла… чисто собачонки. Вот подкатило-подкатило – сблевала, простите сказать… да не емши-то… Ну, вот… за коврик бархатный три фунтика всего дали ячменьку… а завтра-то чего будем?.. Уж скорей бы!
Она машет рукой, забирает палки и уходит – качается, вот-вот споткнется. Не чует она, что скоро у нее случится, как будет варить кашу из пшеницы… с кровью! Или чует? Я теперь вспоминаю… В ее глазах был тогда неподдельный ужас… Часто говорила она о своем Лене – собирался на степь поехать, за что-то добыть пшеницы…
А еще совсем недавно она ждала, что всем раздадут и дачи, и виноградники, всем, как она, «трудящим», и будут они жить, как господа жили. Наше будет! Слыхала она «верное слово», как орал матрос на митинге:
– Теперь, товарищи и трудящие, всех буржуев прикончили мы… которые убегли – в море потопили! И теперь наша советская власть, которая коммунизм называется! Так что дожили! И у всех будут даже автомобили, и все будем жить… в ванных! Так что не жись, а едрена мать. Так что… все будем сидеть на пятом этаже и розы нюхать!..
Ну, вот. Ступай и бери: виноградники, и сады, и дачи, все – бесхозяйное, все – пустое!
– А ведь забыла! – окликает нянька. – Иван Михалыч вам кланяться наказали, зайтить хотели! На базаре попался. Вот уж страсти! Не узнала и не узнала… – рваный, грязный, на ногах тряпки наверчены, еле идет с палкой. Гляжу, – старичок какой-то нищий стоит у ларя, у грека, кланяется – просит… а грек и говорит: «Господин професхор, пожалуйте вам!» В корзиночку ему три грецких орешка положил и картошек пару. Матушки! Иван Михалыч! А дача-то какая у них была! Я ведь на них стирывала, бывало. Книг полна комната, и все-то пишут! А теперь с голоду помирают, ста-аренькие стали. Признали меня и говорят: «Вот, Тимофевна, народушко-то наш праведный за труды-то мои как отблагодарил! на пенцию-то мою воробьиный мне паек выписал!» Ведь это как сказал-то! И верно, что вы думаете… дураки-то мы, ничего не разумеем… Какой такой воробьиный? «А по фунту хлеба… на месяц!» Что вы думаете, верно! «Вот и бумажка с печатью всенародной прислана». Вынул бумажку, греку подал, а сам все кланяется, трясется. Стал грек разбирать-читать, еще подошли люди. Верно! По тыще рублей на месяц, насмех! А хлеб-то нонче… двенадцать тысяч фу-унт! Говорить стали которые, а тут с ружьем подошел, прислушал. «Над нашей властью смеешься, старый черт?» И всякими словами! Тебе, говорит, сдохнуть давно пора, а ты еще за народным хлебом трафишься! И всех разогнал. Да еще грозился подвалом! Какой народ дерзкий… А какая дача-то была-а…
Ушла наконец. В Глубокую балку уйти? Рубить, рубить… А павлин и там слышен. Солнце словно заснуло, за Бабуган не хочет. А, Жаднюха заявилась, на мои руки смотрит… Ага, у меня миндалек, вот что. Я разламываю его на крошечки. Ну, поди ко мне, ласковая моя. Давай-ка сядем, и я расскажу тебе сказочку…
Я усаживаюсь на краю балки, сажаю Жаднюху на колени и тихо глажу. Она начинает заводить глазки.
…Ну, слушай. Жил-был Иван Михайлыч, писал книжки. По этим книжкам и мы с тобой учились. Потом про Ломоносова писать начал. Ты, Жаднюха, даже и про Ломоносова не знаешь, как и Тимофевна, хоть ты и умная русская курочка… Тебе бы только миндалек есть. Ничего, ты честная курочка, и если тебя кормить, ты к Рождеству непременно отплатила бы мне яичком. Верно? Не спишь, плутишка… Знаю тебя, ты гордая курочка. Говорить только не умеешь. А если бы ты умела говорить… Ну, спи. С голоду спится. Так вот, про Ломоносова… Даже и премию ему дали… Была у нас в Питере такая Академия наук… Буржуи, конечно, там всякие сидели, «ученая рухлядь» всякая… Жаль, далеко ты не ходишь, а то бы послушала, как там, внизу, умные парнишки объясняют! Ну, вот эта самая «ученая рухлядь» за Ломоносова-то премию Ивану Михайлычу дала, медаль золотую. Ну, и… золотую медаль у него грек купил, который ему орешка-то положил, или татарин там, или еще кто… за пуд муки. Вот ты легонькая какая стала, и Иван Михайлыч тоже… совсем облегчился, и остались у него только… ничего не осталось, один Ломоносов в голове! И стал Иван Михайлыч за хлебом по горам лазить, как ты по балкам. За уроки ему платили щедро: полфунта хлеба и хорошее полено! Чего ты испугалась! Ляля-то кричит… У меня спи спокойно, не дрожи… Да, полено. Очень уж он полену-то радовался! Человек старый, холодно зимой про Ломоносова-то писать, а за дровами-то в балку надо. Куда ему зимой в балку! А скоро и поленья перестали давать: некому и учиться стало, голод. И вот, на прошенье Ивана Михайлыча – прислали ему бумагу, пенсию! По три золотника хлеба на день! А знаешь ли что, Жаднюха… да уж не спутали ли они? Может, это они про тебя прознали, что на горке такая умная курочка живет-голодает… да тебе и назначили?.. Ты чего опять? Мало, что ли?! Три-то золотника?! Тебе бы, дурашке, гордиться надо… Вот и рассказал тебе сказочку. Ну, гуляй. Ишь как Лярва-то прекрасно гуляет! Гуляй и ты.
Ковыляет по павлиньему пустырю, за балкой, хромая рыжая кляча – остов. Пройдет шага два – и станет. Понюхает жаркий камень, отсохшее, колкое перекати-поле. Еще ступит: опять камень, опять желтенькая колючка. Отведет голову на волю – море: синее и пустое. Отвернется, ступит. На ее боках-ребрах грязной медью отсвечивает солнце.
Это – кобыла Лярва, с дачи под пустырем, где старый Кулеш стучит колотушкой по железу, выкраивает из старого железа новые печки – в степь повезут обменивать на картошку. Давно не запрягает ее хозяин. Надорвалась весною, как возила тощенького старичка покойничка на кладбище, – с тех пор хиреет. Ходит старуха хитро, упасть боится. Упадет – не встанет. Приглядывается к ней Вербина собака, Белка: чует.
Умирающие кони… Я хорошо их помню.
Осенью много их было, брошенных ушедшей за море армией добровольцев. Они бродили. Серые, вороные, гнедые, пегие… Ломовые и выездные. Верховые и под запряжку. Молодые и старые. Рослые и «собачки». Лили дожди. А кони бродили по виноградникам и балкам, по пустырям и дорогам, ломились в сады, за колючую проволоку, резали себе брюхо. По холмам стояли-ожидали – не возьмут ли. Никто их не брал: боялись. Да и кому на зиму нужна лошадь, когда нет корму? Они подходили к разбитым виллам, протягивали головы поверх заборов: эй, возьмите! Под ногами – холодный камень да колючка. Над головой – дождь и тучи. Зима наступает. Вот-вот снегом с Чатырдага кинет: эй, возьмите!!
Я каждый день видел их на холмах – там и там. Они стояли недвижно, мертвые и – живые. Ветер трепал им хвосты и гривы. Как конские статуи на рыжих горах, на черной синеве моря – из камня, из чугуна, из меди. Потом они стали падать. Мне видно было с горы, как они падали. Каждое утро я замечал, как их становилось меньше. Чаще кружились стервятники и орлы над ними, рвали живьем собаки. Дольше всех держался вороной конь, огромный, – должно быть, артиллерийский. Он зашел на гладкий бугор, поднявшийся из глубоких балок, взошел по узкому перешейку и – заблудился. Стоял у края. Дни и ночи стоял, лечь боялся. Крепился, расставив ноги. В тот день дул крепкий норд-ост. Конь не мог повернуться задом, встречал головой норд-ост. И на моих глазах рухнул на все четыре ноги – сломался. Повел ногами и потянулся…
Если пойти на горку – глядеть на город, увидишь: белеют на солнце кости. Добрый был конь – артиллерийский, рослый.
Лярва подобралась к веранде, где вонючие уксусные деревья. Вытянулись деревья – не даются. Так и будет стоять, пока не возьмет хозяин. Ходит за ней павлин, поглядывает на ее хвост-мочалку – а пока землю долбит.
Некуда глаза спрятать…
По горам тени от облачков, играют тенями горы. Посветлеют и потемнеют.
Про Бабу-Ягу
Я сижу на обрыве. Черная стена шифера падает в глубину – там в ливни шумят потоки. Вид отсюда – на весь Уголок внизу. Там, вдоль пустынного пляжа, уныло маячат дачки, создававшиеся любовно, упорным трудом всей жизни – тихий уют на старость. Там – весь Профессорский Уголок, с лелеянными садами, где сажались и холились милые розы, привитые «собственною рукой». Где кипарисами отмечались этапы жизни, где мысль покоряла камень. Где вы теперь, почтенные созидатели – профессора, доктора, доценты, – насельники дикого побережья земли татарской, близорукие и наивные, говорившие «вы» – камням? кормильцы плутов-садовников, покорно платившие по счетам мошенников всех сортов, занятые «прохождением Венеры через диск солнца», сторонники «витализма и механизма», знатоки порфиритов и диоритов, продумыватели гипотез, вскрыватели «мировой тайны»? Продумали вы свои дачки и винограднички! Без вас решены все тайны. Ваши дворники волокут на базар письменные столы и кресла, кровати и умывальники; книги ваши забрал хромой архитектор, а садовники ободрали ваши складные стулья и нашили себе штанов из парусины. Плюнули в кулаки – махом одним сволокли «рай» на землю! Где вы теперь, рассеянные мечтатели?..
Бежали – зрячие. Под землю ушли – слепые. «Читают» что-то за воблу, табак и полфунта соли – уставшие.
Дачки, дачки… Из той вон, серой, с черепичной крышей, взяли семерых моряков-офицеров доверчивых, – угнали за горы и… «выслали на Север»… А в этой, белой и тихой, за кипарисами, милый старичок жил, отставной казначей какой-то. Любил посидеть у моря, бычков ловить. Пятилетняя внучка камушки ему приносила:
– А вот сельдолик, дедя!
– Ну какой это сердолик! Нет, не сердолик это, а… шпат!
– Спать… А какой сельдолик, дедя?
– Такой… прозрачный, как твои глазки. А сейчас мы бычка изловим… Вот и поищи сердолика… а вот и бычок-шельмец!
Любил ранним утром, когда так хорошо дышать, пойти с травяной сумочкой на базар, за помидорчиками и огурчиками, за брынзой… Так и попался с сумочкой. Пришли люди с красными звездами, а он, чудак, за помидорчиками на базар идет, на синее море любуется, синий дымок пускает.
– Стой, тебе говорят, глухой черт! Почему шинель серая, военная? погонная?!
– А… донашиваю, голубчики… казначеем когда-то был…
– Чем занимаешься?
– Бычков ловлю… да вот, на базар иду. На пенсии я теперь, от Белого Креста пенсию получаю… вольный теперь казак.
– С Дону казак? За нами!
И взяли старичка с сумочкой. Увезли за горы. Сняли в подвале заношенную шинель казачью, сняли бельишко рваное, и – в затылок. Плакала внучка в пустой дачке, жалели ее люди: некому теперь за помидорчиками ходить, бычков ловить… Чего же, глупая, плакать?! За дело взяли: не ходи за помидорчиками в шинели!
Некуда глаза спрятать…
Вон, под Кастелью, на виноградниках, белый домик. До него версты три, но он виден отчетливо: за ним черные кипарисы. Какие оттуда виды, море какое, какой там воздух! Там рано расцветают подснежники, белый фарфор кастельский, и виноград поспевает раньше – от горячего камня-диорита, и фиалки цветут на целую неделю раньше. А какие там бывают утра! А сколько же там дроздов черных поет весною, и как там тихо! Никто не пройдет, не проедет за день. Вот где жить-то!..
Вчера ночью пришли туда – рожи в саже. Повернули женщин носами к стенке: не подымать крику! Только разве Кастель услышит… Последнее забрали: умирайте. А на прощанье ударили прикладом: помни! А этой ночью вон за той горкой…
Поторкивает-трещит по лесистым холмам – катит-мчит. Автомобиль на Ялту? Пылит по невидимой дороге. В горы, в леса уходит. Автомобили еще остались, кого-то возят. Дела, конечно. Без дела кто же теперь кататься будет! Я смыкаю глаза в истоме, дремотно, сквозь слабость слышу: то наплывает, то замирает торканье. Грохот какой ужасный, словно падают горы. Или это кровью в ушах гудит, шумит водопадами в голове… С чего бы это? Кружится голова – вот-вот упадешь, сорвешься. А, не страшно. Теперь ничего не страшно.
Я опираюсь на кулаки, вглядываюсь к горам сквозь слабость. Зеленое в меня смотрит, в шумах – дремучее… Погасает солнце, в глазах темнеет… Ночь какая упала! Весь Бабуган заняла, дремучая. Дремучие боры-леса по горам, стена лесная. Это давние, те леса. Их корни везде в земле, я их вырубаю м́укой. О, какие они дремовые – холодом от них веет, лесным подвалом! Грызть-продираться через них надо, железным зубом. Шумит-гремит по горам, по черным лесам-дубам – грохот какой гудящий! Валит-катит Баба-Яга в ступе своей железной, пестом погоняет, помелом след заметает… помелом железным. Это она шумит, сказка наша. Шумит-торкает по лесам, метет. Железной метлой метет.
Гудит в моей голове черное слово – «метлой железной»! Откуда оно, это проклятое слово? кто его вымолвил?.. «Помести Крым железной метлой»… Я до боли хочу понять, откуда это. Кто-то сказал недавно… Я срываю с себя одолевшую меня слабость, размыкаю глаза… Слепящее солнце стоит еще высоко над раскаленной стеной Куш-Каи, зноем курятся горы. Катит автомобиль на Ялту… Да где же сказка?
Вот она, сказка-явь! Пора наконец привыкнуть.
Я знаю: из-за тысячи верст, по радио, долетело приказ-слово, на синее море пало:
«Помести Крым железной метлой! в море!»
Метут.
Катит-валит Баба-Яга по горам, по лесам, по долам – железной метлой метет. Мчится автомобиль за Ялту. Дела, конечно. Без дела кто же теперь кататься будет?
Это они, я знаю.
Спины у них – широкие, как плита, шеи – бычачьей толщи; глаза тяжелые, как свинец, в кровяно-масляной пленке, сытые; руки-ласты могут плашмя убить. Но бывают и другой стати: спины у них – узкие, рыбьи спины, шеи – хрящевый жгут, глазки востренькие, с буравчиком, руки – цапкие, хлесткой жилки, клещами давят…
Катит автомобиль на Ялту, петлит петли. Кружатся горы, проглянет и уйдет море. Высматривают леса. Приглядывается солнце, помнит: Баба-Яга в ступе своей несется, пестом погоняет, помелом след заметает… Солнце все сказки помнит. И добела раскаленная Куш-Кая, плакат горный. Вписывает в себя.
Время придет – прочтется.
С визитом
Опятъ я слышу шаги… А, какой день сегодня!
Кто-то движется за шиповником, стариковски покашливает, подходит к моим воротцам. Странная какая-то фигура… Неужели – доктор?!
Он самый, доктор. Чучело-доктор с мешковиной на шее – вместо шарфа, с лохматыми ногами. Старик доктор Михайла Васильич – по белому зонтику признаешь. Правда, зонтик теперь не совсем белый, в заплатках из дерюжки – но все же зонтик. И за нищего не сойдет доктор: в пенсне – и нищий! Впрочем, что теперь не возможно?!
Да, доктор. Только не тот старичок доктор, у которого индюшка расколотила чашку, – тот на самом тычке живет, повыше, – а другой, нижний доктор, из садов миндальных. Чудесные у него сады были! Жил он десятки лет в миндальных своих садах, жил одиноко, глухо, со старухой нянькой, с женой и сыном. Химией занимался, вегетарианил, опыты питания над собой и семьей делал. Чудак был доктор.
– А, доктор!..
– Добрый день. Вот и к вам, с визитом. Хорошо здесь у вас, высоко… далеко… не слышно…
– А чего слушать?..
– Мне доводится-таки слушать… матросики у меня соседи, с морского пункта, за морем наблюдают. Ну, и… приходится слушать всякие поэтические разговоры, эту самую «словесность». Да, язык наш очень богатый, звучный… Как у вас тихо! никаких таких звуков, в стороне от большой дороги. Да у вас прямо молиться можно! Горы да море… да небо…
– Есть и у нас звуки и… знаки. Прошу, доктор!
Мы садимся над Виноградной балкой – в дневном салоне.
Эй, фотограф! бери в аппарат: картинка! Кто эти двое на краю балки? эти чучела человечьи? Не угадаешь, заморский зритель, в пиджаках, смокингах и визитках, бродящий беспечно по авеню, и штрассам, и стритам. Смотри, что за шикарная обувь… от Пиронэ, черт возьми! от поставщиков короля английского и президента французского, от самого черта в ступе! Туфли на докторе из веревочного половика, прохвачены проволокой от электрического звонка, а подошва из… кровельного железа!
– Практичная штука, месяц держит. На постолы татарские не могу сбиться, а все мои «европейские» сапоги и ботинки… тю-тю! Слыхали – все у меня изъ-я-ли, все «излишки»?.. Как у нас раз-де-вать умеют! ка-ак у-ме-ют!.. что за народ способный!..
Я слыхал и другое. Отняли у доктора и полфунта соломистого хлеба, паек из врачебного союза.
– Да, кол-ле-ги… Говорят коллеги, что теперь «жизнь – борьба», а практикой я не занимаюсь! А «нетрудящийся да не яст»! И апостола за бока, на потребу если…
Он смотрит совсем спокойно: жизнь уже за порогом. Совсем белая, кругло подстриженная бородка придает его стариковскому лицу мягкость, глазам – уютность. Лучистые морщинки у глаз и восковой лоб в складках делают его похожим на древнерусского старца: был когда-то таким Сергий Преподобный, Серафим Саровский… Встреть у монастырских ворот – подашь семитку.
Доктор немного странный. Говорят про него – чудашный. Продал недавно участок миндального сада с хорошим домом, выстроил себе новый домик, «из лучинок», а остаток денег выменял на катушки ниток, на башмаки и на платье.
– Ведь деньги скоро ничего не будут стоить!
И вот у него отняли все катушки, все штаны и рубашки – все «излишки». В этом году он похоронил старуху няньку, сумасшедшего сына Федю и жену – недавно.
– Наталья Семеновна моя всегда была строгая вегетарианка, и вот, цингой заболела. Последние дни – все равно, думаю, опыт кончен! – купил я ей на последнее барашка, котлетки сделал… С каким восторгом она котлетку съела! И лучше, что померла. Лучше теперь в земле, чем на земле.
У доктора дрожат руки, трясется челюсть. Губы его белесы, десны синеваты, взгляд мутный. Я знаю, что и он – уходит. Теперь на всем лежит печать ухода. И – не страшно.
– А слыхали, какой я ей оригинальный гроб справил? – прищурился-усмехнулся доктор. – Помните, в столовой у нас был такой… угольник? оре-хо-вый, массивный? Абрикосовое еще варенье стояло… из собственных абрикосов. Ах, что за варенье было! Четыре банки они этого варенья взяли, все, что было. Конечно, абрикосов они не растили, варенья этого не варили, но… они тоже хотят варенья, а потому!.. Конечно, это уже другая геометрия… Евклид-то уже, говорят, провалился с треском, и теперь по Эйнштейну… Да, о чем это я?.. Вот так память!..
Доктор потирает вспотевший лоб и смотрит виновато-жалко. Я его навожу на мысли.
– А, угольник… Наталья Семеновна очень его ценила… приданое ведь ее было! И звали мы его все – «Абрикосовый угольник»! Понимаете вы отлично, как в каждой семье милые условности свои есть, интимности… поэзия такая семейная, ей одной только и понятная! В вещах ведь часть души человеческой остается, прилипает… У нас еще диван был, «Костей» звали… Студент-репетитор на нем спал, Костя. И «Костю» забрали… Забрали у меня, например, портрет отца-генерала… единственное воспоминание! «Генерала забрать!» Забрали! И генерал-то мирный, ботаникой занимался…
– Так вы про угольник, доктор…
– Да-да… Когда мы еще молодые с ней были… Неужели это было?! Лет тридцать тому приехали мы сюда, и я засадил пустырь миндалями, и все надо мной смеялись. Миндальный доктор! А когда сад вошел в силу, когда зацвел… сон! розовато-молочный сон!.. И Наталья Семеновна, помню, сказала как-то: «Хорошо умереть в такую пору, в этой цветочной сказке!» А умерла она в грязь и холод в доме ограбленном, оскверненном… Да, со стеклянной дверцей, на ключике… Право, нисколько не хуже гроба! Стекло я вынул и забрал досками. Почему непременно шестигранник?! Трехгранник и проще, и символично: три – едино! Под бока чурочки подложил, чтобы держался, – и совсем удобно! Купить гроб – не осилишь, а напрокат… – теперь напрокат берут, до кладбища прокатиться!.. а там выпрастывают… – нет: Наталья Семеновна была в высшей степени чистоплотна, а тут… вроде постели вечной, и вдруг из-под какого-нибудь венерика-кошкоеда или еще хуже! А тут свое, и даже любимым вареньем пахнет!..
И он запер свою Наталью Семеновну на ключик.
– Хотели бандаж мой взять! ремни приглянулись… Забыли! А у меня бандаж… по моему рисунку у Швабе сделан! Теперь ни Швабе… ни… один Грабе! Все забрали. Старухины юбки, нянькины – и то взяли. «Я, – говорит, – с трудом пошилась!» Швырнули одну: «Ты, – говорят, – раба!» Все гармоньи взяли. Я туляк, еще с гимназии полюбил гармонью… Концертные были, с серебряными ладами… Затряслись даже, как увидали… Гармонь! Тут же и перебирать один принялся… польку…
Штаны на докторе – не штаны, а фантастика: по желтому полю цветочки в клетках.
– Из фартуков няниных, что осталось. А внизу у меня дерюжина, да только в краске, маляры об нее кисти, бывало, вытирали. А пиджачок этот еще в Лондоне был куплен, износу нет. Цвет, конечно, залакировался, а был голубиный…
Я всегда думал, что пиджак черный, с кофейной искрой.
– Это все пустяки, а вот… все градусники у меня отобрали, и максимальные, и… Три барометра было, гигрометр, химические весы, колбы… Реактивы хотели… – думали, что настойки! Схватили бутылку – спирт!! Да нашатырный! Буржуем обозвали.
– А который теперь час, доктор?
– Декрет! – пугливо-строго говорит доктор и поднимает черный от грязи палец. – Часы теперь строго воспрещены, буржуазный предрассудок!
Нет, он не собирается уходить. Он переполнен своим и разбрасывает «излишки».
– Но я без часов могу, потому что читал когда-то Жюля Верна…
Он прищуривается на солнце, растопыривает пальцы и глядит в развилку. Он поматывает пальцем то к Кастели, то к седловине за Бабуганом.
– Помните, у Жюль Верна… Сайрус Смит в «Таинственном острове» или Паганель!.. Как это давно было, и как все-таки хорошо, что было, и у нас тогда они не изъяли книги! И я в том же роде изловчаюсь. Могу до пяти минут с точностью, если солнце… Сейчас… без десяти минут час. Мысленными линиями по вершинам, зная максимальную высоту… А вот в туман или вечернее время… по звездам еще не изловчился. Ах, как без часов скучно! У нас все по часам было. Ложились без четверти десять, вставал я в половине пятого ровно. И сорок уже лет так. Трое часиков было – взяли. Английские очень жаль, луковицей. Старинные лорды такие часы любили, часы на совесть. Но какая история роковая!.. Неужели вам не рассказывал?! Необходимо опубликовать. Это о-чень важно, в предупреждение человечеству! Чрезвычайно важно!..
– Ну, расскажите, доктор!









































